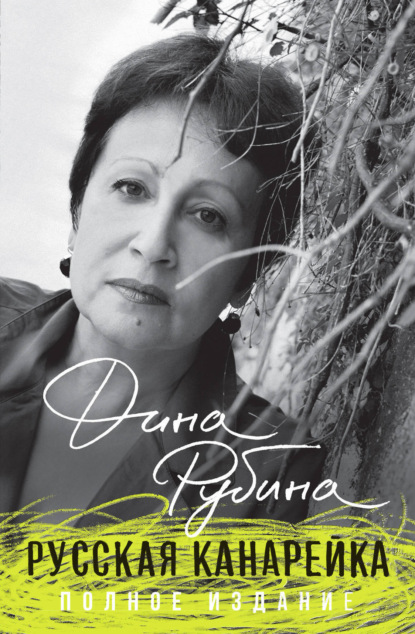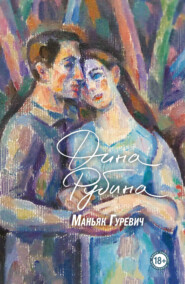По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русская канарейка
Автор
Год написания книги
2014
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В ту секунду, когда палец нажал на спуск, что-то эфемерное пронеслось в кадре: воздушно-пестрый сор, досадно запорошивший поле снимка. Она подняла голову: стайка аполлонов, протанцевав вокруг ели, поднялась еще выше и скрылась порхающим косяком.
Девочка аккуратно уложила камеру в гнездо из куртки и, пока не вернулся Момент Силыч, бродила неподалеку, то и дело оборачиваясь и посматривая на фотоаппарат в задумчивом волнении.
Дня через два (Айя еще не вернулась из школы) к ним домой нагрянул Момент Силыч. Был он торжествен, даже строг и всем видом изображал серьезные намерения. Илья, который в ту минуту был страшно занят в подвале – рассаживал молодых самцов по клеткам, – удивился, обеспокоился, но все же предложил кофе. И пока молол зерна в ручной мельнице, пока топтался у плиты в ожидании, когда подойдет пенка, его волнение росло, набухая самыми невероятными предположениями, – еще бы: едва знакомый человек вваливается, с порога объявив, что дело касается «вывашей девочки».
Вернувшись в столовую с полной джезвой и керамическими чашками, он увидел, что фотограф сидит все так же прямо, с тем же грозным видом, положив на стол ладони, большими пальцами придерживая меж ними фотографию, точно та могла подняться в воздух и улететь. И молча, значительно, заговорщицки – глазами и подбородком – указывал на снимок. Что, черт возьми, панически пронеслось в голове у отца, может быть там зафиксировано?
На снимке – Илья мысленно сразу назвал его «Поклонение идолам» – высились три исполинских кедра, под которыми кто-то (не Айя, не Айя! – первым делом, и почему-то с облегчением) стоял на коленях в высокой траве, словно молясь божеству.
Илья как-то сразу успокоился и стал уже внимательней рассматривать тонкую, будто просвеченную солнцем девичью спину, мощные, зримо шевелящиеся ветви раскидистых кедров, брызги солнца на траве и кустах…
И – удивительно, как это удалось фотографу; видимо, снято мастером, а может, это какой-то трюк? – по всему снимку была рассыпана целая пригоршня крупных аполлонов с желтовато-белыми крыльями в черных и алых крапинах. Весь снимок – сквозистый, крапчатый, с густо перемешанными, танцующими бликами солнца, с танцующей стайкой аполлонов – был пронизан невыразимой красотой и грустью угасающего дня.
Так и не понимая, зачем ему предлагают изучить этот и вправду удачный кадр, Илья продолжал разглядывать фотографию. Трудно было отвести взгляд: в этом небольшом прямоугольнике была такая многозначная глубина и высота неба, такой ощутимый объем невозвратного мгновения…
– Ну, кы-как? – спросил фотограф. – Хороша фы… фы-оточка?
Илья поднял голову и посмотрел на него.
– Это не фоточка, – медленно отозвался он. – Это картина.
– Правильно! – с торжественным нажимом воскликнул Момент Силыч и забарабанил пальцами по столу, держа паузу, как заправский актер. – А автор ее – вы-ваша дочь!
* * *
Потом Айя приспособилась к его брызжущей пунктирной речи, и когда уж совсем они были накоротке – так, как могут быть близки только настоящий учитель и настоящий ученик, – она бесцеремонно заставляла его повторять то, чего не поняла. Если же сидели в темноте, проявляя снимки, и она не видела его лица (темнота – враг глухого) – просто клала руку ему на плечо, прослушивая замечания.
Он вел кружок фотографии в подвале Дворца пионеров на Березовского, недалеко от школы. Кроме Айи туда ходили еще двое, студенты художественного училища Миша и Ваня, великовозрастные бывшие пионеры, которые так и застряли навеки в лаборатории Момент Силыча. Время от времени они отпрашивались покурить, взбегали по ступенькам и пропадали на крыльце минут на двадцать. Деятельный Момент Силыч не мог остановить просветительский гон. Усаживался напротив Айи и громко (свято верил, что, если повысить голос, она хоть что-то услышит) говорил:
– Вот пы-первая заповедь фотографа: никакая деталь не может быть ценнее целого! Ты должна будешь учиться всю жизнь, как завещал вы-великийленин: сначала ти-техническая сторона, потом кыкомпозиция… уличная, репортажная съемка… А кы-когда ты ры-рыщешь в поисках кадра, тебе главное – что? не ти-терять ни секунды… Правильно снятый кы-кадр зависит от пы-равильно подобранной оптики и пы-правильно подобранной пы-ленки. Здесь в чем фишка? Помимо угла охвата есть пропасть ты-тонких градаций: стекло, например. Есть портретные, есть пы-пейзажные объективы. И оба не годятся для, возьмем, натюрморта… У профи – как? Никакого объектива с пы-переменным фокусным расстоянием – они заранее хуже самых пы-простых «фиксов». У профи кы-каждый объектив сидит на своем аппарате, все под рукой, все зы-заряжено, все готово к мгновенной съемке. И если гы-гребец на реке или птичка на дереве далеко, профи снимает с плеча другой аппарат, с длиннофокусным стеклом…
Он вскакивал и бегал, забывая, что каждую минуту для разговора обязан предъявлять ей лицо. Тогда она ладонью требовательно стучала по столу. Он останавливался, будто пес по команде хозяина «стоять!», и, бормоча «извини-извини», возвращался на место.
Через полгода занятий Момент Силыч снова явился «к отцу» – угрожающе серьезный, гремуче-деятельный, опять выбрав время, когда девочка в школе, будто речь должна пойти о сугубо щекотливом предмете.
Отверг кофе, уселся за стол и заявил решительно:
– Вы-вот что. У меня ды-две новости: хорошая и пы-плохая. Кы-какую выбираете?
– Хорошую, конечно, – улыбаясь ответил Илья, уже все понимая про этого человека, чья личность, высказывания и даже заглазная кличка в последние месяцы буквально поселились у них в доме: «А вот Силыч говорит, что…»
– Ладно. Так вот: девочке пора пы-ереходить на сысредний формат, то есть на широкую пленку.
– Понятно, – сказал Илья, ничего не понимая. – Это хорошо. Что для этого требуется?
– Зы-занять деньжат, – ответил Момент Силыч. – Это кы-как раз ны-новость плохая. На девочке хорошо будет смотреться шведский «Хассельблад» или хотя бы японская «Бы-броника»…
После чего он расслабился, потребовал кофе покрепче и сы-сахару не жалеть и еще с полчаса громовым голосом – очевидно, Силычу казалось, что при глухой дочери и отец туговат на ухо, – распространялся «о плюсах и минусах», вроде проблемы выбора кадров, серийной съемки со скоростью, близкой к кино, что полезно при нестатичных сы-сюжетах…
Илья дважды варил ему кофе, стараясь поспевать за объяснениями – вроде того, что «с малого формата не все угадаешь, потому что в бы-большом формате снимок приобретает неожиданные ны-новые качества». И дважды – по звону ложки о стакан – отлучался к бабушке, которая ядовитым шепотом требовала «немедленно унять этого горлопана и зануду».
Потом из школы пришла Айя, и беседа завернула на новый круг – уже совсем Илье непонятный.
Фотоаппарат (пленочный, конечно же, только пленочный) – собирались купить на Барахолке – огромной нижней части города (не доезжая до кладбища на Рыскулова – и вниз). Больше этого торжища был только Бишкекский Дордой. Барахолка тянулась в необозримую даль: целый караван базаров, свободно переходящих один в другой, с названиями, годными для имен дорогих верблюдов: Рахат, Аль-Фараби, Болашак, Европа, Барыс-3, – страна чудес, где торговали с контейнеров, прилавков, табуретов, рюкзаков, досок, положенных на кирпичи, с расстеленных на земле газет… Место, где можно было купить всё, с серьезным видом увлеченно добиваясь мизерной цены. Можно было купить и золотые украшения – вопреки распространенному мнению, что золото на базаре серьезные люди не покупают. Однако именно серьезные люди покупали здесь и золото тоже, уверяя, что на Барахолке оно в три раза дешевле, чем в городе. И чем дальше от дороги, тем ниже были цены, проще товар, грязнее и у?же проходы между рядами.
Само собой, продавалось здесь и все, что относилось к фотоделу.
Дважды Илья с дочерью ездили на Барахолку и, сбивая ноги, обходили все круги ада, пока не впали в отчаяние: хорошая камера в любом случае стоила не меньше «Жигулей», даже подозрительная, даже явно ворованная… а зы-занять деньжат было решительно не у кого: толстосумы в друзьях семьи никогда не числились. Да и с чего отдавать – с бабушкиной пенсии? с мизерной зарплаты Ильи? с небольших доходов от продажи молодых самцов-кенарей?
Но тут (не было бы счастья, да несчастье помогло, и несчастье немаленькое) скоропостижно умер Ефим Портник, штатный фотограф газеты «Караван», классный профессионал, всегда обвешанный великолепной аппаратурой. Был он уже человеком очень пожилым, но поджарым и гончим, как и полагается настоящему фотокорреспонденту; казалось, Фиме сносу не будет. Но умер он в одночасье, упав прямо на редакционной летучке, не допив своего крепчайшего кофе, не докурив сигареты.
Илья не стал бы соваться на свежее горе к Фиминой вдове, но – неисповедимы пути слухов и связей городских – подсуетился, как всегда, Разумович, через всех знакомый со всеми. И Клара Григорьевна позвонила Илье сама и пригласила прийти; подчеркнула: с девочкой.
– Я вообще-то не хотела ничего продавать, – сказала она при встрече.
Они сидели у Фимы дома, в комнате, где все вокруг говорило о его профессии, о беспорядочной стремительности его хищного ремесла, а о Кларином горе говорили только темные круги под бессонными глазами на ее спокойном лице.
– Не хотела продавать. Так и жила бы со всем вот этим… будто он еще вернется. Но Разумович рассказал о вашей девочке, и… я не знала, Илья, не знала, и мне бы хотелось помочь. Словом, забирайте.
– Как – забирайте? – спросил он в замешательстве. – Но… я хотел бы знать цену… всему этому сокровищу.
– Берите так, – устало и спокойно проговорила она. И он возмутился, вскочил, она тоже поднялась, и минут пять они хватали друг друга за руки, спорили, оба сердились, и настаивали, и соглашались, и категорически отказывались. Айя в это время, нисколько не смущаясь, осматривала шикарное фотохозяйство, разложенное на двух просторных, углом составленных столах. (Сразу выудила с полки и отложила в сторону две книги: «25 уроков фотографии» Микулина и справочник «Фотосъемка и обработка» автора с экзотической фамилией Яштолд-Говорко.)
В конце концов Илья Клару уговорил, настоял, что будет платить в рассрочку, небольшими ежемесячными суммами.
(Он и платил два года, и выплатил достойную, как считал, цену, а лет через пять случайно узнал действительную цену всем этим предметам – и ужаснулся. Но Клара Григорьевна к тому времени ушла вслед за своим Фимой, так что некому было ни доплачивать, ни даже вслед прокричать свою нижайшую благодарность.)
Так или иначе, Айя оказалась с богатым наследством на руках.
Оно включало: крутой автофокусный «Никон F5», превосходный советский «Киев 88» (содранный, как сказал Момент Силыч, заводом «Арсенал» со шведского «Хассельблада» один в один), раритетный увеличитель «Ленинград» с объективом «Индустар-50У», профессиональный «Беларусь» с системой тяжелых штанг и пружин и с особым столом, по которому ездит тубус увеличителя, если вращать колесико с ручкой. (Сооружение громоздкое, но качественное – еле втащили в дом, испугав бабушку. Та воскликнула:
– Еще одна исповедальня!
– До известной степени, – пробормотал внук.)
Ну и прочая обворожительная мелочовка: набор кювет для проявки-промывки и закрепления, старое фотореле в деревянном корпусе, с никелированными тумблерами установки времени, пинцеты для бумаги, бачки для проявки, фонарь для печати с набором цветных стекол и, наконец («Кому это нужно?» – удивился Илья), старый, с полусожженными полотнищами льна, глянцеватель.
Проявитель и фиксаж пахли по-разному; фиксаж отдавал восхитительной кислятиной, похожей на запах старой грибницы.
Момент Силыч прибежал, целый вечер сидел, в упоении перебирая хозяйство, бегал по комнате и даже для него необычно много и бурно говорил; вдруг спохватывался и, крутнувшись на каблуке, вытаращивал лицо навстречу Айе, которая вовсе его на сей раз не слушала (она вообще со временем навострилась понимать, когда стоит обращать на Силыча внимание, а когда нет).
– Эх, вот раньше… Небось помните, Илья, какие кыкамеры стояли в фотоателье: стационарные, большеформатные, на ты-треногах! Затвора вообще не было. Фотограф, как фы-фокусник, снимал с объектива крышку, делал такие изящные пы-пассы рукой, пока пы-птичка пролетала, и закрывал объектив. А качество тех старых сы-снимков – не-прев-зойден-ное! Куда там нынешней технике…
Так в их жизнь вошли новые предметы, понятия, разговоры и даже окрас быта – то, что всегда сопутствует возникновению Страсти.
Бабушка к новому повороту событий отнеслась настороженно. Сказала:
– Две страсти в одном доме – многовато.
Девочка аккуратно уложила камеру в гнездо из куртки и, пока не вернулся Момент Силыч, бродила неподалеку, то и дело оборачиваясь и посматривая на фотоаппарат в задумчивом волнении.
Дня через два (Айя еще не вернулась из школы) к ним домой нагрянул Момент Силыч. Был он торжествен, даже строг и всем видом изображал серьезные намерения. Илья, который в ту минуту был страшно занят в подвале – рассаживал молодых самцов по клеткам, – удивился, обеспокоился, но все же предложил кофе. И пока молол зерна в ручной мельнице, пока топтался у плиты в ожидании, когда подойдет пенка, его волнение росло, набухая самыми невероятными предположениями, – еще бы: едва знакомый человек вваливается, с порога объявив, что дело касается «вывашей девочки».
Вернувшись в столовую с полной джезвой и керамическими чашками, он увидел, что фотограф сидит все так же прямо, с тем же грозным видом, положив на стол ладони, большими пальцами придерживая меж ними фотографию, точно та могла подняться в воздух и улететь. И молча, значительно, заговорщицки – глазами и подбородком – указывал на снимок. Что, черт возьми, панически пронеслось в голове у отца, может быть там зафиксировано?
На снимке – Илья мысленно сразу назвал его «Поклонение идолам» – высились три исполинских кедра, под которыми кто-то (не Айя, не Айя! – первым делом, и почему-то с облегчением) стоял на коленях в высокой траве, словно молясь божеству.
Илья как-то сразу успокоился и стал уже внимательней рассматривать тонкую, будто просвеченную солнцем девичью спину, мощные, зримо шевелящиеся ветви раскидистых кедров, брызги солнца на траве и кустах…
И – удивительно, как это удалось фотографу; видимо, снято мастером, а может, это какой-то трюк? – по всему снимку была рассыпана целая пригоршня крупных аполлонов с желтовато-белыми крыльями в черных и алых крапинах. Весь снимок – сквозистый, крапчатый, с густо перемешанными, танцующими бликами солнца, с танцующей стайкой аполлонов – был пронизан невыразимой красотой и грустью угасающего дня.
Так и не понимая, зачем ему предлагают изучить этот и вправду удачный кадр, Илья продолжал разглядывать фотографию. Трудно было отвести взгляд: в этом небольшом прямоугольнике была такая многозначная глубина и высота неба, такой ощутимый объем невозвратного мгновения…
– Ну, кы-как? – спросил фотограф. – Хороша фы… фы-оточка?
Илья поднял голову и посмотрел на него.
– Это не фоточка, – медленно отозвался он. – Это картина.
– Правильно! – с торжественным нажимом воскликнул Момент Силыч и забарабанил пальцами по столу, держа паузу, как заправский актер. – А автор ее – вы-ваша дочь!
* * *
Потом Айя приспособилась к его брызжущей пунктирной речи, и когда уж совсем они были накоротке – так, как могут быть близки только настоящий учитель и настоящий ученик, – она бесцеремонно заставляла его повторять то, чего не поняла. Если же сидели в темноте, проявляя снимки, и она не видела его лица (темнота – враг глухого) – просто клала руку ему на плечо, прослушивая замечания.
Он вел кружок фотографии в подвале Дворца пионеров на Березовского, недалеко от школы. Кроме Айи туда ходили еще двое, студенты художественного училища Миша и Ваня, великовозрастные бывшие пионеры, которые так и застряли навеки в лаборатории Момент Силыча. Время от времени они отпрашивались покурить, взбегали по ступенькам и пропадали на крыльце минут на двадцать. Деятельный Момент Силыч не мог остановить просветительский гон. Усаживался напротив Айи и громко (свято верил, что, если повысить голос, она хоть что-то услышит) говорил:
– Вот пы-первая заповедь фотографа: никакая деталь не может быть ценнее целого! Ты должна будешь учиться всю жизнь, как завещал вы-великийленин: сначала ти-техническая сторона, потом кыкомпозиция… уличная, репортажная съемка… А кы-когда ты ры-рыщешь в поисках кадра, тебе главное – что? не ти-терять ни секунды… Правильно снятый кы-кадр зависит от пы-равильно подобранной оптики и пы-правильно подобранной пы-ленки. Здесь в чем фишка? Помимо угла охвата есть пропасть ты-тонких градаций: стекло, например. Есть портретные, есть пы-пейзажные объективы. И оба не годятся для, возьмем, натюрморта… У профи – как? Никакого объектива с пы-переменным фокусным расстоянием – они заранее хуже самых пы-простых «фиксов». У профи кы-каждый объектив сидит на своем аппарате, все под рукой, все зы-заряжено, все готово к мгновенной съемке. И если гы-гребец на реке или птичка на дереве далеко, профи снимает с плеча другой аппарат, с длиннофокусным стеклом…
Он вскакивал и бегал, забывая, что каждую минуту для разговора обязан предъявлять ей лицо. Тогда она ладонью требовательно стучала по столу. Он останавливался, будто пес по команде хозяина «стоять!», и, бормоча «извини-извини», возвращался на место.
Через полгода занятий Момент Силыч снова явился «к отцу» – угрожающе серьезный, гремуче-деятельный, опять выбрав время, когда девочка в школе, будто речь должна пойти о сугубо щекотливом предмете.
Отверг кофе, уселся за стол и заявил решительно:
– Вы-вот что. У меня ды-две новости: хорошая и пы-плохая. Кы-какую выбираете?
– Хорошую, конечно, – улыбаясь ответил Илья, уже все понимая про этого человека, чья личность, высказывания и даже заглазная кличка в последние месяцы буквально поселились у них в доме: «А вот Силыч говорит, что…»
– Ладно. Так вот: девочке пора пы-ереходить на сысредний формат, то есть на широкую пленку.
– Понятно, – сказал Илья, ничего не понимая. – Это хорошо. Что для этого требуется?
– Зы-занять деньжат, – ответил Момент Силыч. – Это кы-как раз ны-новость плохая. На девочке хорошо будет смотреться шведский «Хассельблад» или хотя бы японская «Бы-броника»…
После чего он расслабился, потребовал кофе покрепче и сы-сахару не жалеть и еще с полчаса громовым голосом – очевидно, Силычу казалось, что при глухой дочери и отец туговат на ухо, – распространялся «о плюсах и минусах», вроде проблемы выбора кадров, серийной съемки со скоростью, близкой к кино, что полезно при нестатичных сы-сюжетах…
Илья дважды варил ему кофе, стараясь поспевать за объяснениями – вроде того, что «с малого формата не все угадаешь, потому что в бы-большом формате снимок приобретает неожиданные ны-новые качества». И дважды – по звону ложки о стакан – отлучался к бабушке, которая ядовитым шепотом требовала «немедленно унять этого горлопана и зануду».
Потом из школы пришла Айя, и беседа завернула на новый круг – уже совсем Илье непонятный.
Фотоаппарат (пленочный, конечно же, только пленочный) – собирались купить на Барахолке – огромной нижней части города (не доезжая до кладбища на Рыскулова – и вниз). Больше этого торжища был только Бишкекский Дордой. Барахолка тянулась в необозримую даль: целый караван базаров, свободно переходящих один в другой, с названиями, годными для имен дорогих верблюдов: Рахат, Аль-Фараби, Болашак, Европа, Барыс-3, – страна чудес, где торговали с контейнеров, прилавков, табуретов, рюкзаков, досок, положенных на кирпичи, с расстеленных на земле газет… Место, где можно было купить всё, с серьезным видом увлеченно добиваясь мизерной цены. Можно было купить и золотые украшения – вопреки распространенному мнению, что золото на базаре серьезные люди не покупают. Однако именно серьезные люди покупали здесь и золото тоже, уверяя, что на Барахолке оно в три раза дешевле, чем в городе. И чем дальше от дороги, тем ниже были цены, проще товар, грязнее и у?же проходы между рядами.
Само собой, продавалось здесь и все, что относилось к фотоделу.
Дважды Илья с дочерью ездили на Барахолку и, сбивая ноги, обходили все круги ада, пока не впали в отчаяние: хорошая камера в любом случае стоила не меньше «Жигулей», даже подозрительная, даже явно ворованная… а зы-занять деньжат было решительно не у кого: толстосумы в друзьях семьи никогда не числились. Да и с чего отдавать – с бабушкиной пенсии? с мизерной зарплаты Ильи? с небольших доходов от продажи молодых самцов-кенарей?
Но тут (не было бы счастья, да несчастье помогло, и несчастье немаленькое) скоропостижно умер Ефим Портник, штатный фотограф газеты «Караван», классный профессионал, всегда обвешанный великолепной аппаратурой. Был он уже человеком очень пожилым, но поджарым и гончим, как и полагается настоящему фотокорреспонденту; казалось, Фиме сносу не будет. Но умер он в одночасье, упав прямо на редакционной летучке, не допив своего крепчайшего кофе, не докурив сигареты.
Илья не стал бы соваться на свежее горе к Фиминой вдове, но – неисповедимы пути слухов и связей городских – подсуетился, как всегда, Разумович, через всех знакомый со всеми. И Клара Григорьевна позвонила Илье сама и пригласила прийти; подчеркнула: с девочкой.
– Я вообще-то не хотела ничего продавать, – сказала она при встрече.
Они сидели у Фимы дома, в комнате, где все вокруг говорило о его профессии, о беспорядочной стремительности его хищного ремесла, а о Кларином горе говорили только темные круги под бессонными глазами на ее спокойном лице.
– Не хотела продавать. Так и жила бы со всем вот этим… будто он еще вернется. Но Разумович рассказал о вашей девочке, и… я не знала, Илья, не знала, и мне бы хотелось помочь. Словом, забирайте.
– Как – забирайте? – спросил он в замешательстве. – Но… я хотел бы знать цену… всему этому сокровищу.
– Берите так, – устало и спокойно проговорила она. И он возмутился, вскочил, она тоже поднялась, и минут пять они хватали друг друга за руки, спорили, оба сердились, и настаивали, и соглашались, и категорически отказывались. Айя в это время, нисколько не смущаясь, осматривала шикарное фотохозяйство, разложенное на двух просторных, углом составленных столах. (Сразу выудила с полки и отложила в сторону две книги: «25 уроков фотографии» Микулина и справочник «Фотосъемка и обработка» автора с экзотической фамилией Яштолд-Говорко.)
В конце концов Илья Клару уговорил, настоял, что будет платить в рассрочку, небольшими ежемесячными суммами.
(Он и платил два года, и выплатил достойную, как считал, цену, а лет через пять случайно узнал действительную цену всем этим предметам – и ужаснулся. Но Клара Григорьевна к тому времени ушла вслед за своим Фимой, так что некому было ни доплачивать, ни даже вслед прокричать свою нижайшую благодарность.)
Так или иначе, Айя оказалась с богатым наследством на руках.
Оно включало: крутой автофокусный «Никон F5», превосходный советский «Киев 88» (содранный, как сказал Момент Силыч, заводом «Арсенал» со шведского «Хассельблада» один в один), раритетный увеличитель «Ленинград» с объективом «Индустар-50У», профессиональный «Беларусь» с системой тяжелых штанг и пружин и с особым столом, по которому ездит тубус увеличителя, если вращать колесико с ручкой. (Сооружение громоздкое, но качественное – еле втащили в дом, испугав бабушку. Та воскликнула:
– Еще одна исповедальня!
– До известной степени, – пробормотал внук.)
Ну и прочая обворожительная мелочовка: набор кювет для проявки-промывки и закрепления, старое фотореле в деревянном корпусе, с никелированными тумблерами установки времени, пинцеты для бумаги, бачки для проявки, фонарь для печати с набором цветных стекол и, наконец («Кому это нужно?» – удивился Илья), старый, с полусожженными полотнищами льна, глянцеватель.
Проявитель и фиксаж пахли по-разному; фиксаж отдавал восхитительной кислятиной, похожей на запах старой грибницы.
Момент Силыч прибежал, целый вечер сидел, в упоении перебирая хозяйство, бегал по комнате и даже для него необычно много и бурно говорил; вдруг спохватывался и, крутнувшись на каблуке, вытаращивал лицо навстречу Айе, которая вовсе его на сей раз не слушала (она вообще со временем навострилась понимать, когда стоит обращать на Силыча внимание, а когда нет).
– Эх, вот раньше… Небось помните, Илья, какие кыкамеры стояли в фотоателье: стационарные, большеформатные, на ты-треногах! Затвора вообще не было. Фотограф, как фы-фокусник, снимал с объектива крышку, делал такие изящные пы-пассы рукой, пока пы-птичка пролетала, и закрывал объектив. А качество тех старых сы-снимков – не-прев-зойден-ное! Куда там нынешней технике…
Так в их жизнь вошли новые предметы, понятия, разговоры и даже окрас быта – то, что всегда сопутствует возникновению Страсти.
Бабушка к новому повороту событий отнеслась настороженно. Сказала:
– Две страсти в одном доме – многовато.