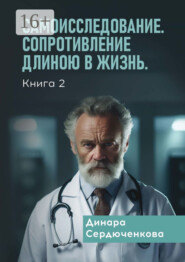По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Самоисследование. Сопротивление длиною в жизнь. Книга 1
Автор
Год написания книги
2021
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Перед моим 10-ым классом в физкультурном диспансере поменялся врач. У нового врача были другие взгляды на то, что можно, а что нельзя сколиозникам. Поэтому освобождение от физкультуры он мне давать не захотел.
Выше моё фото в школьном возрасте. Искривление позвоночника у меня присутствует до сих пор.
Мои врождённые физкультурные особенности
Так получилось, что я не боюсь высоты, то есть не боюсь лазать по канату и прыгать в высоту. Имею хорошие способности по прыжкам в высоту и бегу на длинные дистанции. Но эстафетные дистанции, то есть спринтерские, – слабое звено! Поэтому в эстафетные команды на уроках физкультуры меня принимали неохотно.
И эта особенность не признаки депрессии! Я сама по себе такая – инертная, меланхоличная.
Почему они бегут так быстро?
С удовольствием читала я интервью с талантливыми спортсменами, которые публиковал в ШЖ Денис Мисюля. Герои этих материалов рассказывают о себе, своём пути в спорт и своём пути в спорте. Но не я одна, наверное, читая эти интервью, задавалась вопросом: «Чем эти люди отличаются от нас, простых смертных?» Волей и работоспособностью? Или тем, что им дано от природы? А если дано, то чего и сколько?
Возьмём для примера один из древнейших видов спорта – бег на короткие дистанции. Для древних греков это был бег на 1 стадий (192,7 м). Для современных легкоатлетов – на дистанции до 400 м.
Для краткости говорить буду лишь о мужском спринте на 100 м. Рекорды в этой области изменялись следующим образом. Первый официально зарегистрированный рекорд на стометровке отмечен на Стокгольмской олимпиаде в 1912 году – 10,6 с (Д. Липпинкотт, США). В 1930 году рекордом оказался результат П. Уильямса (Канада) – 10,3 с. Легендарное выступление Джесси Оуэнса (США) на Берлинской олимпиаде 1936 года подарило миру достижение в 10,2 с. Лишь в 1956 году этот рекорд был побит В. Уильямсом (США) – 10,1 с. В 1968 году был преодолен рубеж в 10 секунд – на олимпиаде в Мехико Дж. Хайнс (США) прошёл стометровку за 9,95 с. Этот результат улучшил в 1983 году К. Смит (США) – 9,93 с. Нынешний рекорд принадлежит ямайскому спортсмену Асафе Пауэллу – 9,77 с. Такой результат этот спортсмен показывал на трёх соревнованиях: в Афинах в 2005 году, в Гейтсхэде и Цюрихе в 2006 году.
Понятно, этот список неполный, здесь не отражена драматическая борьба за сотые доли секунды, развернувшаяся в 80—90-е годы прошлого века. Но и без этого понятно, что речь идёт о предельно возможной для человека скорости, о грани человеческих возможностей. Хотя, надо отметить, что профессионалы, наблюдавшие за бегом Пауэлла, говорили: у него явно есть резерв скорости. Кроме того, на Олимпиаде в Токио (1964) при беге в эстафете 4?100 у замыкающего Б. Хайеса была зафиксирована вообще скорость исключительная – 8,9 с! Но это – эстафета, спринтер бежал с «разогретыми» мышцами. «Полёт» Билла Хайеса произвёл на зрителей грандиозное впечатление. От спортсмена ждали спринтерских свершений (но он сделал карьеру в американском футболе).
Меж тем обычный молодой человек, например, собравшийся поступать в вуз, где на вступительных экзаменах необходимо продемонстрировать свою физподготовку, на отлично должен пробежать стометровку за 13,6 с, на хорошо – за 14,2 (данные – с сайта одного из специализированных вузов). Чуете разницу?!
Но почему же гении спринта в состоянии бегать так быстро? Этим же вопросом в момент своего зарождения задалась и наука о спорте. Очевидно, что для достижения наивысших результатов необходимо научное обеспечение – на современные рекорды работают педагогика, медицина, психофизиология, биохимия, биофизика. Поиском ответов на заглавный вопрос и занималась, по сути, эта самая комплексная наука о спорте. Вернее не на заглавный: учёные искали ответ на вопрос: почему некоторые люди могут бежать очень быстро? А практики добивались от теоретиков ответа на другой вопрос: как сделать, чтобы такие люди бежали ещё быстрее? Об этом подробно писали в журнале «Химия и жизнь» М. З. Залесский («Марафон». 1983, №5; «Спринт». 1983. №7) и А. С. Мозжухин («Что может человек». 1982, №9).
Занимаясь поисками ответа на первый вопрос, учёные довольно скоро выяснили, что практически всё зависит от врождённых свойств конкретного человеческого организма. И рост, вес, характер здесь ни при чём. Значимо другое. Например, для скорости бегуна многое определяют частота и длина шагов. Врождённым является такое свойство, как частота шагов при беге в полную силу, а длина, зависимая от длины и силы ножных мышц и их способности к напряжению-расслаблению – свойство не врождённое.
Врождённое свойство – структура мышц. Если в них больше быстрых волокон, обладающих большой мощностью, но тратящих энергию почти мгновенно – бегуну суждена карьера спринтера. Если преобладают медленные – бегать ему марафонские дистанции. У выдающихся марафонцев в мышцах медленные волокна составляют 80—90%. Предполагается, что именно большим количеством быстрых волокон в мышцах обусловлены преимущества в беге на короткие дистанции и прыжках спортсменов – жителей Западной Африки и их потомков – афроамериканцев.
Врождённое свойство – время реакции, интервал между сигналом и началом действия. Первым пробежавший стометровку за 10 секунд Армин Хари, которого постоянно обвиняли в фальстартах, на самом деле обладал феноменальной реакцией на выстрел стартера – на 0,05—0,07 с опережал соперников! Бегал Хари в конце 50-х – начале 60-х годов, технические возможности контрольной аппаратуры сейчас не дали бы обвинить этого замечательного спринтера в нечестности.
Врождённым свойством является ёмкость и мощность энергетических механизмов. Чтобы разобраться в этом моменте, читателю придётся припомнить школьный курс биологии и химии. Энергию мышцы получают при расщеплении аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) на аденозиндифосфорную кислоту (АДФ) и неорганический фосфат. АТФ организм может получать из трёх источников: при расщеплении креатинфосфата (КФ), при гликолизе (расщепление глюкозы до молочной кислоты), при кислородном окислении. Для спринта более всего важен первый источник, энергии из него как раз хватает на стремительный 10-секундный бег. Гликолиз – это поставщик энергии на более длительные траты, но включается спустя 30—100 секунд после начала бега. Кислородное окисление начинает работать лишь спустя несколько минут после старта, а это для спринта значения уже не имеет.
В 1922 году англичанин А. Хилл получил Нобелевскую премию за открытие явления скрытого теплообразования в мышцах, а немец О. Мейергоф – за открытие законов регуляции поглощения кислорода мышцей и образования в ней молочной кислоты. В 1931 году академик В. А. Энгельгардт открыл ключевое явление в энергетике живой клетки: образование АТФ за счёт энергии процессов биологического окисления (американец венгерского происхождения А. Сент-Дьерди, тоже «нобелевец», исследовал энергетику мышц, механизмы мышечного сокращения, но это уже события 40-х гг.). А в 1936 году на Олимпиаде в Берлине совершает свой подвиг Джесси Оуэнс.
Я вижу в этом перечислении дат и событий свидетельства высоты человеческого духа одного порядка. Научный гений вооружил спортсменов и тренеров научным знанием. Гениальный спортсмен, обладавший, кроме способностей и навыков, волей к победе и бойцовским характером, в фашистской Германии, сделавшей тогда расизм государственной идеологией, одержал великую победу – и над соперниками-спринтерами, и над врагами-расистами.
Итак, они, эти гении спринта, такими родились. Зачем же они тренируются? Тренеры и тренировки нужны для того, чтобы спортсмены с наибольшей отдачей использовали то, что получено от природы. Под руководством тренеров и в ходе тренировок спринтеры усваивают научно обоснованную технику бега. Например, в современном беге устранены лишние движения – подпрыгивание и раскачивание. Ещё одна задача тренеров – добиться ритмичного бега своего подопечного, чтобы длина шага каждой ноги была одинаковой. Тренировками достигается умение спортсмена чередовать напряжение в фазе отталкивания с расслаблением в фазе полёта.
В связи с этим интересен опыт В. Борзова. На тренировках при беге с максимальной скоростью он держал во рту бумажную трубочку, задачей было не смять её. Таким образом, Борзов тренировал умение при напряжении сил бежать со спокойным выражением лица – иначе напряжение мимических мышц передаётся мышцам верхнего плечевого пояса и далее, в конечном итоге сковывает движение и укорачивает длину шага.
Тренировки направлены и на выработку наилучшей стратегии прохождения дистанции. Притом эта стратегия опять же должна быть разработана с учётом особенностей конкретного спортсмена. Своё значение имеют и мотивация в достижении высоких результатов, обучение приёмам мобилизации организма в момент соревнований. Словом, не зря едят хлеб тренеры.
Спортсмены продолжают стремиться к достижению рекордов. Тот же Асафа Пауэлл говорит о намерении преодолеть стометровку за 9 секунд. Возможно это? Безусловно, есть предел человеческих возможностей. Учёные полагают, что нынешние достижения – это и есть предел. Дальнейшие рекорды невозможны без ускорения физиологических процессов – что, в свою очередь, оказывается невозможным и для спортсменов без применения специальных препаратов. В то же время мы наблюдаем, как прогнозы 20-летней давности оказываются отвергнутыми нынешней действительностью. Поживём – увидим!
Автор: Люба Мельник
Источник: https://shkolazhizni.ru/sport/articles/7942/ (https://shkolazhizni.ru/sport/articles/7942/)
© Shkolazhizni.ru
В 6-м классе в медкабинет плохой школы пришёл врач лечебной физкультуры проверять детей на наличие искривления позвоночника. У меня обнаружили сколиоз и рекомендовали ходить на лечебную физкультуру в физкультурный диспансер. В 6-м классе я совмещала занятия лечебной физкультурой с уроками физкультуры в обычной школе. И мне даже предлагала тренерша, которая пришла на урок физкультуры отбирать способных девочек, заниматься в группе лёгкой атлетики. Я пошла спрашивать разрешения у врача лечебной физкультуры. Она мне не разрешила. Далее со второго полугодия 6-го класса до 10-го класса у меня было освобождение от физкультуры по причине сколиоза.
Перед 10-м классом в физкультурном диспансере поменялся врач. У нового врача были другие взгляды на лечение сколиозников. Поэтому освобождение от физкультуры он мне давать не захотел.
Лечение у эндокринолога и слёзы на ровном месте
В 5-м классе в школу пришёл проверять детей на предмет заболевания щитовидной железы врач-эндокринолог. У меня обнаружили тиреотоксикоз 3—4 степени (повышенную функцию щитовидной железы). Назначили лечение в специализированном эндокринологическом центре. И, как потом оказалось, таблетки в этом центре мне назначали неправильно. Этот тиоредин ещё больше усиливал повышенную функцию щитовидной железы.
То, что у меня проблемы со щитовидкой, было ясно ещё в начале 5-го класса. Я стала плакать ни из-за чего, на ровном месте.
Мальчишки заметили эту мою проблему. И стали издеваться и ржать (особенно на уроках математики, где я была лидером по знаниям и трудолюбию).
К сожалению, бесполезно делать запрос в Усть-Каменогорск, в эндокринологический центр. Так как, скорее всего, мою карточку выбросили в 90-е. Поэтому даю ниже мои подростковые фото.
Папины приколы
Как я не просила и не умоляла папу в 5—6-х классах перевести меня в хорошую школу, так как, кроме меня, никто математику не учит, однокласснички списывают у меня математику, а потом ржут всем классом, когда я выхожу к доске, – реакции не было никакой.
Когда я, став взрослой, очередной раз ему это высказала, он не выдержал и ответил:
– Хватит кричать! Ты же худющая была до невозможности! Мы же знали, что ты всё делаешь в последний момент! Мало того что тебя ветром качает, так ещё будешь опаздывать в эту хорошую школу, перебегать дорогу, попадёшь под машину!
Ну и, собственно, о папиных приколах!
Он и на работе так прикалывался и над работягами подшефного цеха, чтобы слушались. Мог съехидничать и в компании инженеров из управления.
Уже в средних классах стало ясно, что я инертная.
И папа в ответ на «Я не успела»:
– А неуспевающие потому и называются неуспевающими, что не успевают!
Несколько раз в школе мне приходилось засиживаться за задачами до утра (часов до 5:00), чтобы разобраться и чтобы не попало от папы.
Кроме того, вместо того чтобы заметить, что я инертная, учительница предложить никакой компенсации этой проблемы не смогла. Хотя было ясно, что ни кассиром, ни бухгалтером мне лучше не устраиваться.
Понятно, что при моих трудолюбии и дотошности меня нужно было уже в средних классах школы ориентировать на решение сложных задач. Но такую мою особенность (психософский тип – ведущая функция 1-я Логика), что моя 1-я Логика результативная и что мне нужны личные успехи, а не советчики, учителя в плохой школе 8-летке не в состоянии были понять!
Мало того что и школьную программу не очень знает, а обратишься со сложными задачами из «Кванта» – получаешь ответ:
– А давай я мальчиков после школы оставлю, и ты вместе с ними порешаешь?
Дело не в том, что я не умею общаться! У меня были подруги из дворовой компании, приятели-соседи. А именно в важности профессиональной направленности.
Именно из-за низкого профессионализма учительницы математики меня и перевели в соседнюю школу 10-летку.
Ты дурак? Выгоды не понимаешь? Она отличница!
В 7-м классе мне за одну парту подсадили «списывателя» Е. Т. А он вместо того, чтобы обрадоваться, устроил истерику: «Она некрасивая!» Другие парни пытались ему объяснить выгоду сидения со мной за одной партой: «Ты дурак? Выгоды не понимаешь? Она отличница!» А он всё равно плакал и истерил.
Дружбы у меня с ним не получилось совсем! Он обзывался и бил меня ни за что! Просто потому, что «рожей не вышла»! Пинал. Отбирал портфель и заносил его в мужской туалет. И был уверен, что я, несмотря на откровенно хамское поведение, обязана помогать ему по учёбе!