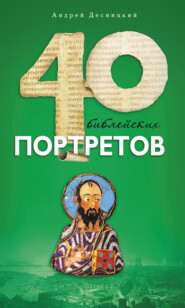По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русский Амстердам (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Sunny[25 - Санни – «солнышко» (англ.).], – так переделала она русское «Саня», – you know what I mean… Why don’t you stay for a week more? You can sleep at my place. You know, I’m single.
– Yes, but…[26 - – Знаешь что… Может, останешься на недельку? Можешь ночевать у меня. Я ведь живу одна.– А как же… (англ.)] – Саше это даже и не приходило в голову.
– But what?
– The ticket has a fixed date.
– Can’t you change it?
– I don’t know… It may cost some money.
– If you need it, you can earn it.
– How?
– Don’t you know, silly boy? There are some ways. You can wash dishes in a restaurant without any residence permit, or something. It’s not like getting a meal ticket, but still a chance. May be you even find a place in a theatre, in due course[27 - – Что?– В билете проставлена дата.– Что, ее нельзя изменить?– Не знаю… Это, наверно, денег стоит.– Так если нужны деньги, заработай.– Как?– А ты не знаешь, дурачок? Есть способы. Без вида на жительство можно мыть посуду в ресторане или что-то в этом роде. Это, конечно, не талоны на усиленное питание, но все-таки. А со временем, может, и место в театре найдется (англ.).].
И, оставив в покое так и не убранные волосы, стала одеваться. Они попрощались на этой полусказанной мысли, и она ушла в ночь, а Саша лег и чувствовал только прохладу постельного белья и приятную тяжесть во всем теле, после которой засыпаешь мгновенно и спишь глубоким и освежающим сном.
7. Доктор Астров из города Брюгге
Напоследок Европа решила показать ему лучшее из того, что имела. Времени между прибытием и спектаклем было совсем немного, и Саша выскочил в город, чтобы успеть хоть что-нибудь увидеть. Но его бегущий московский шаг гас на булыжной мостовой.
Этот город – средневековье с «ситроенами». Стены домов застыли в XVII веке, если не ранее, а жизнь за этими стенами потихоньку шла вперед. Фламандскому кружеву всех фасонов и видов было тесно в магазинчиках, и оно нетерпеливо выплескивалось на узенькие улочки, от которых отличалось лишь относительной недолговечностью материала и строго симметричным строением. А люди здоровались друг с другом на улице, и целовались, сидя на парапете узенького мостика, и пили пиво за столиками на тротуаре.
В одном из маленьких переулков он увидел девочку-подростка; она шла, уткнувшись в пеструю книжку, и что-то внимательно вычерчивала там пальчиком. Наверно, ищет дорогу по путеводителю – и Саша как-то невольно подошел поближе, взглянул на обложку: атлас Европы. Ищет дорогу домой по атласу Европы – или просто купила для школы, а теперь рассматривает? И он неожиданно для себя поздоровался с ней по-голландски:
– Хой!
– Hoi…[28 - – Привет!– Привет… (нидерл.)] – несколько растерянно протянула девочка.
– Мах ик?[29 - – Можно? (нидерл.)] – и протянул руку к атласу. Девочка выпустила книжку из рук, Саша перелистнул несколько страниц и добрался до той, где желтел в необычной косой проекции краешек знакомого громадного пятна, нависавшего над пестрой Европой то ли угрожающим монстром, то ли первобытным океаном, который всегда окружал обжитой мир на картах древности.
– Ик – хир[30 - – Моя здесь (искаж. нидерл.).], – и ткнул пальцем в точку уже у обреза карты, словно на краю света, с надписью Moskau.
– Ben je van Moskau? – по слогам прочитала девчонка. – Wat leuk![31 - – Ты из Москвы? Вот прикол! (нидерл.)]
Протянула руку за атласом, тряхнула рыжеватыми хвостиками волос и пошла себе дальше, бросив ему какое-то непонятное прощание. Атлас теперь беспомощно трепыхал страницами в ее руке – маленькая пестрая книжка, которая ни ей, ни ему не нужна, чтобы добраться до дома.
Дома… В Шереметьево будет, наверно, метель, такси слишком дорого, и автобусов нет… Дома – консервные банки и пачки макарон под маминой кроватью, розовые червонцы с Ильичом, которых слишком мало и в то же время слишком много, потому что в магазине на них все равно ничего не купишь… Дома – бегать от военкомата, делать перед мамой вид, что и в самом деле собрался учиться этой проклятущей математике, а перед Самим – что нет для него ничего святее их подвального театра. А на самом деле что? А ничего. Сугробы и вьюга. Бредешь, бредешь по зимней улице, дошел до теплого угла – вот тебе и хорошо. Остограммился – вообще никаких вопросов не осталось.
А куда дошел, зачем… Зачем весь этот наш русский быт, бессмысленный и беспощадный, а вернее – безбытность. Зачем? Раньше – ради коммунизма или за свержение советской власти, ну вот свергли мы ее – а дальше? Почему вот они могут тут жить среди кружев и каналов, вот эта вот девчонка, которая ничуть не лучше тысячи таких девчонок в Москве, Сарапуле или деревне Гадюкино? И почему, почему, когда у меня будет свой ребенок – он никогда не будет жить так, как она? Как это несправедливо, если задуматься…
Может быть и правда, остаться на время? Вот и виза еще не закончилась. Вряд ли за просроченный билет возьмут дорого, да может, и вовсе ничего не возьмут. Денег уже, правда, не осталось, но можно будет подработать, Ингрид сказала. Ингрид, Ингрид, как ее бросить, такую… такую яркую и сочную, и она ведь сама предложила ему остаться. А вдруг это всерьез? Вдруг он упустит свое счастье?
Нет, надо, конечно, ехать. Дома – мама, приятели, возможный роман с чудной девочкой Дашей из химико-технологического, все свое и родное. «Брось дурить, ты, в конце концов, должен», – зазвенел в голове чужой металлический голос. Среди актеров незаменимые – это как раз актеры молодые и неизвестные. Заболел Смоктуновский, на гастролях Доронина, запой у Евстигнеева – так для кого же из вечных актеров второго состава не честь, что на сцену выпустят их, дадут проявить и оценить себя по высшей шкале зрительского признания, на фоне звезды? Но Сашу-то никто не будет заменять. Значит, скандал с Самим. Возможно, вплоть до ухода из театра. А если сказать про безумную любовь с местной девушкой? Ну не наркота же, дело понятное и простительное. И придет на Сашино место другой мальчик, не лучше и не хуже, просто еще один из тех, кто бредит сценой, и, наверное, зря. Мальчиков много. Актеров мало.
Должен? А почему? Почему с октябрятских лет и по сей день он должен жить не так, как хочется, а так, как велят – партия, Родина, тусовка, круг приличных людей, этот их несуразный театр, наконец?! Может быть, на самом деле это нас так ловят на эти красивые слова, ловят те, кто беззастенчиво пользуется нами? Мало кому он на самом деле в этой жизни что-то должен, мало кто пострадает от его отсутствия – да что там пострадает, мало кто заметит. Мама поволнуется и успокоится, Даша слишком девочка с обложки, чтобы это было всерьез. Приятели обойдутся. Вот только театр… «Если бы знать, что я актер, что это – мое и навсегда, тогда никаких сомнений…» Но какой он, в конце концов, актер… Так, клубная самодеятельность, сойдет для сельской местности.
Ведь не в том же дело, что здесь слаще есть и мягче спать. Да, от этого сыра, от этого кофе пьянеешь еще хлеще, чем от водки, не стыдно голодному в том признаться, но другое гнетет и не пускает. Не может он так, по отмеренному. Две недели вольного ветра – и снова пожалуйте головой в парашу. Он вышел тогда на баррикады для того, чтобы быть свободным и решать за себя самого. И сейчас он не может, просто не может подчиниться очередному свистку под названием «Родина зовет» и «есть такое слово “надо”». Ему с детства всегда хотелось ответить «есть такое слово “на хер”», и может быть, сейчас – последний шанс сказать это, хотя бы один раз в жизни.
Саша стоял на горбатом каменном мостике и долго смотрел в мутную воду канала. Под ним проплывали лодки с туристами, так близко, что он мог бы нагнуться и потрогать их головы. Он все смотрел и смотрел в эту воду, словно и не жадился полчаса назад увидеть до спектакля как можно больше, словно и не было в этом городе ничего примечательнее свинцовой водной глади – и вдруг понял, что никуда он отсюда не поедет.
И очнулся, побежал, расталкивая локтями публику, но повезло не заблудиться, успел ко времени явки на спектакль.
Первый, обстоятельно гримируясь в Войницкого, по обыкновению рассказывал непрофессиональному своему окружению профессиональные актерские байки. На сей раз это была история первых оттепельных гастролей московского цирка в Германии. Эту Саша уже слышал. Да и кто ж ее не слышал – раз по десять?
– … и тогда Никулин постучался в номер к сопровождающему, вошел и вежливо спросил: «Скажите, пожалуйста, как будет по-немецки “Я прошу у вас политического убежища?”» И этой гэбэшной сволочи пришлось всю последнюю ночь караулить в коридоре, пока Никулин сладко спал в своем номере…
– Да, теперь-то хоть всем театром оставайся, – сказал кто-то.
– Ну да, только железный занавес теперь с другой стороны строится. Без парткомов и берлинских стен, но ничуть не менее прочный. Очень тут все нас ждут, аж рыдают.
– Ну, как сказать. Видел, как нас принимают? «Рюсланд – дрюжба навэки!»
– Дык, в зоопарке тоже на слона приятно посмотреть. А к себе в квартиру – слона пустишь?
– Не-ет, все ж таки можно остаться. Только к чему? – резюмировала Нинка, безуспешно пытавшаяся перевоплотиться в «сырую, малоподвижную» (по Чехову) старушку-няню Марину.
– Да ведь в этой стране… – начал было эпизодический Вася-«работник».
– То есть в той.
– Ну да, ведь в той стране никогда ничего…
– А чё ж ты не остаешься?
– А в этих странах – кому мы нужны? Посмотри лучше, парик – нормально?
– Вот тут чуть-чуть. Все, давай. А все-таки – чё не остаешься-то? Не остаёсси-та чё, паря? – начала входить в старушечью роль Нинка.
– А я вот остаюсь, – сказал Саша.
– А от он остаётси… Слушай, Саш, что, правда? – опомнилась она.
– Навсегда? – равнодушно спросил Вася.
– Не думаю, – честно сказал Саша, – останусь, посмотрю.
– Значит, навсегда, – резюмировал Вася и подошел к окну. Он уже был готов и хотел покурить, а по джентльменскому соглашению с некурящими дым следовало пускать в окно. Повозившись с фрамугой, он впустил в тесную грим-уборную порцию сырого холодного воздуха, и разговор как-то стих.
– Саня, да ты что, – вступила серьезная и восторженная Лара Солодова (Соня), – ведь у нас, в России, все еще только начинается. Вот сейчас, когда уже без коммуняк, когда свобода…
– Саша, а театр? – не отставала Лариса. – Кто будет играть?
– Незаменимых, как учил товарищ Сталин… – Саша попробовал отшутиться.
Лариса только махнула рукой. Вася смотрел в сумеречную пустоту и счастливо затягивался дорогой иностранной дрянью. Первый, уже в полном гриме, держал в руках свой шелковый галстук и смотрел то ли на Сашу, то ли на некую пространственную точку рядом с ним.
– Yes, but…[26 - – Знаешь что… Может, останешься на недельку? Можешь ночевать у меня. Я ведь живу одна.– А как же… (англ.)] – Саше это даже и не приходило в голову.
– But what?
– The ticket has a fixed date.
– Can’t you change it?
– I don’t know… It may cost some money.
– If you need it, you can earn it.
– How?
– Don’t you know, silly boy? There are some ways. You can wash dishes in a restaurant without any residence permit, or something. It’s not like getting a meal ticket, but still a chance. May be you even find a place in a theatre, in due course[27 - – Что?– В билете проставлена дата.– Что, ее нельзя изменить?– Не знаю… Это, наверно, денег стоит.– Так если нужны деньги, заработай.– Как?– А ты не знаешь, дурачок? Есть способы. Без вида на жительство можно мыть посуду в ресторане или что-то в этом роде. Это, конечно, не талоны на усиленное питание, но все-таки. А со временем, может, и место в театре найдется (англ.).].
И, оставив в покое так и не убранные волосы, стала одеваться. Они попрощались на этой полусказанной мысли, и она ушла в ночь, а Саша лег и чувствовал только прохладу постельного белья и приятную тяжесть во всем теле, после которой засыпаешь мгновенно и спишь глубоким и освежающим сном.
7. Доктор Астров из города Брюгге
Напоследок Европа решила показать ему лучшее из того, что имела. Времени между прибытием и спектаклем было совсем немного, и Саша выскочил в город, чтобы успеть хоть что-нибудь увидеть. Но его бегущий московский шаг гас на булыжной мостовой.
Этот город – средневековье с «ситроенами». Стены домов застыли в XVII веке, если не ранее, а жизнь за этими стенами потихоньку шла вперед. Фламандскому кружеву всех фасонов и видов было тесно в магазинчиках, и оно нетерпеливо выплескивалось на узенькие улочки, от которых отличалось лишь относительной недолговечностью материала и строго симметричным строением. А люди здоровались друг с другом на улице, и целовались, сидя на парапете узенького мостика, и пили пиво за столиками на тротуаре.
В одном из маленьких переулков он увидел девочку-подростка; она шла, уткнувшись в пеструю книжку, и что-то внимательно вычерчивала там пальчиком. Наверно, ищет дорогу по путеводителю – и Саша как-то невольно подошел поближе, взглянул на обложку: атлас Европы. Ищет дорогу домой по атласу Европы – или просто купила для школы, а теперь рассматривает? И он неожиданно для себя поздоровался с ней по-голландски:
– Хой!
– Hoi…[28 - – Привет!– Привет… (нидерл.)] – несколько растерянно протянула девочка.
– Мах ик?[29 - – Можно? (нидерл.)] – и протянул руку к атласу. Девочка выпустила книжку из рук, Саша перелистнул несколько страниц и добрался до той, где желтел в необычной косой проекции краешек знакомого громадного пятна, нависавшего над пестрой Европой то ли угрожающим монстром, то ли первобытным океаном, который всегда окружал обжитой мир на картах древности.
– Ик – хир[30 - – Моя здесь (искаж. нидерл.).], – и ткнул пальцем в точку уже у обреза карты, словно на краю света, с надписью Moskau.
– Ben je van Moskau? – по слогам прочитала девчонка. – Wat leuk![31 - – Ты из Москвы? Вот прикол! (нидерл.)]
Протянула руку за атласом, тряхнула рыжеватыми хвостиками волос и пошла себе дальше, бросив ему какое-то непонятное прощание. Атлас теперь беспомощно трепыхал страницами в ее руке – маленькая пестрая книжка, которая ни ей, ни ему не нужна, чтобы добраться до дома.
Дома… В Шереметьево будет, наверно, метель, такси слишком дорого, и автобусов нет… Дома – консервные банки и пачки макарон под маминой кроватью, розовые червонцы с Ильичом, которых слишком мало и в то же время слишком много, потому что в магазине на них все равно ничего не купишь… Дома – бегать от военкомата, делать перед мамой вид, что и в самом деле собрался учиться этой проклятущей математике, а перед Самим – что нет для него ничего святее их подвального театра. А на самом деле что? А ничего. Сугробы и вьюга. Бредешь, бредешь по зимней улице, дошел до теплого угла – вот тебе и хорошо. Остограммился – вообще никаких вопросов не осталось.
А куда дошел, зачем… Зачем весь этот наш русский быт, бессмысленный и беспощадный, а вернее – безбытность. Зачем? Раньше – ради коммунизма или за свержение советской власти, ну вот свергли мы ее – а дальше? Почему вот они могут тут жить среди кружев и каналов, вот эта вот девчонка, которая ничуть не лучше тысячи таких девчонок в Москве, Сарапуле или деревне Гадюкино? И почему, почему, когда у меня будет свой ребенок – он никогда не будет жить так, как она? Как это несправедливо, если задуматься…
Может быть и правда, остаться на время? Вот и виза еще не закончилась. Вряд ли за просроченный билет возьмут дорого, да может, и вовсе ничего не возьмут. Денег уже, правда, не осталось, но можно будет подработать, Ингрид сказала. Ингрид, Ингрид, как ее бросить, такую… такую яркую и сочную, и она ведь сама предложила ему остаться. А вдруг это всерьез? Вдруг он упустит свое счастье?
Нет, надо, конечно, ехать. Дома – мама, приятели, возможный роман с чудной девочкой Дашей из химико-технологического, все свое и родное. «Брось дурить, ты, в конце концов, должен», – зазвенел в голове чужой металлический голос. Среди актеров незаменимые – это как раз актеры молодые и неизвестные. Заболел Смоктуновский, на гастролях Доронина, запой у Евстигнеева – так для кого же из вечных актеров второго состава не честь, что на сцену выпустят их, дадут проявить и оценить себя по высшей шкале зрительского признания, на фоне звезды? Но Сашу-то никто не будет заменять. Значит, скандал с Самим. Возможно, вплоть до ухода из театра. А если сказать про безумную любовь с местной девушкой? Ну не наркота же, дело понятное и простительное. И придет на Сашино место другой мальчик, не лучше и не хуже, просто еще один из тех, кто бредит сценой, и, наверное, зря. Мальчиков много. Актеров мало.
Должен? А почему? Почему с октябрятских лет и по сей день он должен жить не так, как хочется, а так, как велят – партия, Родина, тусовка, круг приличных людей, этот их несуразный театр, наконец?! Может быть, на самом деле это нас так ловят на эти красивые слова, ловят те, кто беззастенчиво пользуется нами? Мало кому он на самом деле в этой жизни что-то должен, мало кто пострадает от его отсутствия – да что там пострадает, мало кто заметит. Мама поволнуется и успокоится, Даша слишком девочка с обложки, чтобы это было всерьез. Приятели обойдутся. Вот только театр… «Если бы знать, что я актер, что это – мое и навсегда, тогда никаких сомнений…» Но какой он, в конце концов, актер… Так, клубная самодеятельность, сойдет для сельской местности.
Ведь не в том же дело, что здесь слаще есть и мягче спать. Да, от этого сыра, от этого кофе пьянеешь еще хлеще, чем от водки, не стыдно голодному в том признаться, но другое гнетет и не пускает. Не может он так, по отмеренному. Две недели вольного ветра – и снова пожалуйте головой в парашу. Он вышел тогда на баррикады для того, чтобы быть свободным и решать за себя самого. И сейчас он не может, просто не может подчиниться очередному свистку под названием «Родина зовет» и «есть такое слово “надо”». Ему с детства всегда хотелось ответить «есть такое слово “на хер”», и может быть, сейчас – последний шанс сказать это, хотя бы один раз в жизни.
Саша стоял на горбатом каменном мостике и долго смотрел в мутную воду канала. Под ним проплывали лодки с туристами, так близко, что он мог бы нагнуться и потрогать их головы. Он все смотрел и смотрел в эту воду, словно и не жадился полчаса назад увидеть до спектакля как можно больше, словно и не было в этом городе ничего примечательнее свинцовой водной глади – и вдруг понял, что никуда он отсюда не поедет.
И очнулся, побежал, расталкивая локтями публику, но повезло не заблудиться, успел ко времени явки на спектакль.
Первый, обстоятельно гримируясь в Войницкого, по обыкновению рассказывал непрофессиональному своему окружению профессиональные актерские байки. На сей раз это была история первых оттепельных гастролей московского цирка в Германии. Эту Саша уже слышал. Да и кто ж ее не слышал – раз по десять?
– … и тогда Никулин постучался в номер к сопровождающему, вошел и вежливо спросил: «Скажите, пожалуйста, как будет по-немецки “Я прошу у вас политического убежища?”» И этой гэбэшной сволочи пришлось всю последнюю ночь караулить в коридоре, пока Никулин сладко спал в своем номере…
– Да, теперь-то хоть всем театром оставайся, – сказал кто-то.
– Ну да, только железный занавес теперь с другой стороны строится. Без парткомов и берлинских стен, но ничуть не менее прочный. Очень тут все нас ждут, аж рыдают.
– Ну, как сказать. Видел, как нас принимают? «Рюсланд – дрюжба навэки!»
– Дык, в зоопарке тоже на слона приятно посмотреть. А к себе в квартиру – слона пустишь?
– Не-ет, все ж таки можно остаться. Только к чему? – резюмировала Нинка, безуспешно пытавшаяся перевоплотиться в «сырую, малоподвижную» (по Чехову) старушку-няню Марину.
– Да ведь в этой стране… – начал было эпизодический Вася-«работник».
– То есть в той.
– Ну да, ведь в той стране никогда ничего…
– А чё ж ты не остаешься?
– А в этих странах – кому мы нужны? Посмотри лучше, парик – нормально?
– Вот тут чуть-чуть. Все, давай. А все-таки – чё не остаешься-то? Не остаёсси-та чё, паря? – начала входить в старушечью роль Нинка.
– А я вот остаюсь, – сказал Саша.
– А от он остаётси… Слушай, Саш, что, правда? – опомнилась она.
– Навсегда? – равнодушно спросил Вася.
– Не думаю, – честно сказал Саша, – останусь, посмотрю.
– Значит, навсегда, – резюмировал Вася и подошел к окну. Он уже был готов и хотел покурить, а по джентльменскому соглашению с некурящими дым следовало пускать в окно. Повозившись с фрамугой, он впустил в тесную грим-уборную порцию сырого холодного воздуха, и разговор как-то стих.
– Саня, да ты что, – вступила серьезная и восторженная Лара Солодова (Соня), – ведь у нас, в России, все еще только начинается. Вот сейчас, когда уже без коммуняк, когда свобода…
– Саша, а театр? – не отставала Лариса. – Кто будет играть?
– Незаменимых, как учил товарищ Сталин… – Саша попробовал отшутиться.
Лариса только махнула рукой. Вася смотрел в сумеречную пустоту и счастливо затягивался дорогой иностранной дрянью. Первый, уже в полном гриме, держал в руках свой шелковый галстук и смотрел то ли на Сашу, то ли на некую пространственную точку рядом с ним.