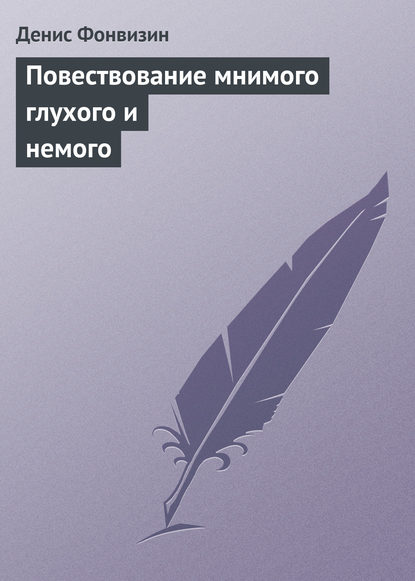По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Повествование мнимого глухого и немого
Автор
Год написания книги
1783
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Денис Иванович Фонвизин
Из письма Фонвизина П. И. Панину от августа 1778 года (из Парижа) мы узнаем, какое огромное впечатлении произвела на него «Исповедь» Руссо. Стремление Руссо изображать без «малейшего притворства всю свою душу», «обнаружить сердце свое» оказалось близким и Фонвизину. «Повествование» – первый опыт в «познании человека». Писатель открыто заявляет, что он нашел «ключ» «к совершенной человеческой внутренности».
Денис Иванович Фонвизин
Повествование мнимого глухого и немого[1 - К господам издателям «Собеседника». Предлагая здесь вам мою странную участь, я не только удовлетворяю самолюбию, которое обыкновенно нас влечет о себе самом и до себя касающемся с удовольствием говорить, но предлагаю вам и услуги мои. Вы найдете в течении жизни моей, что я имел отменный и совсем необыкновенный случай видеть обнаженные сердца и нравы и проницать в самые сокровенные тайны людские, почему и могу для включения в ваш «Собеседник» разнообразные характеры представить, кои из такого рода сочинений, какова наша книга, не должны быть исключаемы, ибо ничто столь внимания нашего не заслуживает, как сердца человеческие, кои час от часу лавиринту подобнее становятся, потому что ко всеобщим прежде бывшим причинам скрывать слабости и страсти, воспитание, bon ton и maniere de vivre прибавили еще в нас единообразие, кое соделывает наружность нашу так единаку, что каждый из нас ни на себя и ни на кого особенно не походит, а все вообще как будто из одной формы вылиты представляются. Моя философия стремится только познавать сердца человеческие; не течения звезд я следую, не систему мира проникнуть желаю, не с Эйлером теряюсь в раздроблении бесконечных малостей, – движение добродетельных душ и действия благородных сердец познавать стараюсь. Не быв цензором, желал бы, однако, слабости людские исправлять и пороки в омерзение приводить, но вы удобнее способом издания книги вашей то исполнить можете; почему я только вас прошу к присылаемым от меня характерам свои примечания, заключения и нравоучительные доводы прибавлять и с снисхождением прочесть нижеследующее.]
Отец мой, добродетельнейший из смертных, коего потерю я оплакивать не престану, претерпев в течение службы своей многие обиды, досады и несправедливости, от сродственников же, друзей и покровителей также быв обманут, предан и наконец оставлен, вел большую часть последних своих дней в уединении; и как из благотворительной его души исторгнуть не могли любви его к человеческому роду, то обратилось его внимание на нас (как он называл), рожденных своих друзей. Несчастные, однако, и притесненные от него помощь получали, и сердце его всегда отверсто было с отменною жалостию разделять их печаль. Философия же его была ни высокопарна, ни надменна, с кротостию сносил пременчивость судьбы, с снисхождением смотрел на недостатки человеческие. Несправедливость и коварство, устремленные противу него, не могли из него извлечь роптания, ни освирепеть его душу, но оставили только единое в сердце его впечатленное отвращение от большего света и от уз, кои, как он думал, налагает с собою служба. (Сие его предрассуждение осудило меня к странному моему жребию.) Отец мой имел редкое счастие получить в сотоварищество свое женщину разумную, благонравную, добродетельную и скромную. Достойная сия чета ощущала взаимную горячность и была столь счастлива, сколько участь человеческая счастья совмещать может. Упражнение их было нас наставлять и направлять сердца и умы наши к добродетели и человеколюбию. Дни их благополучно и спокойно протекали; но как все преходчиво и пременно на сем свете, смерть лишила отца моего любезнейшей ему супруги, а нас беспримерной матери.
Братья мои уже были в службе, я один, младший из всех, имел еще нужду в родительском призрении, и как я более прочих на покойную свою мать лицом походил, то по сим двум причинам отец мой с большею горячностию ко мне прилепился: он меня ни на час от себя не отпускал, занимался единственно мною, не пропускал ни одного случая, ни одного слова или вещи, чтоб применения, к нравоучению моему служащего, из них не сделать, – словом, я был первый предмет для него в жизни. В некоторое время приметил я, что родитель мой в задумчивости несколько дней проводил, грустил и особливое, терзающее дух его изъявлял смущение; мне казалось, что будто бы он боролся сам с собою, когда сердце его к нежным ласкам противу меня его возбуждало. Я любил его страстно, доверенность между нами была неограниченна. Кинувшись в его объятия со слезами, просил его открыть мне тайну, к каковым сердце его в рассуждении меня казалось непривычно, и сказать мне причину, кая могла столь сильно встревожить дух его и разрушить то счастливое и приятное спокойствие, коим он прежде наслаждался. После великого волнения, рыдания и слез он мне сказал то, что и доднесь в памяти моей живо мне представляется. «Ты молод, мой друг, – говорил он, – а совесть моя решить не могла сумнения, коим я, как ты приметил, обременен; ты молод и выбора основательного сделать не можешь, а я права родительские сокращаю в гораздо теснейшие пределы, нежели им обыкновенно полагают. Я не имею права избирать за тебя участи, коей ты на весь твой век предашься, тем наиначе, что оная не обыкновенна и с собою нанесет великие затруднения и некоторые жертвы. С другой стороны, я испытал, что обращение светское и служба за собою влечет предательство, ухищрения, зависть, злоключения и самое умерщвление духа, почему главное мое желание есть сообразить, если то возможно, для тебя удаление от света и познание оного. Я бы желал, чтобы ты спознал сердца человеческие, не быв, однако, подверженным их злоухищрению, чтоб ты наслаждался всея благом, которое смертному вкушать определено, и, сохранив сердце непорочным, не имел оное растерзанным и израненным от стрел, нередко в руках сильных к поражению добродетели изготовленных. Но я не знаю, как мне открыть тот план, который мне представляется и коим объят весь мой разум. Вседневно примечаю я истощение сил моих, конец мой приближается, и воображение мучительное меня снедает, что тебя оставлю в сем море, волнующемся беспрестанно, на горизонте коего пороки и беззакония только видимы, а добродетель, волнами биющаяся, без пристанища оным противуборствующая, наконец бездной поглощена бывает. Сие-то воображение меня более смущает, нежели пресечение дней моих мне прискорбие нанести может». Тут дражайший мой родитель в безмолвную грусть предался, но слезы, ласки и просьба моя его яко от сна пробудили: он наконец, обняв меня с несказанною горячностию, посадил возле себя и, как будто для вящего убеждения руки мои своими сжимая, начал таким образом:
«Ты не можешь, друг мой, себе представить, каким досадам и огорчениям честный человек в службе подвергается. Я хочу тебя независимым сделать, и для того, если ты чувствуешь в себе довольно твердости, чтоб лишиться слабого, но нередко вредного нам удовольствия говорить с людьми, то притворись больным на несколько дней; потом скажем мы домашним нашим, что ты от оной болезни стал глух и нем, чрез что ты не будешь обвиняем в том, что не служишь. Людские же мысли и самые сокровенные чувства тебе будут обнажаемы. Честана, к коей я горячность твою примечаю, быв воспитана матерью твоею, всеми добродетелями одаренная, к тебе так привязана, что, конечно, не умалит своей к тебе любви и чрез несколько лет будет твоею женою. Скрыв от нее нашу тайну, ты тем самым испытаешь ее любовь, и я нимало не сумневаюсь, что ты будешь иметь удовольствие увериться в искренности ее к тебе горячности, а добродетель и рассудок ее с новым и большим блеском окажется. От нее должны мы необходимо скрывать тайну свою».
Я на предложение родителя моего согласился тем охотнее, что я вкорененное имел любопытство знать внутренность сердец человеческих, и как страсть безмерная, с коею я Честану любил, казалось мне, не равным жаром ею награждалась, я желал узнать истину. Но здесь прерву на час мое повествование, чтоб не держать вас долее в неизвестности о девице, душа и разум коей достойны почтения от самой добродетели. Честана осталась двух лет, когда злодейскими руками отец и мать ее лишились жизни; достаток их был весь разграблен, и она тогда, как божиим провидением, быв с кормилицею в поле, тем только жизнь сохранила.
Кормилица ее несколько дней по лесам с нею скрывалась и потом принесла ее к родителям моим. От устали и глада успев только рассказать матери моей несчастное с господами ее приключение и положа невинную Честану к ногам родителей моих, испустила дух свой, благодаря всевышнего, что дражайший ей младенец спасен. С тех пор родители мои Честану с нами не рознили, ее сестрою почитать и называть приказали. Она была моих лет. С того самого времени мы друг друга начали любить и неразлучны были. Одни вкусы, одни игры – одним словом, единая душа, казалось, Честану и меня оживляла.
На другой день разговора моего с родителем моим я притворился больным, постеля моя перенеслась в его комнату, и после десятидневной притворной горячки родитель мой объявил Честане и всем домашним с изъявлением великой горести, что я болезнию лишен слуха и языка. Печаль и поражение, кое Честана при том изъявила, едва не поколебали меня к открытию ей моей тайны, но я удержан был почтением и любовью своею к отцу, которого боялся тем огорчить. Способом пера или карандаша мы с нею мысли свои друг другу сообщали, скоро и знаки выдумали, коими еще поспешнее изъяснялись. Мне казалось, что она от жалости еще более горячности ко мне чувствовать и показывать стала, и я себя счастливейшим из смертных почитал. По вечерам, когда я с родителем один оставался, тогда замыкали двери но только спальной нашей, но и боковых от нее комнат, и тогда-то я с батюшкой говаривал, и мы сообщали друг другу слышанное и примеченное нами в течение дня. Несколько месяцев спустя поехал я один с отцом моим по разным губерниям пространного нашего отечества. Возвратясь домой после испытания верности и благонравия прелестной Честаны, родитель мой увенчал нашу страсть, и несколько лет после совершения нашего брака мы поехали опять по России, и тогда только с дозволения родительского открыл я верной моей супруге и другу, что я не лишен ни слуха, ни языка. Привычка, кою я сделал столько лет ни с кем, окроме их двух, не говорить, так вкоренилась, что, лишившись несколько лет по том родителя своего, хотя я был уже свободен перестать скрываться, но я того не сделал и по смерти сохраню звание глухого и немого, в коем качестве я так известен, что трактирщик, готовясь обмануть ожидаемых им гостей, кокетка, проводящая своих любовников, придворный, ухищрениями дышащий, подьячий, алчный ко взяткам, дитя шелливое и страшившееся своего вожатого, – словом, никто меня не остерегается, все предо мною обнаженные предстоят, и когда я в клоб или на гулянье приду, то слышу, что робята вскричат: «Вот глухой-то и немой», а отцы и матери их с некоторым оказанием сожаления говорят: «Он, бедняга, никому и ничему не помеха». Оттого-то я к сокровенной человеческой внутренности имею ключ. Приехав домой, сообщаю товарищу своему и другу слышанное мною, а она то записывает. Здесь приобщаю записки моего первого путешествия, окончавшегося в 1762 году. Вы увидите в них совсем другой слог, нежели в моем повествовании. Здесь следовал я моему сердечному чувству, а там иногда веселому, иногда сердитому духу, в какой разные встречи меня приводили. Во всех моих записках не найдете вы ничего, или весьма мало, касающегося до политических, исторических, нравоучительных и прочих сведений. Мое дело было познавать людей и познавать человека. Ежели вы, господа мои, напечатаете их в «Собеседнике», то и следующие вам сообщать стану; пребывая навсегда…
Записки моего первого путешествия по 1762 год[2 - Сии записки, сочиненные в самое путешествие, ныне по случаю издания «Собеседника» исправлены, приведены в некоторый порядок и дополнены в разных местах рассуждениями, почерпнутыми из сравнения тогдашнего времени с настоящим.]
(Вместо предисловия)
Я предварил уже читателя, что отец мой старость свою провождал в уединении. Воспитывался я в подмосковной его деревне, из которой он, конечно, и не выезжал бы, если б не окружен был дурными соседьми, которые, имея число душ несравненно нашего больше, обижали нас очень часто и очень чувствительно. Чтоб найти защиту от их наглостей, отец мой принужден бывал ездить нередко в город Дмитрев. Я помню, что всякий раз, как он по возвращении своем из Дмитрева выходил из коляски, первое слово, которое, вздохнув, он к нам произносил, бывала старинная пословица: «Сильная рука богу судить!» Но сколь он тем ни огорчался, однако иногда сам смеивался, размышляя, чья была та сильная рука и кого богу судить. С правой стороны главный наш сосед был отставной майор из солдатских детей, по жене разбогатевший, и назывался, как теперь помню, Пимин Прохоров сын Щелчков. Он был мужик пресильный и человек преглупый, превеликого росту и пренизкого духу, по вся дни пил, весь день был пьян, а ночи сыпал богатырским сном. Пьяный был неугомонен. Лучшая его в деревне забава состояла в том, чтоб, выбрав сильных мужиков, ставить их на колени и щелкать по лбу. Он в сем искусстве так отменно был силен, что во всем его селе не было лба, у которого бы он одним щелчком не отшибал памяти. У двора имел он ближнего свойственника и нелицемерного друга. Сия знаменитая особа был дворцовый истопник Касьян Оплеушин, получивший свое прозвище по данной ему от гоффурьера оплеухе за то, что однажды печь закрыл с головнею. Я думаю, однако ж, и всегда был того мнения, что гоффурьер поступил на сию крайность, последуя больше своему первому движению, нежели правосудию, ибо Оплеушин был такой мастер топить печи, что те, для которых он топил, довели его своею протекциею наконец и до штаб-офицерского чина; но смерть лицеприятия не знает. Она, несмотря на толикое возвышение, скосила его в ту самую минуту, в которую дошла до него очередь. Он скончался без предков и потомков, первый и последний в своем роде. Наш майор был о кончине его неутешим, и в знак глубочайшего своего душевного почтения к заслугам и качествам сего в бозе усопшего штаб-истопника его высокоблагородие принял фамилию покойного и по смерть свою писался не иначе, как: Пимин Прохоров сын Щелчков-Оплеушин.
«Не купи двора, купи соседа» – пословица весьма справедливая. Щелчков-Оплеушин обижал нас как хотел. То рубил нашу рощу, то отнимал скотину у наших мужиков, то самих их, заманя к себе, щелкал по лбу; словом, обиды были непрестанные, на которые, однако ж, в Дмитреве никакого суда найти было нельзя, ибо воевода и с приписью подьячий, с женами и с детьми были не что иное, как твари, питавшиеся от крупиц, падающих майорского дому; а потому в городе Дмитреве место естественных и положительных законов заступала всегда одна пьяная воля его высокоблагородия.
Как бы то ни было, отец мой, пока был жив, не допускал свою деревню до крайнего разорения. Иногда увещевал он майора доброю манерою, иногда, потеряв с ним все человеческое терпение, грозил ему в глаза застрелить его как собаку, если не уймется от своих наглостей; словом, хотя с большим беспокойством, но наша собственность оставалась у нас во владении. О любезный мой родитель! блажен, что умер ты, не предчувствуя того, что случилося в последующее межеванье. И мог ли ты себе представить, что земля, которою ты и предки наши владели бесспорно почти целое столетие, что поля, обработанные потом и трудами крестьян твоих, что болота, осушенные их же неутомимыми руками, что самая церковь божия, построенная по ту сторону забора, – словом, что вся земля с правой стороны по самый наш забор отнимется нагло от беззаступных детей твоих и, в наругательство здравому рассудку и вопреки точному разуму закона, отдастся богатому, но безумному отродью Щелчкова-Оплеушина за неведомо какие поверстные леса, которых, может быть, тут и никогда в натуре не бывало.
Другой наш сосед был титулярный советник Варух Язвин, знаменитого подьяческого рода. Во всю жизнь мою не видывал я такой подлой рожи и которая так бы сильно выражала собою безобразие души, какую носил г. Язвин. Если б живописец захотел ябеде дать вид человеческий, то б сосед наш мог послужить ему таким совершенным образцом, до какого одним воображением достигнуть невозможно. История его поместится в нескольких строках. Он купил воеводское место в Кинешме за пятьсот рублев, то есть за тогдашнюю обыкновенную таксу воеводских мест средних городов. Всякое время имеет свои чудеса. Ныне часто деревни в города преобращаются; тогда нередко города преображалися в деревни. Город Кинешма подпала под сей несчастный жребий. Лишь только Язвин в него прибыл, казалось, что в него сама язва ворвалася. В первое еще лето благополучного его воеводствования уже во всем уезде богати обнищаша и взалкаша. В два года опустошение сделалось в том краю всеобщее, наконец услышано стало моление убогих, и на смену Язвина прислан был из Петербурга воеводою коллежский асессор Исай Глупцов. Между тем, Язвин купил деревню в нашем соседстве и в нее переселился. Слов нет пересказать всех его бездельств и грабежей. Должно признаться однако ж, что мрачная душа его, обремененная грехами, непрестанно трепетала. Он был в равной степени бездушник и ханжа. Однажды украл он из нашего табуна двенадцать лучших лошадей и на другой день со всею своею окаянною семьею на тех же краденых конях отправился в Ростов богу молиться.
В соседстве нашем было также превеликое монастырское село, которым сряду пятнадцать лет управлял монастырский служка Михей Антифонов. Он был натурально добрый человек и все свое честолюбие с доходами обращал к тому только, чтоб иметь погреб, который бы не уступал самих властей лучшим погребам. Крестьяне были им довольны, ибо без разорения себя могли содержать его погреб в цветущем состоянии. При сих выгодах временной жизни г. Антифонов имел, однако ж, дряхлое здоровье. Он был скорбен животом; к тому ж сделал себе непременное правило: ничего по смерть не принимать из аптеки. Он отроду однажды принял от доктора лекарство, от которого в две минуты у него глаза помутились и такая сделалась тоска, что лазил не однажды на стены. Сего было бы довольно к ожесточению души его против лекарских рецептов; но вскоре потом ездил он молиться на Перерву, где отец игумен довершил ненавистное его предубеждение против врачебныя науки. Его преподобие имел такое мнение, что всякий доктор и всякий лекарь должен быть неминуемо колдун и что весь корпус медиков есть не что иное, как сатанино сонмище, попущенное гневом божиим на пагубу человеческого рода. С другой же стороны, г. Антифонов сам чувствовал, что тело его требует необходимо врачевания. И для того решился лечиться сам у себя и одним лекарством. Он всякий день зимою и летом пил соки виноградные, и погреб его самым натуральнейшим образом сделался его домашнею аптекою. Из всех соседей монастырская деревня нас всех меньше обижала. При всякой от крестьян наглости отец мой посылал к нему полдюжины бутылок обыкновенного лекарства, после чего виноватые немедленно и нещадно наказаны бывали.
В один день после обеда посланный к нам из Москвы нарочный привез известие, что внучатный мой дядя, после которого отец мой был один наследник, волею божиею скончался. Сие было его первое и последнее нам одолжение в течение шестидесятилетней его жизни. Он был из тех холоднокровных людей, которые отроду никому не делают ни худа, ни добра, – следственно, не чувствуют ни любви, ни ненависти. Ему все равно бывало видеть человека в печали или в радости. Он сам никогда не смеялся и никогда не плакал. Просьбы и угрозы никакого действия в нем не производили. Во время его болезни один доктор сказал ему, что непременно его вылечит. «Хорошо», – отвечал он ему без малейших знаков удовольствия. Другой чрез несколько минут уверял его, что он не проживет суток. «Хорошо», – отвечал он и ему без малейших же знаков огорчения. Словом, дядюшка мой родился и умер, а на какой конец случилось с ним и то и другое, того во всем течении долголетней его жизни никак приметить было нельзя.
Получа известие о кончине сего не жившего дядюшки, выехали мы тот же день в Москву. Ночевать остановились в преизрядной деревне у маленьких хоромцев, на берегу большого пруда. Вошед в комнаты, узнали мы имя помещицы г-жи А***, которая хоромцы построила нарочно для проезжих. По ту сторону пруда увидели мы господский дом. Свечи в окнах были для нас знаком, что сама госпожа живет в деревне. Скоро потом прислала она к нам своего лакея просить нас к себе ужинать и сказать нам, что буде тесно для нас в домике, куда пристали, то с удовольствием уступает нам в большом доме несколько комнат. Отец мой отблагодарил ее за такое благосклонное предложение, отозвался, что мы можем и тут ночевать спокойно, и извинился от ужина тем, что ее беспокоить не хочет. Чрез четверть часа увидели мы троих слуг, несущих к нам цыплят, кур, пирогов, сливок и всего, что можно было сыскать в деревне для нашего ужина. Сие гостеприимство тронуло очень отца моего. Он вынул было кошелек дать несколько денег людям, но они отозвались, что им весьма строго запрещено от помещицы брать с проезжих деньги и что, впрочем, не имеют в них никакой нужды, служа своей доброй госпоже. Поутру отец мой, взяв меня с собою, пошел сам к ней благодарить ее за все одолжения. Мы, вошед в покои, весьма просто и чисто прибранные, нашли сидящую на креслах помещицу – старушку лет шестидесяти. Перед нею стоял кузнец, и мы, входя, сами слышали, что она давала ему свои повеления осмотреть наш экипаж и починить что надобно. Отец мой благодарил ее от всего сердца за такое попечение о нас, не имевших чести вовсе быть ей знакомыми. «Ах, батюшка, – отвечала она отцу моему, – как не пособить дорожным людям! Да на что ж наделил меня бог достатком, буде не помогать тем, которые в глазах моих, перед моими окнами, могут иметь нужду в моей помочи?» Потом, посадя обоих: «Это не сынок ли ваш?» – спросила она отца моего, указав на меня. «Так, сударыня», – отвечал мой отец. «И у меня есть один сын, – говорила почтенная старушка, – которого я отправила в армию». – «Как вы решились, сударыня, отправить в армию сына, который у вас один?» – спросил мой отец. «Что ж делать, батюшка, – отвечала она, – он в военной службе. Он дворянин. Я лучше согласилась всякий день горевать об его отсутствии, нежели видеть его в моих глазах тогда, когда его братья дворяне понесли свои головы. Я, мой батюшка, той веры, что лучше моему сыну, Христос с ним, умереть, нежели слыть шалуном или тунеядцем, или, чего боже избави, трусом». – «Почитаю ваш образ мыслей, – сказал мой отец, – и удивляюсь, слыша такие здравые рассуждения от матери, которой сердце объято горячностию к сыну своему». – «Не дивись, мой батюшка, – говорила старушка, – я любила всем сердцем покойного моего мужа, который взял меня почти ребенком; все его рассуждения так сильно в душе моей остались, что взяли верх и над материнским сердцем. Я вечно не забуду, как он, бывало, говаривал в беседах своим братьям дворянам: «Эй, друзья мои! бога ради не бросайте шпаги, служите ею; прямая дворянская служба шпага. Помяните мое слово: буде мы дворяне станем бросать шпагу, входить в другие службы или вовсе бросать службу, эй, доживем до того, что дети отдаваемых нами рекрут будут нашим детям командиры». Рассуди ж, мой батюшка, как мне после этого сына держать дома. Бог с ним! Пусть служит. В животе и смерти бог волен. Он же весь в отца. Я думаю, если б я его не отпустила, то б он сам ушел от меня на службу. А вы где служите?» – спросила она меня ласково. Я, играя роль глухого и немого, ничего не отвечал. «Сударыня, – сказал мой отец, – сын мой после жестокой болезни сделался несчастлив. Он глух и нем!» – «Какая напасть! – вскричала старушка. – Боже мой!» – при сих словах глаза ее наполнилися слезами. Чем больше на меня смотрела, тем больше жалость извлекала ее слезы. Наконец старушка наша так обо мне расплакалась, что нам совестно было видеть ее в таких слезах по-пустому. «Сударыня, – сказал ей мой отец, – меня уверяют доктора, что несчастие его не вечное. Оно пройдет». – «Дай-то боже! – говорила она. – Только, мой батюшка, не на всех докторов полагайся. Им ничто уморить человека; а по-моему, лучше быть глухим и немым, нежели мертвым».
Простясь с сею почтенною старушкою, отправились мы в путь и под вечер, прибыв в Москву, взъехали в наш собственный дом, за Яузой у Спаса в Чигасах.
Пребывание мое в Москве
В Москве есть древний обычай, который и само время не может переделать доднесь. (NB. Нету правила без исключения.) Всякий приезжий должен тотчас или ехать, или посылать ко всем своим обоего пола родным, двоюродным, внучатным и правнучатным, с отцовской, материнской и жениной стороны, сказать о своем приезде и скоро потом ожидать их посещения. В многолюдной семье станицами через полчаса наезжать станут, невзирая на то, что для принятия их не имеет приезжий иногда ни места, ни досугу, а всего меньше охоты. Не принять же родных, при малейшем подозрении, что хозяин дома, почитается такою язвительною обидою, за которую многие дома рассорились навеки. Чтоб избежать сих неприятностей и думая выиграть время, отец мой принял намерение ехать со мною ко всем свойственникам сам без отсылки. Он считал тут выгодою для нас то, что можем у каждого остаться так мало, как захотим сами. Принимая же их у себя, подвергались бы мы опасности иных гостей не выжить до рассвета. Правда, что за сию выгоду надлежало в каждом доме выпить по крайней мере одну чашку чаю, перецеловать всех народившихся детей и внучат, смотреть и расхваливать всех приобретенных собак, лошадей, украшения в доме и вышитые новые платья; но отец мой решился лучше наливать себя и меня чаем, нежели потерять целый день с людьми, которые целого дня цену не всегда понимают.
Итак, нимало не мешкав, отправились мы с визитами. Воспитанному в деревне Москва должна чудом показаться церкви, дома, кареты, стечение народа – все приводило меня в изумление. В самом деле, что есть наша деревенская колокольня противу Ивана Великого? Что наш домик противу высоких теремов бояр московских? Что наши дрожки или коляски противу позлащенных колесниц, созидаемых на Петровке национальными художниками? Мне было тогда семнадцать лет, я не имел никакого испытания; сидя один с отцом моим в карете, не мог я скрыть от него удивлений и чувств сердца моего. Поравнясь противу одного огромного каменного дому, которого двор травою порос: «Батюшка, – спросил я у отца моего, – неужли никто не живет в сем прекрасном доме?» – «Друг мой, – отвечал он мне, – в этом доме живет сам хозяин». – «Разве он никого к себе не пускает?» – продолжал я. «Нет, – говорил мне мой отец, – не он к себе людей не пускает, никто к нему ездить не хочет. Быв в службе в большом чину, имел он самую мелкую душу; кроме себя, никому добра не сделал; скопив богатство, решился заблаговременно убраться в отставку, ласкался доживать свою старость в Москве в знати и удовольствии, но сильно обманулся: невзирая на чин и богатство, он целою публикою презрен и так совершенно забыт, как будто столетие назад он перестал существовать». Лишь успел сей наш разговор окончиться, мы подъехали к дому одного из дядей родителя моего, и первый наш визит оным начался. Описывать, что при том случилось, было бы лишнее; читатель довольствоваться должен узнать, что сей наш родственник угрюм, но скромен, честен и снисходителен и что лишнего слова без нужды он терять не любил, в чем он много разнствовал от сестры своей Фетиньи Максимовны, которая, сказывают, и от болезней многоглаголанием излечается. Сему я приписываю часто повторяемые ею сожаления, что я глух и нем. Нередко случилось в сем кратком визите слышать братцем ее употребляемую пословицу (которая так сильно изображает его характер): «Не устать говорить, было б кому слушать». Сию пословицу он на сей раз справедливо употреблять мог, полагая меня лишенным слуха, и, говоря с родителем моим, он думал, что сестрицы его слушателем оставался только я, глухой, ибо окроме нас четверых никого не было в комнате.
Фетинья Максимовна нас долее сидеть не унимала, для того что ей не удалось склонности своей к многоглаголанию удовольствовать; простясь с родителем моим, ему, однако, сказала: «В другой раз, племянничек дорогой, я буду уметь тебя так же захватить и с тобой поговорить, как братец мой, который как будто, откупя все внимание твое, тобою совсем завладел». Отсель поехали мы к близ живущему давнему родителя моего другу. Радость их, увидевшись, была столь же горяча, сколь нелицемерна. Единодушие между ими было тем более естественно, что они ни в каких правилах или чувствиях не разнствовали, исключая того предрассуждения, кое отец мой имел о службе. Сей друг его, напротив того, почитал за долг продолжать службу, пока естественных сил человек не лишится, и с самыми жертвами каких-либо личных выгод не покидать службы, как только тогда, когда изнеможение душевных дарований соделает человека недостойным занимать место, на которое здравее и свежее голова требуется. Сколь ни желал мой родитель продолжить сей визит, но, вспомня великое число родни, кою еще объездить нам оставалось, мы опять пустились путешествовать. Инде к чаю прибавляли закуски, инде тягостные и скучные вопросы заменялись слушанием вечерни; все сии действия столько часов проглотили, что едва ли оставалось время на два визита боле, но и в том, к счастию нашему, судьба попрепятствовала. Если желудки, уши и головы наши вынесли трудное служение сего дня, ось нашей кареты оного не вынесла. Она переломилась в самом том месте, откуда бы, взяв оное за пункт, совершенный треугольник можно было сделать, протянув от оного до нашего дому линию и от оного ж к дому прабабушки моей, у которой мы еще быть не успели. Но противу определенного жребия тщетно человек вздумал бы противиться! Карета наша, лежав в плачевном образе на боку, казалось, стыдилась нас, сделавшись препятствием благого нашего намерения удовольствовать всех наших родных восходящих и нисходящих поколений.[3 - Уверяют некоторые философы, что человек, лишенный зрения или какого другого чувства, оставшие совершеннее имеет и чрез то самое соделывается чувствительнее. Я хотя не лишен ни слуху, ни языка, но, притворяясь глухим и немым, может быть оттого чрезмерную чувствительность имею, почему прошу читателя простить мое о карете воображение и впредь лишнюю, может быть, мою чувствительность с снисхождением судить.] Мы пошли без оскорбления пешком домой, но вдруг пред глазами нашими пламя ужасное поднялось. Отец мой узнал, что огонь сей на дворе внучатного его брата, известного всем, отличного заики и отменно торопливого человека. Ускорив свою походку, батюшка желал ему услугу какую-нибудь в сем случае показать; я радовался отцовскому намерению, ибо душа моя, объята жалостию, представляла мне чувствительную картину людей, от огня и от падающих материалов поврежденных, и хозяина отчаянного, потеряв свое имение. Сие воображение препроводило меня до самого двора правнучатного моего дяди, но оно скоро исчезло, когда, к несказанному моему удивлению, я увидел самого того хозяина, о котором я столько печалился, стоя на крыльце поющего. Удивление сделало, что я до последней ноты голоса, которой он пел, затвердил и здесь как слова, так и музыку приобщаю.
Если бы случиться могло, чтоб кто из читателей не ведал, что заики не подвержены сему неприятному препятствию, когда они поют, и вышеупомянутому случаю не поверил бы, тогда бы я его попросил, чтоб потрудиться изволил (если в том городе или месте, где он находится, заики никакого не сыщет) съездить в Москву, где при всяком важном обстоятельстве, когда правнучатный мой дядя желает быть вразумителен, он мог бы его роспев услышать и увериться о истине сей повести.
Скоро потом пожар затушили, чрез что и пение дядюшкино кончилось; он начал тогда говорить: «Бра-а-а-а-те-е-е-ц мо-о-о-мой лю-ю-ю-любе-бе-бе-зный», но родитель мой, вынув из кармана часы, увидел, что уже несколько минут за полночь, прервав речь заики нашего, сказал: «Ты, братец, обеспокоился, тебе отдохновение нужно, да и мы устали от разнообразных понесенных нами трудов, я на сих днях к тебе опять буду и надеюсь, что не в столь смутном состоянии тебя найду»; затем, обнявши его и не входя в его комнаты, с самого того ж крыльца, где помянутую музыку слышали, мы пошли и направили свой путь домой.
****
(Продолжение будет впредь.)[4 - Обещанное продолжение в «Собеседнике» напечатано не было. (Прим. ред.)]
Примечания
Впервые напечатано в IV и VII частях «Собеседника любителей российского слова» за 1783 год. Из письма Фонвизина П. И. Панину от августа 1778 года (из Парижа) мы узнаем, какое огромное впечатлении произвела на него «Исповедь» Руссо. Стремление Руссо изображать без «малейшего притворства всю свою душу», «обнаружить сердце свое» оказалось близким и Фонвизину. «Повествование» – первый опыт в «познании человека». Писатель открыто заявляет, что он нашел «ключ» «к совершенной человеческой внутренности». В VII части была напечатана очередная глава «Повествовании» под названием «Пребывание мое в Москве». В конце главы читатель извещался, что «продолжение будет впредь». Видимо, представленные новые главы носили такой обнаженно-сатирический характер, что Екатерина не разрешила их печатать. Во всяком случае никакого продолжения не последовало.
Оплеушин был такой мастер топить печи, что те, для которых он топил, довели его… до штаб-офицерского чина. – Перед нами резкий сатирический выпад писателя против двора, где как раз практиковались такого рода карьеры: сенатор Г. Н. Теплов, состоящими в кабинете Екатерины «у принятия челобитен», был сыном истопника Псковского архиерейского дома, полковник З. Зотов служил сначала камердинером у Потемкина, а потом у Екатерины; повару императрицы Елизаветы Фуксу был пожалован чин бригадира, и т. д. Оплеушин был возведен в один из высших офицерских чинов (штаб-офицера).
Быв в службе в большом чину, имел он самую мелкую душу… скопив богатство, решился заблаговременно убраться в отставку, ласкался доживать свою старость в Москве. – Фонвизин отметил типическое явление: многие вельможи и фавориты, получив отставку, отбывали в Москву, где, и доживали свой век. В последующем Пушкин писал: «Некогда в Москве пребывало богатое неслужащее боярство, вельможи, оставившие двор». Во время печатания «Повествования мнимого глухого и немого» (1783) в Москве жил А. Г. Орлов, брат умершего фаворита Г. Г. Орлова. Братья Орловы вели в течение ряда лет жестокую борьбу с Н. И. Паниным. Не исключена возможность, что, говоря о вельможе, живущем «на покое», Фонвизин имел в виду именно его.
notes
Примечания
1
К господам издателям «Собеседника». Предлагая здесь вам мою странную участь, я не только удовлетворяю самолюбию, которое обыкновенно нас влечет о себе самом и до себя касающемся с удовольствием говорить, но предлагаю вам и услуги мои. Вы найдете в течении жизни моей, что я имел отменный и совсем необыкновенный случай видеть обнаженные сердца и нравы и проницать в самые сокровенные тайны людские, почему и могу для включения в ваш «Собеседник» разнообразные характеры представить, кои из такого рода сочинений, какова наша книга, не должны быть исключаемы, ибо ничто столь внимания нашего не заслуживает, как сердца человеческие, кои час от часу лавиринту подобнее становятся, потому что ко всеобщим прежде бывшим причинам скрывать слабости и страсти, воспитание, bon ton и maniere de vivre прибавили еще в нас единообразие, кое соделывает наружность нашу так единаку, что каждый из нас ни на себя и ни на кого особенно не походит, а все вообще как будто из одной формы вылиты представляются. Моя философия стремится только познавать сердца человеческие; не течения звезд я следую, не систему мира проникнуть желаю, не с Эйлером теряюсь в раздроблении бесконечных малостей, – движение добродетельных душ и действия благородных сердец познавать стараюсь. Не быв цензором, желал бы, однако, слабости людские исправлять и пороки в омерзение приводить, но вы удобнее способом издания книги вашей то исполнить можете; почему я только вас прошу к присылаемым от меня характерам свои примечания, заключения и нравоучительные доводы прибавлять и с снисхождением прочесть нижеследующее.
2
Сии записки, сочиненные в самое путешествие, ныне по случаю издания «Собеседника» исправлены, приведены в некоторый порядок и дополнены в разных местах рассуждениями, почерпнутыми из сравнения тогдашнего времени с настоящим.
3
Уверяют некоторые философы, что человек, лишенный зрения или какого другого чувства, оставшие совершеннее имеет и чрез то самое соделывается чувствительнее. Я хотя не лишен ни слуху, ни языка, но, притворяясь глухим и немым, может быть оттого чрезмерную чувствительность имею, почему прошу читателя простить мое о карете воображение и впредь лишнюю, может быть, мою чувствительность с снисхождением судить.
4
Обещанное продолжение в «Собеседнике» напечатано не было. (Прим. ред.)