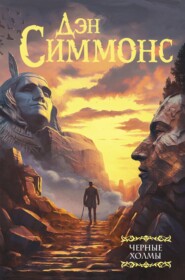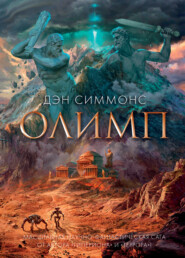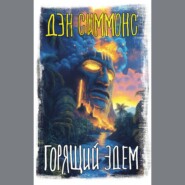По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Падение Гипериона
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ламия с удивлением обнаруживает, что из глаз у нее льются слезы. Она вытирает щеки и улыбается.
– Что вас так рассмешило? – спрашивает Консул.
– Такой ужас творится, – отвечает она, растирая щеку ладонью, – а у меня одна мысль: какое чудо – принять душ!
– И пропустить рюмочку, – подхватывает Силен.
– Укрыться от бури, – тихо вторит ему Вайнтрауб. Ребенок, жадно чмокая, глотает молоко из детского синтезатора.
Кассад высовывается из палатки и вскидывает винтовку, одним движением сняв ее с предохранителя.
– Сенсоры, – говорит он. – За этой дюной что-то шевелится. – Он оборачивается к остальным, и в опущенном забрале отражаются бледные, жмущиеся друг к другу паломники и окровавленное тело Ленара Хойта.
– Пойду выясню, что там такое, – говорит он. – Ждите здесь до прибытия корабля.
– Не уходите, – протестует Силен. – Это как в тех долбаных старинных фильмах ужасов, где все уходят по одному, и поминай как звали… Эй! – Поэт умолкает. В треугольный вход палатки врываются свет и грохот.
Федман Кассад исчез.
Палатка начинает оседать, стойки и проволочные растяжки прогибаются, поддаваясь напору текучего песка. Прижавшись друг к другу, Консул и Ламия заворачивают тело отца Хойта в плащ. Лампочки медпакета продолжают мигать красным. Кровь из шва больше не сочится.
Сол Вайнтрауб укладывает свою четырехдневную Рахиль в переносную люльку, тщательно укрывает плащом, подтыкая его со всех сторон, и садится на корточки у входа.
– Никаких следов! – кричит он. В ту же секунду прямо на его глазах молния ударяет в поднятое крыло Сфинкса.
Ламия пробирается к выходу с неожиданно легким телом священника.
– Давайте перенесем отца Хойта на корабль в операционную! Потом кто-нибудь вернется за Кассадом.
Консул надвигает треуголку и поднимает воротник:
– На корабле есть мощный радар и другие средства обнаружения движущихся объектов. С их помощью мы узнаем, куда делся полковник.
– И Шрайк, – желчно добавляет Силен. – О хозяине забывать неэтично.
– Пошли.
Ламия встает, но ей тут же приходится согнуться в три погибели. Плащ Хойта хлопает крыльями и бьется вокруг Ламии, ее собственная накидка струится по ветру за спиной. Разыскав благодаря непрестанным вспышкам молний тропу, она берет курс на вход в долину, временами оглядываясь, не потерялись ли остальные.
Мартин Силен отходит на шаг от палатки, берется за принадлежавший Хету Мастину куб Мебиуса, и тут его пурпурный берет улетает, подхваченный ветром. Застыв на месте, поэт сыплет проклятиями, останавливаясь лишь для того, чтобы выплюнуть песок изо рта.
– Идемте! – кричит Вайнтрауб, ухватив поэта за плечо. Песчинки жгут Солу лицо, забиваются в бороду, но вместо того, чтобы заслониться рукой от ветра, он прикрывает ею грудь. – Мы рискуем потерять Ламию из виду, надо спешить!
Поддерживая друг друга, они борются со встречным ветром. По меховой шубе Силена бежит штормовая рябь. Поэт делает крюк, чтобы подобрать свой берет, скатившийся с дюны.
Консул оставляет палатку последним. У него два рюкзака на спине – свой и Кассада. Стоит ему покинуть это хрупкое укрытие, как стойки подламываются, ткань рвется, и палатка возносится в ночь, окруженная нимбом из электрических разрядов.
Спотыкаясь, Консул проходит метров триста, временами замечая впереди силуэты Сола и поэта. То и дело тропа теряется – тогда приходится описывать круги, пока не обозначится снова утоптанная полоска земли. Вспышки молний следуют одна за другой, и в их ослепительном свете Гробницы Времени видны как днем. Консул смотрит на Сфинкса, окутанного разрядами, различает позади него люминесцирующие стены Нефритовой Гробницы, а еще дальше Обелиск – он почему-то не светится и кажется вертикальным черным проемом на фоне стен ущелья. Тут же высится Хрустальный Монолит. Кассада не видно, хотя в песчаных вихрях, озаряемых синими отблесками, всюду чудятся какие-то силуэты и тени.
Консул задирает голову, видит широкий вход в долину и низко бегущие облака над ним. Где же голубой шлейф от спускающегося корабля? Буря, конечно, ужасная, но его посудина совершала посадки и в худших условиях. Он надеется, что корабль уже сел и остальные ждут его у трапа.
Но, добравшись наконец до скалистых стен у входа в долину, он видит четверку паломников, сбившихся в кучку на краю широкой плоской равнины, и только. Корабля нет. Буря обрушивается на него с удесятеренной силой.
– Он уже должен быть здесь, верно? – кричит Ламия, когда Консул приближается к своим спутникам.
Он утвердительно кивает и садится на корточки, чтобы достать из рюкзака комлог. Вайнтрауб и Силен, пригнувшись, встают позади него, пытаясь хоть как-то заслонить от ветра. Достав комлог, Консул оглядывается. Впечатление такое, будто все они попали в обезумевшую комнату, чьи стены преображаются каждый миг – надвигаются на людей со всех сторон и тут же разъезжаются, потолок взмывает вверх, как в сцене из «Щелкунчика», когда зала с рождественской елкой вдруг начинает расти на глазах у изумленной Клары.
Консул накрывает ладонью дискоключ и наклоняется к квадратику микрофона. Старинный прибор шепчет ему что-то, неразличимое за скрежетом песка.
– Кораблю не разрешили взлететь, – произносит, выпрямляясь, Консул.
– Что значит «не разрешили»? – спрашивает Ламия, когда затихает взрыв гнева и разочарования.
Консул пожимает плечами и смотрит в небо, как будто все еще ждет появления голубого огненного хвоста.
– Его не выпустили с космодрома в Китсе.
– А вы разве не говорили, что у вас разрешение от ее блядской светлости? – кричит Мартин Силен. – От самой старухи Гладстон?
– Разрешение Гладстон было введено в память корабля, – отвечает Консул. – О нем знали и ВКС, и администрация космопорта.
– Тогда какого черта? – Ламия вытирает лицо. Слезы прорезали на ее оштукатуренных песком щеках узкие грязные бороздки.
Консул пожимает плечами.
– Гладстон и отменила свое разрешение. Тут есть послание от нее. Хотите услышать?
С минуту никто не отвечает. После недельного странствия мысль о контакте с кем-то за пределами их группы кажется настолько нелепой, что не укладывается в голове; мира вне Гипериона и паломничества к Шрайку для них не существует, а тот, который есть, напоминает о себе лишь взрывами в ночном небе.
– Да, – еле слышно произносит Сол Вайнтрауб. – Давайте послушаем.
Буря решила устроить минутную передышку, и его тихий голос звучит сейчас с пугающей отчетливостью.
Они сбиваются в кучку, усевшись кружком на корточки перед старинным комлогом и положив посередине отца Хойта. Стоило на миг оставить умирающего без внимания, как его засыпало песком. Теперь все индикаторы светятся красным, за исключением янтарных лампочек мониторов экстремальной терапии. Ламия меняет плазмопатрон на свежий и удостоверяется, что осмотическая маска надежно облегает рот и нос Хойта, всасывая из воздуха чистый кислород и отфильтровывая песок.
– Все в порядке, – говорит она, и Консул нажимает на дискоключ.
Послание Гладстон – это пучковая мультиграмма, полученная и записанная кораблем всего лишь десять минут назад. В воздухе мельтешат колонки цифр. Из круглых зернышек, характерных для комлогов времен Хиджры, складывается изображение Гладстон. Оно дрожит, лицо причудливо, а порой карикатурно кривится, сквозь него проносятся мириады песчинок. Буря беснуется с новой силой, и знаменитый голос едва слышен в бешеном реве ветра.
– Мне очень жаль, – властно заявляет секретарь Сената, – но в данный момент я не могу допустить ваш звездолет к Гробницам. Искушение улететь было бы слишком велико, в то время как забота об исполнении вашей миссии должна возобладать над всем остальным. Поймите, судьбы целых миров, возможно, зависят от вас. Верьте, я с вами всеми надеждами и молитвами. Гладстон, конец связи.
Изображение сворачивается и исчезает. Консул, Вайнтрауб и Ламия потерянно глядят перед собой, а Мартин Силен вскакивает и швыряет горсть песка туда, где только что было лицо Гладстон:
– Блядво поганое, сраная политиканша, дура набитая, говна кусок, хер в юбке, сука! – Он пинает песок, вскрикивая, как умалишенный. Остальные молча смотрят на него.
– Да, вы действительно отвели душу, – негромко произносит наконец Ламия Брон.
Силен, взмахнув руками, удаляется, расшвыривая ногами песок и бормоча что-то себе под нос.
– Что вас так рассмешило? – спрашивает Консул.
– Такой ужас творится, – отвечает она, растирая щеку ладонью, – а у меня одна мысль: какое чудо – принять душ!
– И пропустить рюмочку, – подхватывает Силен.
– Укрыться от бури, – тихо вторит ему Вайнтрауб. Ребенок, жадно чмокая, глотает молоко из детского синтезатора.
Кассад высовывается из палатки и вскидывает винтовку, одним движением сняв ее с предохранителя.
– Сенсоры, – говорит он. – За этой дюной что-то шевелится. – Он оборачивается к остальным, и в опущенном забрале отражаются бледные, жмущиеся друг к другу паломники и окровавленное тело Ленара Хойта.
– Пойду выясню, что там такое, – говорит он. – Ждите здесь до прибытия корабля.
– Не уходите, – протестует Силен. – Это как в тех долбаных старинных фильмах ужасов, где все уходят по одному, и поминай как звали… Эй! – Поэт умолкает. В треугольный вход палатки врываются свет и грохот.
Федман Кассад исчез.
Палатка начинает оседать, стойки и проволочные растяжки прогибаются, поддаваясь напору текучего песка. Прижавшись друг к другу, Консул и Ламия заворачивают тело отца Хойта в плащ. Лампочки медпакета продолжают мигать красным. Кровь из шва больше не сочится.
Сол Вайнтрауб укладывает свою четырехдневную Рахиль в переносную люльку, тщательно укрывает плащом, подтыкая его со всех сторон, и садится на корточки у входа.
– Никаких следов! – кричит он. В ту же секунду прямо на его глазах молния ударяет в поднятое крыло Сфинкса.
Ламия пробирается к выходу с неожиданно легким телом священника.
– Давайте перенесем отца Хойта на корабль в операционную! Потом кто-нибудь вернется за Кассадом.
Консул надвигает треуголку и поднимает воротник:
– На корабле есть мощный радар и другие средства обнаружения движущихся объектов. С их помощью мы узнаем, куда делся полковник.
– И Шрайк, – желчно добавляет Силен. – О хозяине забывать неэтично.
– Пошли.
Ламия встает, но ей тут же приходится согнуться в три погибели. Плащ Хойта хлопает крыльями и бьется вокруг Ламии, ее собственная накидка струится по ветру за спиной. Разыскав благодаря непрестанным вспышкам молний тропу, она берет курс на вход в долину, временами оглядываясь, не потерялись ли остальные.
Мартин Силен отходит на шаг от палатки, берется за принадлежавший Хету Мастину куб Мебиуса, и тут его пурпурный берет улетает, подхваченный ветром. Застыв на месте, поэт сыплет проклятиями, останавливаясь лишь для того, чтобы выплюнуть песок изо рта.
– Идемте! – кричит Вайнтрауб, ухватив поэта за плечо. Песчинки жгут Солу лицо, забиваются в бороду, но вместо того, чтобы заслониться рукой от ветра, он прикрывает ею грудь. – Мы рискуем потерять Ламию из виду, надо спешить!
Поддерживая друг друга, они борются со встречным ветром. По меховой шубе Силена бежит штормовая рябь. Поэт делает крюк, чтобы подобрать свой берет, скатившийся с дюны.
Консул оставляет палатку последним. У него два рюкзака на спине – свой и Кассада. Стоит ему покинуть это хрупкое укрытие, как стойки подламываются, ткань рвется, и палатка возносится в ночь, окруженная нимбом из электрических разрядов.
Спотыкаясь, Консул проходит метров триста, временами замечая впереди силуэты Сола и поэта. То и дело тропа теряется – тогда приходится описывать круги, пока не обозначится снова утоптанная полоска земли. Вспышки молний следуют одна за другой, и в их ослепительном свете Гробницы Времени видны как днем. Консул смотрит на Сфинкса, окутанного разрядами, различает позади него люминесцирующие стены Нефритовой Гробницы, а еще дальше Обелиск – он почему-то не светится и кажется вертикальным черным проемом на фоне стен ущелья. Тут же высится Хрустальный Монолит. Кассада не видно, хотя в песчаных вихрях, озаряемых синими отблесками, всюду чудятся какие-то силуэты и тени.
Консул задирает голову, видит широкий вход в долину и низко бегущие облака над ним. Где же голубой шлейф от спускающегося корабля? Буря, конечно, ужасная, но его посудина совершала посадки и в худших условиях. Он надеется, что корабль уже сел и остальные ждут его у трапа.
Но, добравшись наконец до скалистых стен у входа в долину, он видит четверку паломников, сбившихся в кучку на краю широкой плоской равнины, и только. Корабля нет. Буря обрушивается на него с удесятеренной силой.
– Он уже должен быть здесь, верно? – кричит Ламия, когда Консул приближается к своим спутникам.
Он утвердительно кивает и садится на корточки, чтобы достать из рюкзака комлог. Вайнтрауб и Силен, пригнувшись, встают позади него, пытаясь хоть как-то заслонить от ветра. Достав комлог, Консул оглядывается. Впечатление такое, будто все они попали в обезумевшую комнату, чьи стены преображаются каждый миг – надвигаются на людей со всех сторон и тут же разъезжаются, потолок взмывает вверх, как в сцене из «Щелкунчика», когда зала с рождественской елкой вдруг начинает расти на глазах у изумленной Клары.
Консул накрывает ладонью дискоключ и наклоняется к квадратику микрофона. Старинный прибор шепчет ему что-то, неразличимое за скрежетом песка.
– Кораблю не разрешили взлететь, – произносит, выпрямляясь, Консул.
– Что значит «не разрешили»? – спрашивает Ламия, когда затихает взрыв гнева и разочарования.
Консул пожимает плечами и смотрит в небо, как будто все еще ждет появления голубого огненного хвоста.
– Его не выпустили с космодрома в Китсе.
– А вы разве не говорили, что у вас разрешение от ее блядской светлости? – кричит Мартин Силен. – От самой старухи Гладстон?
– Разрешение Гладстон было введено в память корабля, – отвечает Консул. – О нем знали и ВКС, и администрация космопорта.
– Тогда какого черта? – Ламия вытирает лицо. Слезы прорезали на ее оштукатуренных песком щеках узкие грязные бороздки.
Консул пожимает плечами.
– Гладстон и отменила свое разрешение. Тут есть послание от нее. Хотите услышать?
С минуту никто не отвечает. После недельного странствия мысль о контакте с кем-то за пределами их группы кажется настолько нелепой, что не укладывается в голове; мира вне Гипериона и паломничества к Шрайку для них не существует, а тот, который есть, напоминает о себе лишь взрывами в ночном небе.
– Да, – еле слышно произносит Сол Вайнтрауб. – Давайте послушаем.
Буря решила устроить минутную передышку, и его тихий голос звучит сейчас с пугающей отчетливостью.
Они сбиваются в кучку, усевшись кружком на корточки перед старинным комлогом и положив посередине отца Хойта. Стоило на миг оставить умирающего без внимания, как его засыпало песком. Теперь все индикаторы светятся красным, за исключением янтарных лампочек мониторов экстремальной терапии. Ламия меняет плазмопатрон на свежий и удостоверяется, что осмотическая маска надежно облегает рот и нос Хойта, всасывая из воздуха чистый кислород и отфильтровывая песок.
– Все в порядке, – говорит она, и Консул нажимает на дискоключ.
Послание Гладстон – это пучковая мультиграмма, полученная и записанная кораблем всего лишь десять минут назад. В воздухе мельтешат колонки цифр. Из круглых зернышек, характерных для комлогов времен Хиджры, складывается изображение Гладстон. Оно дрожит, лицо причудливо, а порой карикатурно кривится, сквозь него проносятся мириады песчинок. Буря беснуется с новой силой, и знаменитый голос едва слышен в бешеном реве ветра.
– Мне очень жаль, – властно заявляет секретарь Сената, – но в данный момент я не могу допустить ваш звездолет к Гробницам. Искушение улететь было бы слишком велико, в то время как забота об исполнении вашей миссии должна возобладать над всем остальным. Поймите, судьбы целых миров, возможно, зависят от вас. Верьте, я с вами всеми надеждами и молитвами. Гладстон, конец связи.
Изображение сворачивается и исчезает. Консул, Вайнтрауб и Ламия потерянно глядят перед собой, а Мартин Силен вскакивает и швыряет горсть песка туда, где только что было лицо Гладстон:
– Блядво поганое, сраная политиканша, дура набитая, говна кусок, хер в юбке, сука! – Он пинает песок, вскрикивая, как умалишенный. Остальные молча смотрят на него.
– Да, вы действительно отвели душу, – негромко произносит наконец Ламия Брон.
Силен, взмахнув руками, удаляется, расшвыривая ногами песок и бормоча что-то себе под нос.