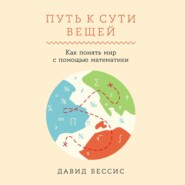По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Путь к сути вещей: Как понять мир с помощью математики
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я знаю мало людей, любопытных до такой степени, чтобы закрыться в комнате и размышлять о проблемах теоретической физики. Но кое-кого все же знаю, и все они говорят одно и то же: если им хочется закрыться в комнате наедине с проблемами теоретической физики, разумеется, ими движет научное честолюбие, но при этом – и в первую очередь – они получают истинное удовольствие.
И тогда вопрос начинает звучать так: как Эйнштейну удавалось находить удовольствие в занятиях физикой?
2. Как Эйнштейну удавалось не сдаваться?
Быть «страсть как любопытным» – значит иметь способность интересоваться чем-то с неослабевающим интересом, увлеченно, не пасуя перед сложностями. Эйнштейн явно нашел тайное средство, чтобы не отчаиваться там, где другие сдаются. И в чем же секрет?
Занимаясь математическими исследованиями высокого уровня, я понял одну важную вещь: когда запираешься в комнате наедине со сложной задачей, возникает ровно одно желание – сбежать оттуда.
Столкнуться с настоящей сложностью, достичь пределов своего ума, натыкаться на препятствия, месяцами барахтаться на месте, чувствовать себя слишком глупым, чтобы все это понять, и не иметь ни малейшего представления, как найти выход, – это же просто ужасно!
Эйнштейн нашел способ приручить свой страх и воспротивиться рефлекторному желанию сбежать. Что же это за способ?
3. Что именно происходило, когда Эйнштейн запирался в комнате наедине с проблемой?
Или, если говорить прямо, что Эйнштейн делал с проблемой? С какой стороны он к ней подходил? Как он действовал, чтобы с ней справиться?
Мы хотим знать, что на самом деле происходило у Эйнштейна в голове. Мы хотим знать, как он это делал по правде. Хотим узнать технику Эйнштейна, секретный фокус, который всегда срабатывал.
Мы знаем, что способность к интеллектуальному творчеству зависит не только от упорного труда. Мы знаем, что тут явно есть что-то еще, своего рода волшебные флюиды, что-то таинственное, что никогда не преподают в школе.
Если бы Эйнштейн нашел время преподать нам методику, как совершать великие научные открытия, его вклад в достижения человечества намного превзошел бы его работы по физике. Как говорится, лучше дать удочку, а не рыбу.
Эта дискуссия так и не состоялась. И никогда не состоится. Альберт Эйнштейн умер 18 апреля 1955 года в университетской больнице Принстона. Врачу, выполнявшему вскрытие, самому было так интересно раскрыть тайну Эйнштейна, что он изъял его мозг без согласия семьи и разрезал на тысячи пластинок.
Это мало чем ему помогло.
Метод
Но вообще, вопрос не только к Эйнштейну. Этому вопросу уже много веков. Он касается наших убеждений и заблуждений об интеллекте и интеллектуальном творении, а также ограничений, которые налагают на нас эти убеждения.
Самое трудное в понимании работ Эйнштейна – математический формализм. Он же создавал больше всего проблем и самому Эйнштейну. Как тот однажды признался школьнице, просившей у него совета: «Не переживай насчет своих проблем с математикой, уверяю тебя, у меня их намного больше».
Четыреста лет назад величайший математик своего времени рассказал о своей жизни в книге, ставшей известной на весь мир. С первых же страниц его посыл абсолютно ясен. Его можно вкратце изложить так: «Я не умнее других. Мне просто посчастливилось открыть волшебный метод, который позволил мне стать сильнее всех остальных. Позвольте мне объяснить, как я это сделал».
Тот же рефлекс, который не дает нам принять всерьез слова Эйнштейна, мешает нам услышать то, что пытается сказать этот математик (Рене Декарт), и поместить его книгу («Рассуждение о методе») на ту полку, где ей и следует быть – среди литературы о личностном развитии.
Сойдемся на том, что нет метода, который позволил бы каждому стать великим математиком, как и метода, который позволяет увеличить пенис или разбогатеть, работая из дома по два часа в день.
И неважно, что Декарт говорит нам прямо противоположное.
Три заблуждения
Мы еще вернемся к «Рассуждению о методе» в главе 14. Но, чтобы услышать, что нам пытаются сказать Эйнштейн и Декарт, сначала нужно избавиться от трех стереотипов о математике.
1. Чтобы заниматься математикой, надо мыслить логически.
2. Некоторые из нас от природы в ладах с числами, а некоторые от природы наделены хорошей геометрической интуицией. Увы, подавляющее большинство не понимает в математике ровным счетом ничего, и с этим надо смириться.
3. Великие математики родились с иной структурой мозга, чем у нас.
По первому стереотипу скажем сразу: нет, математики не мыслят логически. И никто не мыслит логически. Более того, мыслить логически в принципе невозможно. Логика вообще не предназначена для мышления. Она нужна для других вещей – мы еще обсудим для чего.
Второй стереотип – самый токсичный. Он ограничивает нас и делает фаталистами. Он сумел убедить добрую половину человечества, что математика – это чуждые и враждебные земли. Каждому из нас, включая самых одаренных, он полагает непреодолимый предел – уровень математической интуиции, который якобы «от природы» у каждого свой.
Третий стереотип – просто вариация на ту же тему: чтобы быть Эйнштейном или Декартом, надо таким родиться, им нельзя стать. А когда Эйнштейн и Декарт заявляют нам обратное, они просто над нами смеются.
Это представление, согласно которому мы якобы не способны стать успешными в математике, неверно, но исходит из фундаментальной истины: волшебная сила математиков не логика, а интуиция.
Как выстроить свою интуицию
Эйнштейн много говорил о важности интуиции в своих открытиях. «Я верю в интуицию и вдохновение», – сказал он и был при этом совершенно серьезен. Что же до математиков, они прекрасно знают, что есть две разные версии математики.
Официальная версия находится в учебниках – там она представлена логически и структурированно, на заумном языке, основанном на загадочных символах.
Скрытая версия находится в голове у математиков и называется математической интуицией. Она состоит из мысленных представлений и абстрактных ощущений, часто визуальных, которые кажутся математикам очевидными и приносят им удовольствие. Но когда речь заходит о том, чтобы поделиться этими очевидными вещами с остальным миром, математики оказываются в большом затруднении. То, что было таким очевидным, вдруг становится сложным.
Чтобы записать свои идеи, математики были вынуждены придумать тот самый заумный язык и загадочные символы, точно так же, как музыкантам пришлось придумать заумную нотную запись, чтобы передать свои сочинения. Только у музыкантов есть огромное практическое преимущество: им достаточно сыграть музыку, чтобы все сразу поняли, о чем идет речь, не занимаясь расшифровкой партитуры.
Большая проблема математиков в том, что у них такой возможности нет. В их голове идеи ярки, просты и богаты. На бумаге они становятся унылыми и невзрачными. Проклятие математиков – играть математику только в голове.
Если бы детей приобщали к музыке, заставляя расшифровывать партитуры Моцарта или Майкла Джексона и никогда ничего не давая слушать, музыка была бы таким же предметом всеобщей ненависти, как математика.
Интуиция – это смысл математики. Без интуиции математика не значит буквально ничего. И все же не нужно из этого заключать, что если вы ничего не понимаете в математике, то с этим уже ничего не поделать.
Ошибочно считать, что математическая интуиция – нечто статичное, непреодолимый рубеж. Ведь наше интуитивное представление о математических объектах не врожденное, не застывшее. Мы можем выстраивать его, выращивать день ото дня, если только следовать верной методике.
Математики прекрасно знают, что официальная математика – та, что в учебниках, – рассказывает не все. Они прекрасно знают, что истинная задача – суметь понять то, что в учебниках, суметь увидеть это и почувствовать.
Поэтому в повседневной жизни их занимает вопрос, как развивать свою интуицию, чтобы она становилась богаче. Интуиция математика – в гораздо большей степени, чем его публикации и официальные работы, – это его шедевр, творение всей жизни.
Это необыкновенное искусство видеть, чувствовать, действительно понимать и находить очевидным то, что 99.9999 %[2 - Автор намеренно использует точку, а не запятую в качестве десятичного разделителя, о чем в конце книги сделано отдельное примечание.] человечества считает чудовищно абстрактным и в высшей степени непостижимым, – великое искусство математиков и их великая тайна. Лишь те, кто занимался этим, знают, куда может привести данное искусство.
Но как у них получается? Вот о чем эта книга.
Три секрета математиков
1. Занятия математикой – это физическая активность. Чтобы понять то, чего не понимаешь, нужно выполнять в уме скрытые действия – невидимые, но необходимые, – которые позволят обогатить интуицию и развить новые мысленные представления, более глубокие и мощные. Это деятельность, которая усиливает и обогащает нас. Учиться заниматься математикой – значит учиться пользоваться своим телом. Это то же самое, что и учиться ходить, плавать, танцевать или ездить на велосипеде. Эти действия не даны нам от рождения, но все мы способны им научиться.
2. Есть метод, позволяющий отлично разбираться в математике. Этот метод никогда не преподают в школе. Впрочем, он не похож ни на какую школьную методику и противоречит всем принципам традиционного образования. Он требует не усилий, а простоты. Его можно сравнить с техникой скалолазания, боевым искусством, своего рода йогой или медитацией. Он учит нас преодолевать страхи, обуздывать позыв к избеганию неизвестного, учит находить удовольствие в столкновении с противоречием. Это способ перепрограммировать нашу интуицию. А значит, это не просто метод, помогающий отлично разбираться в математике, – это метод, позволяющий стать очень умным.
3. Мозг великих математиков работает так же, как и наш. Как и с другими видами физической активности, естественная склонность к математике, конечно, распределена между людьми неравномерно. Но это биологическое неравенство играет все же не такую важную роль.
Математические навыки распределены так чудовищно неравномерно, что биологическая гипотеза не выдерживает критики. Несомненно, некоторым людям генетически присуще более эффективное, быстрое и мощное взаимодействие нейронов, которое – почему бы и нет? – может сделать их, скажем, в два раза способнее к математике. Но владеть правильным методом, развить правильные умственные рефлексы, занять правильную психологическую позицию – значит стать способнее к математике в миллиард раз.
Есть другое, намного более простое и правдоподобное объяснение, почему существует столь вопиющее неравенство в способностях к математике: нас никогда не учат методу, как начать отлично разбираться в математике. Все отдается на волю случая. Каждому приходится заново, самостоятельно и наудачу открывать крупицы методики. А чаще всего никому не удается ничего открыть, потому что некоторые ключевые моменты метода неожиданны и идут вразрез с интуицией. Пройти мимо них очень легко.
Мозг великих математиков работает так же, как и наш. Но их личная история, их способ выстроить взаимоотношения с миром дали им возможность познакомиться с этим методом с детства. Они приобщились к нему самостоятельно, не имея такого намерения и не зная, что они делают. Просто так случайно повернулась жизнь.