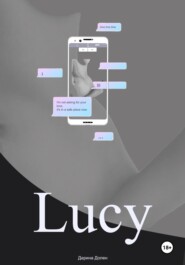По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Темная сторона искусства
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В тот момент я не мог понять, что отец совершенно несчастен. Ему не присвоили звание, к которому он стремился много лет, и алкоголь стал постоянным гостем на столе. Место молодого и радостного парня занял взрослый оплывший мужчина, с намечающимся пузом и сединой, он постоянно смотрел «Улицы разбитых фонарей» и что-то бубнил под нос.
Во всех ссорах родителей я винил себя и, несмотря на то, что был ребенком, твердо решил не показывать свой интерес к живописи. Я стал осторожным, тайком заглядывал в книги, прятал рисунки.
Отец свято верил в свою службу, тогда еще в милиции. Даже после того, как с ним плохо поступили, он оправдывал начальство и тянул эту лямку. Мы жили небогато: общая кухня, ванна и мусоропровод. Алюминиевая посуда, купленная на распродаже мебель, б/у техника и выступления президента на Новый год – все это наполняло нашу реальность. Я носил вещи подростков из других семей, моя одежда доставалась ребятам помладше, игрушки и книжки переходили из рук в руки. Мама часто тратила деньги, заработанные на немногочисленных заказах, на масляные краски и другие принадлежности для живописи и слышала колкости в свой адрес от отца.
Мы редко говорили с ним, так как интересы не совпадали. Обида поселилась в моей душе, и хоть я скрывал увлечение живописью, злостью утаить не мог. Мы стали цапаться и еще больше отдаляться друг от друга, он выдавал мне затрещины, а я гордо задирал нос. Зато с мамой, наоборот, отношения крепли. Она не училась в академии, в которую я поступил годами позже, но осталась талантливой художницей. Я бежал из школы, чтобы скорее посмотреть, как она копирует шедевры великих мастеров прошлого, пишет натюрморты и иногда портреты на заказ. Голландская живопись оставалась ее любимым направлением в искусстве, все эти волшебные слова: имприматура[1 - Термины, используемые художниками. Имприматура – цветная тонировка поверхности уже готового белого грунта. Тройник – универсальный разбавитель художественных масляных красок. Подмалевок – подготовительный этап работы над картиной, когда художник намечает композицию будущего произведения. Мастихин – инструмент, который используют в масляной живописи (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C) для смешивания красок, удаления их незасохших остатков, очистки палитры (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0) или нанесения густой краски на холст (прим. ред.).], тройник, подмалевок, мастихин – все это вызывало во мне неподдельный трепет. Несмотря на то, что иногда я перебирал с отцом оружие, мне хотелось вернуться к краскам. Но только пока его не было дома.
Часами я разглядывал книги о живописи, пытался читать их, даже если они были на немецком или английском, и я ни слова не понимал. В голове закрепилась мысль, что искусству не нужен привычный для нас язык, оно само по себе совершенно, слова в нем излишни, за исключением особенных тайных знаков, с помощью которых художники могли общаться и оставлять послания сквозь века. Что еще на свете могло так заинтересовать?
Я рос со своей личной тайной.
Наркотики не производили впечатления, чтобы как-то заострить на них внимание. Пару раз я попробовал, мне не понравилось. Ребята, которые баловались веществами, казались мне глупыми, агрессивными и совсем не интересными. Их разговоры сводились к одной теме: как достать, что курить, в каком падике[2 - На молодежном сленге то же, что подъезд (прим ред.).] разместиться. Я тусил с парнями и девчонками в грязном дворе с единственным футбольным мячом на всех, попивал пиво, но когда была возможность, или мне попросту надоедало, исчезал без лишних слов. Просто сворачивал с дороги и топал домой. К этому привыкли. Пару раз меня назвали ссыклом и подъюбочником, я промолчал, а после пары банок пива подошел к Вадику и двинул ему в голову, тот упал и больше не обзывался. Никто больше не обзывался.
Оставались разговоры про DotA[3 - Многопользовательская командная компьютерная игра (прим. ред.).], «Шаман Кинга»[4 - Популярный в начале двухтысячных годов аниме-сериал (прим. ред.).], двойки в четверти и сумасшедших мужиков, которые приходили дрочить под окно женской раздевалки. Одного мы как-то раз подстерегли. Оказалось, что бегает засранец даже быстрее тех, кто участвует в юношеских соревнованиях. Больше мы его не видели.
Обстановка в школе была обычной для того времени. Кто-то без конца дрался, кто-то курил в туалете и постоянно прогуливал. Все подростки делились на «благополучных» и «неблагополучных», те, кто жили в общагах или воспитывались в неполной семье, автоматом относились к отщепенцам. В «А» классе учились ребята, которым, как считалось, повезло больше, именно там получали спортивные медали и грамоты за участие в олимпиадах.
Я учился в «Б» классе на тройки и четверки, старался не высовываться, и учителя записали меня в тихони. О том, что я дрался и торговал наркотиками, никто не догадывался, в этом была моя победа. Помню, я решил, что сам эту дрянь не трону, но продать могу без проблем. Никто не обращал внимания на род моих занятий, по сути, я делал что хотел, просто вовремя сдавал домашку и писал контрольные, хоть и не готовился к ним.
В моем районе все выглядело родным, но таким обреченным, даже под конец девяностых все продолжало быть тоскливым, кроме местных гопников.
Наши окна выходили на огромную свалку – это была большой, вонючий кусок земли, покрытый отходами жизнедеятельности людей. Всего понемногу: техника, пластик, стройматериалы, шприцы, сломанные лыжи, пустые пачки из-под презиков марки «Гусар». На свалке побирались и умирали бездомные собаки, а я ходил туда, чтобы подумать, иногда подкармливал животину.
Сейчас там вырос престижный жилой комплекс. Это гиблое место выкупили и привели в порядок. Стройка шла долго, но еще до окончания работ появился рекламный щит с надписью «Элитный ЖК», и люди побежали заселять ту вонючую землю.
Сила маркетинга всегда пугала меня. Со временем я узнал, что это и есть двигатель торговли, можно продавать жареные гвозди с этикеткой «полезное питание» и развалюхи на окраине по цене жилья в центре. Главное, это обертка и соус, под которым это все подается.
И будь ты хоть трижды гений, но гений застенчивый, твои работы будут прозябать в углу, пока не найдется бессовестный и беспринципный торгаш. Рынку не нужны честность, твои принципы и жизненные устои. Если ты хочешь продавать, будь готов действовать самыми разными способами и пробиваться наверх, не обращая внимания на других.
Такие способности есть далеко не у каждого. Я, например, полный идиот и зависаю, перед тем как выговорить длинное предложение. Но мой недавний друг, можно сказать, подельник, обладал этими качествами сполна. Все, что он говорил, придавало любой безделушке золотой статус, и она уходила с молотка за пару дней. Его звали Гермес.
Свою любовь к искусству я скрывал от окружающих. Копил деньги (часть оставалась от суммы, которую давали родители на карманные расходы, часть – с моего грязного заработка), чтобы один раз в неделю сходить в музей или кафе, выпить кофе из красивой кружки и полюбоваться чудесным видом из окна.
Этим особым днем была пятница. Я заранее закидывал в стиральную машинку единственные относительно новые черные джинсы и любимый свитер с высоким горлом, также черного цвета, надевал очки, которые во дворе носить стремался, чистил замызганные кроссовки и отправлялся с самого утра в центр города.
Туда я уезжал со станции «Метро Большевиков». У нее стоял огромный, открытый для всех и каждого, рынок. Там торговали мясом, овощами и фруктами, бесформенными шмотками – по большому счету всем, если знать, к кому обратиться. Мне нравилось ходить туда с мамой, а позже, когда я подрос, таскался уже один в качестве развлечения. Я останавливался и наблюдал за продавцами. Они ловко жонглировали товаром, казалось, у них под прилавком находятся все сокровища мира. Они всегда улыбались и знали своих постоянных клиентов по именам.
Не знаю почему, но взрослые общались со мной на равных, иногда угощали фруктами. Один армянин знал, что я кормлю собак на свалке, и периодически отдавал мешок хороших костей. Я был благодарен ему от всего сердца. Каждый раз, возвращаясь на ту помойку, обдуваемый питерским холодным ветром, я улавливал запах гнили и сырости и понимал, откуда я и где мое место. Но я все равно любил эту пустошь и этих дворняг. К тому же всегда, как бы ни было тяжело, приходило лето, и даже та мертвая земля покрывалась зеленой, свежей травой.
Дорога от «Метро Большевиков» до «Невского проспекта» в пятницу занимала около сорока минут, две пересадки – и я на месте. В подземке я утыкался в книжку Лукьяненко или в потрепанный блокнот с набросками.
Больше всего на свете, до самозабвения, я любил зарисовывать людей – в метро и на улице, в библиотеке и в кафе. Я оставался невидимым в толпе, но люди в ней были передо мной как на ладони.
Конечно, я не проводил много времени на одном месте – шарахался пешком по улочкам и переулкам, заглядывал во дворы, делал зарисовки. Иногда я даже не понимал: куда и как пришел, но оказавшись наедине с архитектурой, подмечал лепнину и лица на пыльных фасадах. Если дверь в парадную, на мое счастье, была отрытой, заходил и туда, рассматривал плитку на полу, деревянные двери, расстекловку уцелевших окон, витражи, заводил разговоры с местными кошками.
День ото дня мой блокнот распухал от новых рисунков. Они множились сами по себе, стоило мне взять в руки карандаш и выйти на улицу. Как-то раз я набросал двух своих одноклассниц. Они заметили и были в таком диком восторге, что купили эти почеркушки, разумеется, за смешные деньги, но зато эти деньги были чистыми. Со временем я оставил торговлю, которой промышлял ранее, и стал брать заказы на рисунки. Я писал натюрморты, портреты собак, кошек и людей, не замечая особой разницы между ними. Их покупали. Конечно, домашним я об этом не рассказал. А дверь в свою комнату закрывал на ключ, который мне изготовили после того, как я завел разговор о взрослении. Мне всегда было проще намекнуть на ежедневную дрочку, чем на то, что я пишу натюрморты.
Это увлечение сопровождало меня все подростковые годы. Как только моя живопись просочилась в школьные стены, меня стали замечать преподаватели, оценки повысились, несмотря на то, что учился я так же, как и раньше, даже иногда хуже, потому что променял математику и физику на карандаши с кистями.
В нашей школе был учитель изобразительного искусства, он преподавал нам в младших классах, но я тогда, мягко говоря, не блистал, просто размазывал грязь по бумаге. Как-то, когда я уже стал старше, Владимир Леонидович спросил у меня:
– Раньше ты не проявлял никакого интереса к рисунку. Почему же сейчас? – преподаватель смотрел на меня серьезно, его очки в серебряной оправе блестели на пробившемся в кабинет луче солнца.
Я не знал, что ответить. Я вообще ничего не хотел отвечать. Сказал лишь:
– Раньше я был глуп. И слеп.
Владимир Леонидович рассмеялся. Позже он подошел ко мне еще раз, но с предложением подготовить меня к поступлению в художественную студию или вуз. Мне нужно было время подумать. Внутри себя я уже согласился, но мне хотелось посоветоваться с мамой.
Сейчас я понимаю, что таких учителей уже не сыскать, они бились за любой талант в учениках. Нашу школу посещал сброд из разных общежитий и пятиэтажных панелек, мало кому была интересна учеба, но даже самую маленькую искру в ребенке пытались сохранить и разжечь как можно ярче. Преподаватели старались говорить с детьми, развивать появившийся интерес.
Как-то раз одна из пожилых учительниц расплакалась после разговора с пацаном из моей общаги, его звали Глеб. О его маме знали мало, только то, что она неистово пьет, а отец и старший брат отличались жестокостью: парень всегда ходил с синяками, правда, на тех местах, которые могла скрыть одежда. В раздолбанной комнате, под названием раздевалка, в которой мы находились перед уроком физкультуры, я часто замечал здоровенные синие с краснотой пятна у него на спине. Однажды брат Глеба отрабатывал на нем приемы по самбо и переборщил. Как сказала Глеб, старший заехал ему в голову ногой с разворота. Когда я спросил у пацана, глядя на его заплывший глаз: какого черта он делает в школе, он лишь отвернулся и сказал:
– Все лучше, чем дома.
И я его понимал. Мы были совершенно разные, и все же.
Подвиг учителей ты осознаешь гораздо позже, когда уже другие – совсем чужие люди – не запомнят твоей фамилии среди прочих студентов.
Мы с мамой не затрагивали тему поступления куда-либо, но близился конец десятого класса, до которого я доучился только благодаря рисункам. Большинство моих однокашников ушли после девятого, а я остался, правда, не потому, что хотел получить полное школьное образование, я просто не знал, куда податься. И я не был уверен в своем таланте к живописи. Однажды, пока отца не было дома, я решил показать свои работы матери, я был убежден, что она скажет мне всю правду, честно, без прикрас.
Я пришел к ней и выдал все на-гора: показал рисунки, фотки проданных картин, которые мне присылали с благодарностью. Мы пообщались за чашкой свежезаваренного чая. В конце разговора меня ждало две новости: одна, как говорится, хорошая, вторая – плохая. Мама сказала, что мои способности великолепны, и мне стоит посещать занятия с учителем. Я радовался, как идиот. Второй новостью оказался развод.
Так случилось, что отец уже несколько лет крутил роман на стороне, и, возможно, мы об этом и не узнали бы, но его новая пассия залетела и скоро должна была разродиться. Отец благородно решил, что тот, другой, ребенок заслуживает нормальной семьи, а мы… Мы уже прошлое.
Вторую новость я просто проглотил. Во время разговора наши лица оставались спокойными, как будто ничего и не произошло. Были произнесены еще какие-то слова, мы допили чай, и я ушел в свою комнату. Слезы проступили сами собой, я этого не хотел. Как себя чувствовала мама, я не знал, она оставила все переживания за дверью.
Через неделю отец съехал от нас в свою новую, счастливую жизнь.
Конец десятого и весь одиннадцатый класс я рисовал – самозабвенно, ничего не замечая вокруг. Все уже знали про нашу ситуацию, сплетни из общаги тут же просочились в школу, многие взрослые сжалились надо мной. Я их не просил, учился, как мог. Честно сказать, я почти ничего не помню из программы, так как часто прогуливал, но я не убегал из школы, а ходил к нашему преподавателю изо на первый этаж, где тусили первоклашки. Сначала им было смешно, потом стало все равно.
Думаю, что Владимир Леонидович говорил с учителями: они прекрасно знали, где я зависал, и проявляли снисходительность, даже уважение, приходили посмотреть на мои успехи. К концу одиннадцатого класса я уже рисовал гипсовую голову – Афродита, Давид, Геракл – и делал наброски с натуры маслом, когда мы выезжали в мастерские к друзьям Леонидовича. Он таскал меня за собой повсюду и очень помог, что тут скажешь.
Он и коллеги часто бухали, а я слушал. Иногда мне везло, и в студии у художников бывали обнаженные модели, они с удовольствием позировали мне. Их забавляли мои вытаращенные, жадные глаза, наверное, они думали, что я хотел их в сексуальном смысле. Конечно, не без этого, но их тела оставались для меня в первую очередь предметом искусства. Я ловил линии плеч, старался передать округлости бедер, иногда мог надолго зависнуть только на кистях рук. Эти длинные пальцы, эти пышные волосы. Я смотрел, смотрел, смотрел… и бесился, что мои руки не могут передать ту красоту, те звенящие ноты живого, теплого тела.
Старики смеялись надо мной, но по-доброму. Они видели, что я своего рода сумасшедший, помешанный, голодный. Мне показывали, как работать с разными материалами: с углем, сангиной[5 - Материал и инструмент для рисования, изготавливаемый в виде палочек из каолина и оксидов железа (прим. ред.).], маслом, я с жадностью поглощал информацию, сразу же пробовал новые материалы, при первой возможности покупая их. Иногда мне доставались жалкие остатки красок или старых кистей, и я был счастлив.
Как-то раз один из друзей Леонидовича – седой живописец с длинной бородой – сказал, что с такими работами я могу попробовать поступить в Санкт-Петербургскую академию художеств. Я не воспринял его слова всерьез и отмахнулся с шуткой:
– Да кто там ждет такого безродного пса, как я. Я же никто, парень из общежития.
Но тот мужичок подошел ко мне и, глядя в глаза, произнес:
– И в вороньем гнезде рождаются фениксы. Даниил, ты художник! Мальчик мой, тебе следует серьезно над этим подумать, – он похлопал меня по плечу и ушел в комнату, где играла классическая музыка и звенели бокалы. А я остался.
И в вороньем гнезде рождаются фениксы…
Когда я рисовал гипсовые головы, я смотрел в пустые глаза, иногда говорил с ними и, можно сказать, на самом деле помешался. В какой-то момент все человеческие лица стали для меня белым, безжизненным камнем. Но после того как я освоил масло, все вокруг потихоньку начало приобретать краски. Это ни с чем не сравнится. Растворитель, чистый холст, новая кисть – все это стало для меня новой жизнью, она заменила собой прошлую и забрала боль.