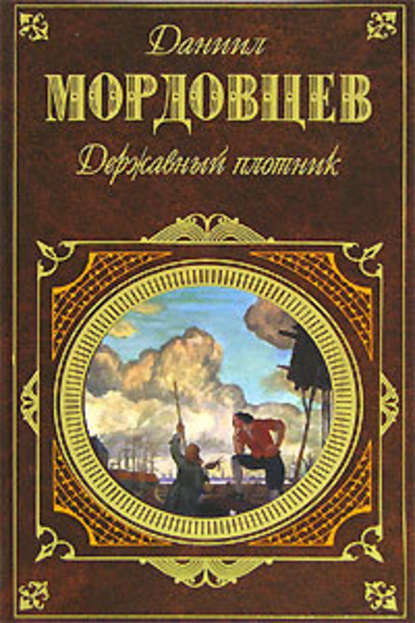По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Державный плотник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И ты, Григорий Талицкий, утверждаешь на всем том, что сказал? – спросил первоприсутствующий.
– Утверждаюсь! И на костре возвещу народу, что настали последние времена и что на Москве...
Но пристав силою зажал рот фанатику.
– Отвести его в Преображенский, – сказал первоприсутствующий.
Талицкого увели; но с порога он успел крикнуть:
– Не потеряй венца ангельского, Игнатий. Он ждет нас на небесах, а здесь...
Голос его еще звучал за дверями, но слов не было слышно.
Тогда первоприсутствующий обратился к Игнатию.
– Игнатий, епискуп тамбовский, утверждаешься ли ты на всем том, что показал здесь?
– Утверждаюсь, в трикраты утверждаюсь.
– Иди с миром, – сказал первоприсутствующий. Увели и Игнатия.
Архиереи переглянулись.
– Вина его велика... но... блажени милующие, – тихо сказал один из них и взглянул на первоприсутствующего.
– Лишению архиерейского сана повинен, – проговорил последний.
– И лишению монашеского чина, – добавили другие.
– Обнажению ангельского лика, но не смерти, – заключил первоприсутствующий.
* * *
Прошло несколько дней.
Мы в Преображенском приказе, в застенке.
Перед князь-кесарем Ромодановским и перед заплечными мастерами стоит епископ Игнатий...
Но он уже не епископ и не Игнатий...
Он – Ивашка Шалгин, и не в епископской рясе и не в клобуке, а совсем голый и с бритою головой.
– Стоишь на своем, Ивашка? – спрашивает его князь-кесарь.
– Стою.
Ромодановский глянул на палачей.
– Действуйте... да чисто чтоб!
Палачи моментально схватили бывшего архиерея, скрутили и подняли на дыбу.
Послышался страшный стон, и плечевые суставы рук выскочили из своих мест.
Мученик лишился сознания.
– Жидок архиерей, – презрительно кинул князь-кесарь приказному, записывающему «застенное действо». – Снять с дыбы!
Несчастного сняли и положили на рогожу. Он казался мертвым.
– Вправить руки в плечевые вертлюги, – приказал Ромодановский.
При ужасающем крике очнувшегося страдальца палачи, опытные хирурги, вправили то, что вывихнула дыба. Страдалец опять был в обмороке.
– Отлить водой! Оклемает.
Стали несчастному лить воду на лицо, на голову, против сердца.
Когда, немного погодя, он несколько пришел в себя и открыл глаза, Ромодановский сказал палачам:
– Подбодрите владыку «теплотой».
Тогда «заплечные мастера» силою открыли рот и влили в него целую косушку водки.
– Разрешение вина и елея... – злорадствовал князь-кесарь.
Водка быстро подействовала на ослабевший организм расстриженного архиерея, и он привстал на рогоже.
– Сможешь теперь говорить? – спросил Ромодановский.
– Смогу, – был ответ.
– Говори, да токмо сущую правду, а то «копчению» предам.
...Что означало в древней судебной терминологии слово «копчение», неизвестно: может быть, это и было сожжение на костре, которому был подвергнут в Пустозерске знаменитый протопоп Аввакум, самый энергичный и неустрашимый расколоучитель.
Тогда бывший епископ заговорил:
– Которые тетрати я у Гришки Талицкого взял, и те тетрати на Москве сжег подлинно...
– Ну! – торопил князь-кесарь.
– А как те тетрати сжег, того у меня никто не видал, и тех тетратей я никому не показывал и о них никому не говорил, и списков с них никому не давал.
Он говорил медленно, заплетающимся языком, и часто останавливался для передышки.
– Все? – спросил Ромодановский.
– Утверждаюсь! И на костре возвещу народу, что настали последние времена и что на Москве...
Но пристав силою зажал рот фанатику.
– Отвести его в Преображенский, – сказал первоприсутствующий.
Талицкого увели; но с порога он успел крикнуть:
– Не потеряй венца ангельского, Игнатий. Он ждет нас на небесах, а здесь...
Голос его еще звучал за дверями, но слов не было слышно.
Тогда первоприсутствующий обратился к Игнатию.
– Игнатий, епискуп тамбовский, утверждаешься ли ты на всем том, что показал здесь?
– Утверждаюсь, в трикраты утверждаюсь.
– Иди с миром, – сказал первоприсутствующий. Увели и Игнатия.
Архиереи переглянулись.
– Вина его велика... но... блажени милующие, – тихо сказал один из них и взглянул на первоприсутствующего.
– Лишению архиерейского сана повинен, – проговорил последний.
– И лишению монашеского чина, – добавили другие.
– Обнажению ангельского лика, но не смерти, – заключил первоприсутствующий.
* * *
Прошло несколько дней.
Мы в Преображенском приказе, в застенке.
Перед князь-кесарем Ромодановским и перед заплечными мастерами стоит епископ Игнатий...
Но он уже не епископ и не Игнатий...
Он – Ивашка Шалгин, и не в епископской рясе и не в клобуке, а совсем голый и с бритою головой.
– Стоишь на своем, Ивашка? – спрашивает его князь-кесарь.
– Стою.
Ромодановский глянул на палачей.
– Действуйте... да чисто чтоб!
Палачи моментально схватили бывшего архиерея, скрутили и подняли на дыбу.
Послышался страшный стон, и плечевые суставы рук выскочили из своих мест.
Мученик лишился сознания.
– Жидок архиерей, – презрительно кинул князь-кесарь приказному, записывающему «застенное действо». – Снять с дыбы!
Несчастного сняли и положили на рогожу. Он казался мертвым.
– Вправить руки в плечевые вертлюги, – приказал Ромодановский.
При ужасающем крике очнувшегося страдальца палачи, опытные хирурги, вправили то, что вывихнула дыба. Страдалец опять был в обмороке.
– Отлить водой! Оклемает.
Стали несчастному лить воду на лицо, на голову, против сердца.
Когда, немного погодя, он несколько пришел в себя и открыл глаза, Ромодановский сказал палачам:
– Подбодрите владыку «теплотой».
Тогда «заплечные мастера» силою открыли рот и влили в него целую косушку водки.
– Разрешение вина и елея... – злорадствовал князь-кесарь.
Водка быстро подействовала на ослабевший организм расстриженного архиерея, и он привстал на рогоже.
– Сможешь теперь говорить? – спросил Ромодановский.
– Смогу, – был ответ.
– Говори, да токмо сущую правду, а то «копчению» предам.
...Что означало в древней судебной терминологии слово «копчение», неизвестно: может быть, это и было сожжение на костре, которому был подвергнут в Пустозерске знаменитый протопоп Аввакум, самый энергичный и неустрашимый расколоучитель.
Тогда бывший епископ заговорил:
– Которые тетрати я у Гришки Талицкого взял, и те тетрати на Москве сжег подлинно...
– Ну! – торопил князь-кесарь.
– А как те тетрати сжег, того у меня никто не видал, и тех тетратей я никому не показывал и о них никому не говорил, и списков с них никому не давал.
Он говорил медленно, заплетающимся языком, и часто останавливался для передышки.
– Все? – спросил Ромодановский.