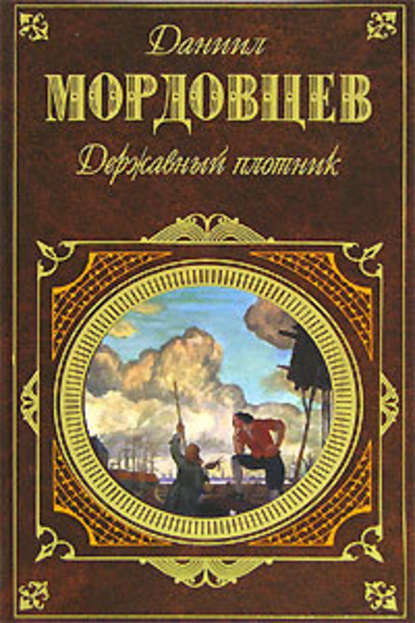По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Державный плотник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он видел, что государь в хорошем расположении духа.
– Эх, князюшка! – махнул рукою Петр. – Моя песенка спета.
– Что так, государь? – притворился удивленным князь-кесарь.
– Так... Не строить уж мне больше корабликов, не видать мне Невы, как ушей своих, – продолжал Петр. – Снимут с меня, добра молодца, и шапочку Мономахову, и бармы, и наденут на меня гуньку кабацкую да лапотки босоходы.
– Где ж это птица такова живет, котора б заклевала нашего орла, что о дву голов? – улыбнулся князь-кесарь.
– Да вот новый Григорий Богослов, а може, и Гришка Отрепьев...
– Что у меня в железах сидит?
– Да может, и тамбовский, а то и вселенский патриарх Игнатий: они не велят народу ни слушаться меня, ни податей платить... Прости, матушка-Нева со кораблики!
– К слову, государь, – сказал Ромодановский, – в те поры, как я это спешил к тебе, к патриаршей Крестовой палате съезжались все архиереи, чтобы судить Игнашку, «вселенского патриарха», как ты изволил молвить.
Глаза царя метнули молнии.
– И обелят пустосвята долгогривые! – гневно сказал царь. – Знаю я их!.. Один токмо Митрофан воронежский другим мирром мазан, да те, что из хохлов – Стефан Яворский да Димитрий Туптало, как мне ведомо, это люди со свечой в голове... А те, что из российских, все вздоены кислым молоком от сосцов протопопа Аввакума.
– Не обелят, государь, – уверенно сказал Ромода, – повисит он, сей Игнашка, у меня на дыбе! Улики налицо.
– Так говоришь, судят? – уже спокойно спросил царь.
– Судят, государь.
– Не заслоняй мне Невы, Данилыч, своими лапищами, – сказал Петр Меншикову, снова наклоняясь над картой.
* * *
Над Игнатием действительно совершался архиерейский суд с патриархом во главе.
Адриан и все архиереи сидели на своих местах, по чинам, а перед ними стоял аналой с положенными на нем распятием и Евангелием.
Игнатий стоял, опустив глаза, и дрожащими руками перебирал четки. Лицо его было мертвенно-бледно, и бледные, посиневшие губы, по-видимому, шептали молитву.
– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, – тихо провозгласил маститый старец, патриарх.
– Аминь, аминь, аминь, – отвечали архиереи.
– Епискуп тамбовский Игнатий, – не возвышая голоса, продолжал патриарх, – пред сонмом тебе равных служителей Бога живого, перед святым Евангелием и крестом распятого за ны, говори сущую правду, как тебе на страшном суде явиться лицу Божию.
Игнатий молчал и продолжал только шевелить бескровными губами. Было так тихо в палате, что слышно было, как где-то в углу билась муха в паутине. Где-то далеко прокричал петух...
«Петел возгласи», – бессознательно шептали бескровные губы несчастного.
– Призови на помощь Духа-Свята и говори... Он научит тебя говорить, – с видимой жалостью и со вздохом проговорил Адриан.
Дрожащими руками Игнатий поправил клобук.
– Скажу, все скажу, – почти прошептал он. – Против воровских писем Григория Талицкого...
– Гришки, – поправил его патриарх.
– Против воровских писем Гришки, – постоянно запинаясь, повторил подсудимый, – в которых письмах написан от него, Гришки, великий государь с великим руганием и поношением. У меня с ним, Гришкою, совету не было; а есть ли с сего числа впредь по розыскному его, Гришкину, делу явится от кого-нибудь, что я по тем его, Гришкиным, воровским письмам великому государю в тех поносных словах был с кем-нибудь сообщник или кого знаю да укрываю, и за такую мою ложь указал бы великий государь казнить меня смертию.
Пальцы рук его так хрустнули, точно переломились кости.
– И ты, епискуп тамбовский Игнатий, на сем утверждаешься? – спросил патриарх.
– Утверждаюсь, – шепотом произнесли бескровные губы.
– Целуй крест и Евангелие.
Шатаясь, несчастный приблизился к аналою и, наверное, упал бы, если бы не ухватился за него. Перекрестясь, он с тихим стоном приложился к холодному металлу такими же холодными губами.
Тут, по знаку Адриана, патриарший пристав отворил двери, и в палату, гремя цепями, вошел Талицкий.
Взоры всех архиереев с испугом обратились на вошедшего. Это было светило духовной эрудиции москвичей, великий ученый авторитет старой Руси. И этот твердый адамант веры, подобно апостолу Павлу, – в оковах!
Некоторые архиереи шептали про себя молитвы...
Но когда Талицкий, уставившись своими глазами в мертвенно-бледное лицо Игнатия, смело, даже дерзко отвечал на предложенные ему патриархом вопросные пункты, составленные в Преображенском приказе на основании показаний прочих привлеченных к делу подсудимых, и выдал такие подробности, о которых умолчал Игнатий, архиереям показалось, что Талицкий и их обличает в том же, в чем обличал тамбовского епископа.
И многие из сидевших здесь архиереев видели уже себя в страшном застенке, потому что и они глазами Талицкого смотрели на все то, что совершалось на Руси по мановению руки того, чье имя, называемое здесь Талицким, они и в уме боялись произносить.
Наконец, затравленный разоблачениями Талицкого до последней потери воли и сознания, Игнатий истерически зарыдал и, закрыв лицо руками, хрипло выкрикивал, почти задыхаясь:
– Да!.. Да!.. Когда он, Григорий...
– Гришка! – вновь поправил патриарх...
– Да! Да! Когда он, Гришка... те вышесказанные тетрати... «О пришествии в мир антихриста» и «Врата»... ко мне принес... и, показав... те тетрати передо мною... чел и рассуждения у меня... просил в том... Видишь ли-де ты, говорил он, Григорий...
– Гришка! – строго остановил патриарх.
– Да, видишь ли-де ты, что в тех тетратях писано... что ныне уже все... сбывается...
– «Воистину сбывается», – мысленно, с ужасом, согласились архиереи.
Игнатий, обессиленный, остановился, но пристав заметил, что он падает, и подхватил несчастного.
По знаку патриарха молодой послушник принес из соседней ризницы ковш воды и поднес к губам Игнатия. Тот жадно припал к воде.
«Жажду!» – припомнились не одному архиерею слова Христа на кресте. – «Жажду!»....
– Ободрись, владыко, – шепнул пристав несчастному, поддерживая его, – Бог милостив.