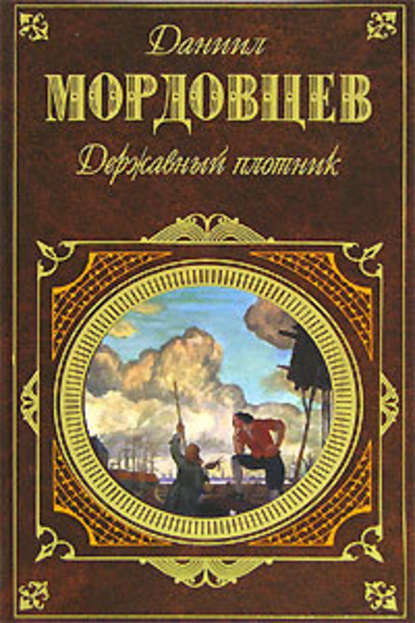По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Державный плотник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Али сполох? Что же не звонят? Братцы! На колокольню!
– Стой! Надыть узнать, какой сполох.
А барабан все ближе к церкви, к толпе. Виднеется конный, машет белым платком, вздетым на обнаженную саблю.
Толпа обступает офицера и барабанщика. Офицер делает знаки, барабан умолкает. Толпа ждет: это уже не прежняя овцевидная толпа. У этой толпы злые глаза.
– Долой шапки! – кричит офицер.
– Что шапки! Нам не жарко-ста! Не пили.
– Долой, мерзавцы! Царский указ читать буду.
– Указ! Указ! Долой, братцы, шапки!
Шапки снимаются.
Офицер развернул бумагу и стал читать громко, медленно:
– «Указ ея императорского величества, самодержицы всероссийской, из правительствующего сената, объявляется всем в Москве жительствующим. Известно ея императорскому величеству стало, что некоторые обыватели в Москве, избегая докторских осмотров, не только утаивают больных в своих жительствах, но и умерших потом выкидывают в публичные места. А понеже такое злостное неповиновение навлекает на все общество наибедственнейшие опасности, того для ея императорское величество повелевает отчески, по именному своему указу, строжайшим образом обнародовать во всем городе, чтоб отныне никто больше не дерзал на такое злостное и вредное ея императорского величества законов и уставлений похищение. А есть ли, не взирая на сие строгое подтверждение, кто в таком преступлении будет открыт и изобличен, или же хотя и в сведении об оном доказан, таковой без всякого монаршего ея императорского величества милосердия отдается вечно в каторжную работу».
Толпа как-то разом вздохнула, широко, глубоко, всею наболевшей грудью, как-то всенародно вздохнула.
– Мертвых, чу, утайком держат! Кто их держит! Вон мертвый крыжом лежит, суди его! Вон его судья!
И сотни рук указали на приближавшуюся фуру с мертвецами и на багор мортуса, который зацеплял этого лежавшего крыжом. Мертвый корчился на багре, он был еще жив. Корчился, словно рыба на удочке.
Офицер молча поворотил коня.
II. «БОГОРОДИЦУ ГРАБЯТ!»
Как ни ужасна была картина, которую представляла чумная Москва в течение последних двух моровых месяцев, августа и начала сентября, но никогда еще не глядела она так зловеще, никогда еще лица наполовину прибранной смертью, но все еще кишмя кишащей по улицам и площадям толпы, у которой, казалось, совсем лопнуло терпение, одеревенело с отчаяния сердце, помутился от горя и страха рассудок, раззуделась на какого-то невидимого врага изнывшая, изболевшая душа и руки, никогда лица эти похуделые, осунувшиеся, словно обросшие чем-то мрачным, не носили еще на себе печати той страшной решимости на что-то еще небывалое и ужасное, с какою лица эти 15 сентября 1771 года прислушивались к какому-то глухому, как волны, рокочущему говору и гаму, стоном стонавшему над всею, запруженною народом, площадью у Варварских ворот. Это море какое-то колыхалось и бурлило, и все больше и больше прибывали его волны, все выше и выше поднимало бурный прилив.
На ногах вся уцелевшая от мора Москва – много еще уцелело, хоть и много померло. Москву не скоро всю передушишь. Вон она вся высыпала. Да и как ей не высыпать! Церкви пусты, дома пусты, одни разве умирающие да мертвые в них валяются; все лавки, амбары, погреба, кабаки, трактиры, бани, присутственные места, рынки заперты; все дела остановились, торги стали, вся машина развалилась.
Тут и фабричные, и мастеровые, и дворовые – господа раньше разбежались по деревням,– и солдаты, и разносчики, и приказные из запертых присутственных мест, и купцы, и мещане, и сидельцы, гулящие и не гулящие попы и дьячки, чернецы и черный народ. А бабы, а дети!
Все валят к Варварским воротам. Над воротами тускло поблескивает старая-престарая икона Боголюбской Богородицы. К воротам, под самую икону подставлена пожарная лестница. На лестницу взбирается народ с зажженными свечами и лепит эти свечи к иконе. Целый лес свечей налеплен, некуда больше лепить,– так лепят к карнизам, к стене, к кирпичам.
А под лестницей, на опрокинутом ларе, подняв руки кверху, кто-то громко причитывает:
– Порадейте, православные, Богородице на всемирную свечу! Порадейте! Каменный дождь на Москву идет! Огненная река течи будет! Порадейте, порадейте на всемирную свечу! Порадейте, православные!
А тут же у ларя неутомимый «гулящий попик», которого и чума не брала, рассказывает православным о «чуде»:
– Слушайте, православные! Чудо бысть некое, знамение преужасное. В сию нощь рабу Божию Илье (и попик указал рукою на того, кто сидел на ларе и кричал «порадейте!») явися Боголюбская Богородица, вот эта самая Матушка (и попик показал на верх ворот, на икону, облепленную свечами), явися и глаголет: приходил-де ко мне Сын Мой, Господь Исус Христос, и поведал Мне, яко матери своей, тако: поелику-де Тебе, Боголюбская Богоматерь, вот уже тридцать лет никто в Москве ни молебна не пел, ни свечи не поставил, то за сие-де пошлю Я на Москву каменный дождь. И Матушка-Богородица, жалеючи нас, православных, умолила сына своего Христа и Бога нашего не посылать на Москву каменный дождь, а нагнать на нас трехмесячный мор. Вот, православные, сия просьба Богородицы и исполняется – великий мор посетил Москву. Помолимся же, православные, Владычице нашей Богородице Боголюбской, пущай Она, Матушка, замолит за нас у Сына своего Христа и Бога нашего! Порадейте Ей, Матушке, на всемирную свечу!
– Порадейте, православные! – взывает тут же стоящий огромный солдатина с седою головою и длинною седою косою.– Порадейте! Мне ноне и поп в церкви Всех Святых на Куличках сказывал про это чудо. Порадейте, православные!
– Порадейте! – подхватывают сотни голосов. – Не дайте всем помереть лютою смертью!
Народ неудержимо прет к воротам, к лестнице, цепляется за нее, карабкается вверх. Иные обрываются и падают. Тот охает от падения, иной орет благим матом, потому что у него волосы вспыхнули от упавшей с карниза свечи, голова горит, борода вспыхивает, рубаха загорается. Другой стонет от боли, больной, чумной, притащился к воротам, чая спасенья от чудотворной иконы. Ад сущий кругом!
Попы, побросавшие сорок сороков московских церквей, забывшие о своих требах, покинувшие свои приходы, тоже высыпали на это страшное всемоление, расставили везде свои аналои, позажгли свечи, напустили облака ладану, так что солнце помрачили, и всенародно молятся, оглашают воздух невообразимою, но ужасом за душу хватающею разноголосицей.
– Порадейте, православные, на всемирную свечу! – стонут тысячи голосов во всех концах.
– О всякой душе христианской, скорбящей же и озлобленной, милости Божией и помощи требующей! О исцелении в немощах лежащих! – взывает над аналоем усталый голос соборного дьякона, который прежде никогда не уставал.
А тут священник, у которого вымерла вся семья: дети, жена, родные, – рвет на себе волосы у другого аналоя и вопит истошным голосом:
– Проклят буди день, в он же родихся аз, проклятый, ночь, в ню же породи мя мати моя! Проклят буди муж, иже возвести отцу моему, рекий: родися тебе отрок мужеск, и яко радостию возвести его. Да будет человек той, яко же гради, яже преврати Господь яростию своею, да слышит вопль заутра и рыдание во время полуденное, яко не уби мене в ложеснах матере моея, и бысть бы ми мати моя гроб мой! О!
– Батюшка! Подь домой, кормилец! – тащит за рукав этого безумца какая-то старуха, но безумец нейдет, проклинает и себя, и день своего рождения, и ночь своего зачатия.
– Порадейте, порадейте на всемирную свечу, православные! – стонет площадь, стонет вся Москва.
Да, так с ума сойти можно. И Москва сошла с ума. Вон тащут чумного к воротам, втаскивают по лестнице к иконе, «чтоб приложиться, касатик», а у касатика голова с плеч валится.
Еропкин, узнав об этом обезумлении всей Москвы, поскакал было с веселым доктором и с обер-полицмейстером к Варварским воротам, но скоро увидел, что море вышло из берегов и не остановить ему этого моря своими силами, нечеловеческие тут нужны силы.
И он велел везти себя в Чудов монастырь, к Амвросию. Он чувствовал, что у него не только руки и ноги холодеют, но и в сердце холод, в душе холод и страх.
– Постойте... Постойте, пане! – удерживал его в передней келье монастыря запорожец-служка.
– Чего тебе надо? – удивлялся Еропкин, отстраняя рукою плечистого запорожца.
– Вони, пане, молются... вони плачут.
Действительно, когда Еропкин вошел в келью Амвросия, архиепископ стоял на коленях перед ликом Спасителя и плакал.
– Простите, ваше преосвященство!
Амвросий встал с колен и обратил к Еропкину свое заплаканное лицо. Судя по глазам, Еропкин понял, архиепископ много и горько плакал. Ему стало страшно.
– Простите. У Варварских ворот...
– Знаю, знаю, ваше превосходительство,– подавленным голосом перебил его Амвросий.– Мрак и страх распудиша овцы моя... А я, пастырь, не соберу их.
И архиепископ, упав головой на стол, заплакал. Никогда не видел Еропкин, как плачут, особенно такими горькими слезами, архиереи, и стоял в изумлении. Наконец Амвросий приподнял от стола свое бледное лицо и широко перекрестился, обратясь к образу Спасителя.
– За них я плачу, за овец моих! – сказал он. – Это панургово стадо.
– Чье стадо, ваше преосвященство? – спросил Еропкин.
– Панургово, ваше превосходительство, которое вслед единой овце бросается в море и погибает в нем. Но что нам делать?
– Я именно за сим и приехал к вашему преосвященству. Тут является обстоятельство, касающееся не одного города, но и церкви.