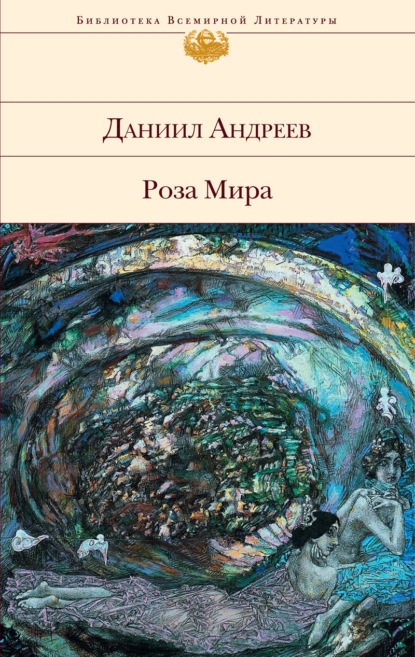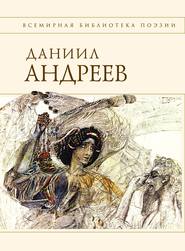По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Роза Мира
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Во всяком случае, творчество, как и любовь, не есть исключительный дар, ведомый лишь избранникам. Избранникам ведомы праведность и святость, героизм и мудрость, гениальность и талант. Но это – лишь раскрытие потенций, заложенных в каждой душе. Пучины любви, неиссякаемые родники творчества кипят за порогом сознания каждого из нас. Религия итога будет стремиться разрушить эту преграду, дать пробиться живым водам сюда, в жизнь. В поколениях, ею воспитанных, раскроется творческое отношение ко всему, и самый труд станет не обузой, но проявлением неутолимой жажды создавать новое, создавать лучшее, творить свое. Все последователи Розы Мира будут наслаждаться творческим трудом, обучая этой радости детей и юношество. Творить во всем: в слове и в градостроительстве, в точных науках и в садоводстве, в украшении жизни и в ее умягчении, в богослужении и в искусстве мистериалов, в любви мужчины и женщины, в пестовании детей, в развитии человеческого тела и в танце, в просветлении природы и в игре.
Потому что всякое творчество, кроме демонического, совершаемого во имя свое и для себя, есть богосотворчество: им человек поднимает себя над собой, обоживая и собственное сердце, и сердца других.
В смысле личного духовного совершенствования большинство людей движется по медленному и широкому пути. Этот путь проходит через браки и деторождения, сквозь причастность различным формам деятельности, сквозь полноту и пестроту впечатлений жизни, сквозь ее радости и наслаждения. Но есть и Узкий Путь: он надлежит тем, кто носит в своей душе особый дар, требующий жесткого самоограничения: дар святости. Несправедливы религиозные учения, утверждающие Узкий Путь как единственно правильный или наивысший. И столь же неправы общественные или религиозные системы, отрицающие его вовсе и воздвигающие препятствия перед теми, кто чувствует себя призванным именно к такому пути. Вряд ли в эру Розы Мира монастыри будут многочисленными; но они – будут, чтобы всякий, кого духовная жажда гонит на Узкий Путь, мог бы работать над раскрытием в себе таких способностей души, которые нуждаются в многолетнем труде среди тишины и уединения. Если на Узкий Путь человек встает из страха перед возмездием или из-за мечты о личном, себялюбивом, замкнутом общении с Божеством, его победы не имеют цены. Никакого Божества, дарующего в награду своим верным рабам блаженное созерцание его величия, – нет. Созерцание высших сфер есть выход личности из себя и приобщение Единому, объемлющему все монады и зиждущему весь мир. Поэтому последователя Розы Мира может принудить стать на Узкий Путь не духовный эгоизм, не жажда личного спасения при холодном безразличии к другим, но понимание, что на Узком Пути раскрываются такие дары, которыми праведник будет помогать миру из уединения более действенно, чем сотни живущих в миру, и которые в посмертии становятся такою силой, что перед ней преклоняются даже могучие демонические иерархии.
Нет никакой надобности в страшных клятвах, сопровождающих постриг. Нет основания для осуждения и поношения того, кто по истечении ряда лет ушел с пути. Вступающий будет давать сперва только временный обет: на три года, на пять, на семь. Лишь после успешного завершения таких этапов он, если хочет, получит право принесения обета на более длительный срок; и все же сознание безвозвратности, подозрение непоправимой ошибки не будет томить и давить его, порождая отчаяние и бурные вспышки неизжитого: он будет знать, что по истечении срока волен вернуться в мир, волен избрать любой образ жизни, любой труд, волен иметь семью, детей, не заслужив этим ни от кого ни порицания, ни пренебрежения.
Я постарался предвосхитить отношение Розы Мира к научному и к вненаучным методам познания, к личности, к ее правам и долженствованию, к человеческому творчеству и труду, теперь – к двум основным видам духовного пути: Широкому и Узкому. Чтобы восполнить представление об ее отношении к культуре, следовало бы остановиться на ее воззрениях на искусство – в широком смысле слова. Но этот вопрос столь многозначен и важен, а лично мне столь близок, что я решится посвятить ему серию глав в одной из дальнейших частей книги. Поэтому, прежде чем перейти к вопросу об отношении Розы Мира к другим религиям, скажу об искусствах приближающейся эры лишь несколько беглых слов.
Какими же чертами может отличаться искусство, которое создадут люди, причастные духу Розы Мира, в ближайшие эпохи, когда солнце золотого века только начнет еще озарять облака над горизонтом?
Было бы наивно пытаться предугадать или очертить многообразие художественных направлений, жанров, школ, стилистических приемов, которыми засверкает эта сфера культуры к концу текущего столетия. Но будет, мне кажется, определяться некий преобладающий стиль, не исчерпывающий, конечно, всех течений искусства (в условиях максимальной свободы это невозможно, да и не нужно по той же причине), но призванный стать в искусстве и литературе последней трети века некоторой, как теперь говорят, магистралью. В этом стиле найдет свое выражение присущее Розе Мира восприятие вещей: восприятие сквозящее, различающее через слой физической действительности другие, иноматериальные или духовные слои. Такое мировосприятие будет далеко от нарочитого оптимизма, боящегося нарушить собственную безмятежность вниманием к темным и трагическим сторонам бытия. Творцы этого искусства не станут избегать созерцания горестной и страшной изнанки мира. Они сочли бы за малодушие жажду забыть о кровавом пути истории, о реальности грозных, инфрафизических слоев Шаданакара, об их беспощадных законах, удерживающих в узах нечеловеческих мук неисчислимые сонмища несчастных, и о тех наистрашнейших срывах общечеловеческого духа, которые подготавливаются силами Противобога и осуществятся в истории почти неизбежно, когда исчерпает свое поступательное движение золотой век. Но высокая степень осознания не воспрепятствует их любви к миру, к земле, не уменьшит их радостей, порождаемых природой, культурой, творчеством, общественным служением, любовью, дружбой, – напротив! Разве сознание скрытых опасностей, грозящих тому, кого любишь, ослабляет жар любви? – Будут чудесные создания еще небывалой полноты жизнеутверждения, чистоты и веселия. В руслах всех искусств – тех, которые уже есть, и тех, которые возникнут, – появятся искрящиеся, как водяные брызги в солнечных лучах, произведения творцов будущего о любви, более многосторонней, чем наша, о молодости, о радостях домашнего очага и общественной деятельности, о расширении человеческого сознания, о раздвижении границ восприятия, о стихиалях, подружившихся с людьми, о вседневной близости невидимых еще теперь друзей нашего сердца, да и мало ли о чем, что будет волновать людей тех эпох и чего мы не в состоянии себе представить.
Мне кажется, такое искусство, мужественное своим бесстрашием и женственное своим любвеобилием, мудрое сочетание радости и нежности к людям и к миру с зорким познаванием его темных глубин, можно было бы назвать сквозящим реализмом или метареализмом. И следует ли говорить, что не непременно нужно произведению искусства быть образцом сквозящего реализма, чтобы люди, причастные духу Розы Мира, сумели ему радоваться и восхищаться? Они будут радоваться всему, что отмечено талантом и хотя бы одной из этих особенностей: чувством прекрасного, широтою охвата, глубиною замысла, зоркостью глаза, чистотой сердца, веселием души.
Наступит время, когда этический и эстетический уровень общества и самих деятелей искусств станет таков, что отпадет всякая надобность в каких-либо ограничениях, и свобода искусств, литературы, философии и науки станет полной. Но между тем моментом, когда Роза Мира примет контроль над государствами, и эпохой этого идеального уровня пройдет несколько десятилетий. Не из мудрости, а из юношеской незрелости могла бы возникнуть мысль, будто общество уже достигло тех высот развития, когда абсолютная свобода не может породить роковых, непоправимых злоупотреблений. Вначале придется вручить местным филиалам Всемирного художественного совета, кроме других, более отрадных функций, также и этот единственный контроль, через который будет проходить художественное произведение перед его обнародованием. Это будет – если не обидится читатель на шутку – лебединой песнью цензуры. Сначала, когда национальные антагонизмы и расовые предрассудки еще не будут изжиты, а агрессивные организации будут еще играть на этих предрассудках, придется налагать запрет на любую пропаганду вражды между теми или иными группами населения. Позднее контроль еще будет сохраняться над книгами и учебными пособиями, популяризирующими научные и философские идеи, в том единственном, однако, направлении, чтобы они не оказались неполноценными, легковесными или искажающими объективные факты, – не вводили бы неквалифицированного читателя в заблуждение. Над художественными произведениями еще удержится, мне кажется, контроль, требующий от них некоторой минимальной суммы художественных достоинств, оберегающий книжный рынок от наводнения безвкусицей, эстетически безграмотной макулатурой. И, наконец, дольше всего удержится, вероятно, безусловный запрет, наложенный на порнографию. С отменой же каждого из этих ограничений его будет заменять другое мероприятие: после выхода в свет недоброкачественного произведения Всемирный художественный совет или всемирный ученый совет опубликует свое авторитетное о нем суждение. Этого будет достаточно. Разумеется, не так-то легко будет выработать такую систему заполнения кресел в этих советах, которая гарантировала бы все области культуры от вмешательства в руководящую ими деятельность людей с узкопартийными или узкошкольными взглядами, нетерпимых сторонников какого-либо одного художественного течения или философской концепции, либо наконец защитников творческих интересов какой-нибудь ограниченной группы, нации или поколения. Мне не думается, однако, что в психологической атмосфере Розы Мира подобная система не могла бы быть выработана.
Если не вдаваться сейчас в разграничение понятий культуры и цивилизации, то можно сказать, что культура есть не что иное, как общий объем творчества человечества. Если же творчество – высшая, драгоценнейшая и священнейшая способность человека, проявление им божественной прерогативы его духа, то нет на земле и не может быть ничего драгоценнее и священнее культуры, и тем драгоценнее, чем духовнее данный культурный слой, данная культурная область, данное творение. Культура общечеловеческая еще только возникает; до сих пор мы видели в качестве совершенно оформившихся феноменов лишь культуры отдельных сверхнародов – то есть таких групп наций, которые объединены между собой именно совместно созидаемою, своеобразною культурой. Но каждая из таких культур отнюдь не исчерпывается тою своей сферой, которая пребывает, развиваясь, в нашем трехмерном пространстве. Те, кто эту культуру созидали здесь, продолжают свое творчество и в посмертии – творчество, измененное, конечно, сообразно иным условиям того мира или тех миров, через которые проходит теперь душа человека-творца. Возникает представление о миллионных содружествах подобных душ, о небесных странах и градах над каждым из сверхнародов мира и об Аримойе – ныне возникающей небесной стране культуры общечеловеческой.
Подобный принцип отношения к культуре нов и необычен. Мы вправе были бы даже заметить, что при дальнейшем углублении и детализации он перерастет в обширную мифологему, если бы только под словом «миф» мы не привыкли понимать нечто, не имеющее под собой никакой реальности. Здесь же как раз напротив: речь идет о реальности колоссальных масштабов, которая отражается сниженно и замутненно, но все же отражается, в подобной мифологеме.
Атмосфера Розы Мира и ее учения создадут предпосылки к тому, чтобы эта мифологема о культуре стала достоянием каждого ума. И пусть во всей ее эзотерической сложности ее сможет охватить лишь ограниченное число сознаний; дух этой концепции, а не буква ее постепенно сделается доступен почти для всех. И если вдуматься в те психологические перспективы, которые сулит овладение подобной концепцией со стороны масс, то перестанет казаться несбыточной и надежда на создание системы мероприятий, гарантирующей все области культуры от вмешательства людей, не имеющих на руководство этими областями никаких внутренних прав.
Глава 3
Отношение к религиям
Как часто употребляем мы слово «истина» и как редко пытаемся определить это понятие.
Не смутимся же, однако, тем, что повторяем, в сущности, вопрос Пилата, и попытаемся в меру наших сил разобраться в этом понятии.
Истинными называем мы ту теорию или то учение, которые, на наш взгляд, выражают неискаженное представление о каком-либо объекте познания. В точном смысле слова истина есть неискаженное отражение какого-либо объекта познания в нашем уме. И сколько существует на свете объектов познания, столько же может существовать истин.
Но объекты познания познаваемы от нас, а не из себя. Следовательно, истина о любом объекте познания, познанном от нас, должна быть признана истиной относительной. Истина же абсолютная есть отражение такого объекта познания, который каким-либо субъектом познан «в себе». Такое познание принципиально возможно лишь тогда, когда противостояние объекта и субъекта снято; когда субъект познания отождествляется с объектом.
Абсолютная истина универсальная есть неискаженное отражение в чьем-то сознании Большой Вселенной, познанной «в себе». Абсолютные истины частные суть неискаженные отражения какой-либо части Вселенной – части, познанной «в себе».
Естественно, что Абсолютная истина Большой Вселенной может возникнуть лишь в сознании соизмеримого ей субъекта познания, субъекта всеведущего, способного отождествиться с объектом, способного познавать вещи не только «от себя», но и «в себе». Такого субъекта познания именуют Абсолютом, Богом, Солнцем Мира.
Бог «в Себе», как Объект познания, познаваем только Собою. Его Абсолютная истина, как и Абсолютная истина Вселенной, доступна только Ему.
Ясно, что любая частная истина, сколь бы мал ни был объект познания, для нас доступна только в ее относительном варианте. Такой агностицизм, однако, не должен быть понят как безусловный: при конечном совпадении любого частного субъекта познания, любой монады с Субъектом Абсолютным, для нее становится возможно познание не только «от себя», но и «в себе». Таким образом, правомерен не безусловный, а только стадиальный агностицизм.
У частных истин быть может несколько или много вариантов – личных, индивидуальных разновидностей одной частной относительной истины. При этом объекты познания малых (сравнительно с субъектом) масштабов отразятся в сознании ряда родственных субъектов почти или полностью идентично: именно родственность многих субъектов между собой обусловливает то, что родственны и их личные варианты той или иной истины. Если бы это было не так, люди были бы лишены возможности понять друг друга в чем бы то ни было. Но чем больше объект познания сравнительно с субъектом, тем больше вызываемых им вариантов. Относительная истина Вселенной и относительная истина Божества порождают столько же личных вариантов, сколько имеется воспринимающих субъектов.
Ясно, стало быть, что все наши «истины» суть, строго говоря, лишь приближения к истинам. И чем мельче объект познания, тем лучше он может быть охвачен нашим познанием, тем уже разрыв между его абсолютной истиной и нашей относительной истиной о нем. Впрочем, в соотношении масштабов субъекта и объекта имеется граница, ниже которой разрыв между абсолютной и относительной истиной вновь начинает возрастать: например, разрыв между абсолютной истиной какой-нибудь элементарной частицы и нашей относительной истиной о ней чрезвычайно велик. Между же Абсолютной истиной Вселенной, Абсолютной истиной Божества – и нашими относительными истинами о них разрыв велик необъятно.
Я высказываю мысли, которые после Канта должны, казалось бы, быть общеизвестными и общепринятыми. Однако, если бы они были усвоены каждым религиозно чувствующим и религиозно мыслящим человеком, ничьи претензии на личное или коллективное познание Абсолютной истины, ничьи претензии на абсолютную истинность какой-либо теории или учения не могли бы иметь места.
Как показано выше, Абсолютная истина есть достояние только Всеведающего Субъекта. Если бы такой истиной обладал какой-нибудь человеческий субъект, например коллективное сознание конкретно-исторической церкви, это обнаруживалось бы объективно в безусловном всеведении этого коллективного сознания. И тот факт, что таким всеведением не обладают ни один человеческий коллектив и ни одна личность, лишний раз показывает беспочвенность претензий какого бы то ни было учения на абсолютную истинность. Если бы представители Розы Мира вздумали когда-нибудь претендовать на абсолютную истинность ее учения, это было бы так же беспочвенно и нелепо.
Но столь же беспочвенно и нелепо утверждение, будто бы все учения или какое-либо одно учение ложно. Совершенно ложных учений нет и не может быть. Если бы появилось мнение, лишенное даже крупицы истинности, оно не могло бы стать учением, то есть переданной кому-то суммой представлений. Оно осталось бы собственностью того, кто произвел его на свет, что и случается, например, с философическими или псевдонаучными построениями некоторых душевнобольных. Ложными, в строгом смысле слова, могут быть только отдельные частные утверждения, которым способен придавать иллюзию истинности заемный свет от частноистинных тезисов, соседствующих с ним в общей системе. Однако имеется известное соотношение количества и весомости частноистинных и ложных тезисов, при котором сумма ложных начинает обесценивать крупицы истины, в данном учения заключенные. Далее следуют учения, в которых ложные утверждения не только обесценивают элемент истинного, но переводят всю систему в категорию отрицательных духовных величин. Подобные учения принято именовать учениями «левой руки». Будущее учение Противобога которым, по-видимому, ознаменуется предпоследний этап всемирной истории, построится таким образом, что при минимальном весе частноистинного элемента свет от него будет придавать вид истинности максимуму ложных утверждений. Этим и обусловится то обстоятельство, что это учение будет запутывать человеческое сознание в тенетах лжи прочнее и безвыходнее, чем какое бы то ни было другое.
Религии, к разряду учений «левой руки» не относящиеся, разнствуют между собой не в силу истинности одной из них и ложности остальных, а по двум совершенно другим координатам. А именно:
во-первых – в силу различных ступеней своего восхождения к абсолютной истине, то есть сообразно убыванию в них субъективного, эпохального элемента. Это стадиальное различие можно условно назвать различием по вертикали;
во-вторых – они разнствуют между собой в силу того, что они говорят о разном, отражают различные ряды объектов познания. Этот род различий – различий сегментарных – можно условно назвать различиями по горизонтали.
Оба вида различий не следует ни на минуту упускать из виду при рассмотрении вопроса об отношении Розы Мира к другим религиям.
В развитии науки мы наблюдаем непрерывный процесс накопления относительных частных истин и их совершенствование, уточнение. На очередной стадии отвергаются обычно не ряды накопленных ранее фактов, а лишь их устаревшее толкование. Случаи, когда старый ряд фактов ставился под сомнение и отвергался, как это произошло, например, с алхимией, – сравнительно редки. Но в истории религий господствуют, к сожалению, иные обычаи. Вместо преемственно сменяющих друг друга осмыслений не подвергающихся сомнению духовных фактов, мы видим чаще всего, как на очередной стадии религиозного развития отвергаются значительные ряды ранее постигнутых относительных, частных истин, а свой, новый ряд их, со включением некоторого числа старых, выдается за абсолютное. Это наблюдение особенно справедливо по отношению к смене так называемых языческих религий системами монотеизма.
Ясно, что сохранение нами подобных обычаев в условиях расширяющегося кругозора XX столетия привело бы нас, самое большее, к созданию еще одной секты. Привнесение в религию научной методики было бы, конечно, грубой ошибкой, столь же незаконной, как перенесение методов искусства на область науки. Но перенять доброе обыкновение ученых – не отвергать, а переосмыслять ряды накопленных ранее относительных истин – давно пора.
Из сказанного вытекает, что никакие учения, кроме учений «левой руки», распознаваемых, прежде всего, по их душевно растлевающему воздействию, не могут быть отвергнуты полностью. Они должны быть признаны недостаточными, обремененными субъективно-человеческими привнесениями: эпохальными, классовыми, расовыми, индивидуальными. Однако зерно относительной истинности, зерно познания «от нас» той или другой области трансфизического мира имеется в каждой из религий, и каждая такая истина драгоценна для всего человечества. Естественно при этом, что объем истинности систем, сложившихся в итоге опыта множества индивидуумов, как правило, больше объема истинности систем, распространенных только у небольших групп. Исключение могут составлять молодые системы, восходящие быть может, к широкому распространению, но, в силу естественного хода вещей, сперва минующие стадию келейного или ограниченно группового существования.
Подобные широко распространенные системы называются в данной концепции – как это будет подробно разъяснено несколько ниже – мифами. За мифами всегда стоит та или иная трансфизическая реальность, но она не может быть не искаженной и не запутанной привнесением в миф множества «человеческого, слишком человеческого». Методика высвобождения трансфизического зерна мифов из их человеческой шелухи вряд ли может быть, во всяком случае теперь, строго и точно сформулирована. Пока не удалось еще выработать необходимый для этого механизм критериев, которого в любом случае было бы достаточно. Да и сомнительно, разрешима ли подобная сложнейшая мистическая задача при помощи одного рацио. Можно, правда, построить исходя из телеологии истории определенную классификацию религий, которая позволила бы выделить религии высокоразвитые в особую группу, и убедиться, что есть тезисы, утверждаемые всей этой группой религий, хотя и с различной степенью чистоты и силы. К их числу принадлежат: тезис о единстве Бога, о множественности различных духовных иерархий, о множественности разнозначных миров, о бесконечной множественности становящихся монад, а также о существовании некоего общего нравственного закона, который характеризуется посю-или потусторонними воздаяниями за совершенное человеком в жизни. Во всем же остальном, и даже в истолковании только что перечисленных общих тезисов, мифы либо противоречат один другому, либо говорят о разном.
Однако, если во многих случаях индивидуальность субъекта привносит в представления о познаваемом нечто постороннее, сугубо человеческое, то, с другой стороны, столь же многочисленны случаи, когда какая-либо духовная истина может быть воспринята только определенным складом познающего сознания. Индивидуальность оказывается фактором, не замутняющим познание, но, наоборот, делающим его реально возможным. Телеологический процесс в религиозной истории человечества заключался отчасти именно в том, чтобы воздействием исторических и биографических факторов отшлифовать сознание отдельной личности, народа, расы, эпохи таким образом, чтобы сделать его способным к восприятию данных истин, данной трансфизической реальности. Другим же индивидуальностям, народам, расам, эпохам такое, отшлифованное определенным образом сознание и его религиозный опыт могли казаться странными, искаженными либо незрелыми, чреватыми всякого рода аберрациями.
Из сотен возможных примеров я возьму пока один, но чрезвычайно яркий: идею перевоплощений. Глубоко присущая индуизму и буддизму, имеющаяся в эзотерическом иудаизме (Каббала), идея эта отвергается ортодоксальным христианством и исламом. Следует ли, однако, думать на основании этой «невсеобщности» идеи, что она представляет собою расовую или стадиально-культурную аберрацию индийского сознания? Дело в том, что при согласовании тезисов различных религий надлежит, прежде всего, научиться отсеивать главное от второстепенного, общее от частного. «Общее», главное любого тезиса заключается в семени идеи, проявляющем чрезвычайную устойчивость в веках: брошенное в почву различных культурных сред, оно дает различные побеги – различные варианты данного тезиса. Если телеологическая направленность вообще имеется в истории, то, конечно, направленность эта должна сказаться прежде всего в бытии именно таких устойчивых духовных семян – в широко распространенных, исповедуемых миллионами сознаний основах идеи.
Семя идеи перевоплощений состоит в учении о некоем Я, совершающем свое космическое становление или известный отрезок его по ступеням последовательных существований в нашем физическом мире. Все остальное, как то: духовно-материальная природа и структура перевоплощающегося, та или иная зависимость перевоплощений от закона кармы, распространение принципа перевоплощений также на мир животных или отрицание такого распространения – все это лишь варианты, разновидности основной идеи. И понятно, что в этих вариантах и деталях можно больше и чаще столкнуться с подлинными аберрациями, чем в ее семени, для восприятия которого народом индийским телеологические силы работали много веков, затратив неимоверный труд на ослабление у многих его представителей средостения между дневным сознанием и глубинной памятью – хранилищем воспоминаний о путях души до момента ее последнего воплощения. Ошибочность религиозных догматов заключается, по большей части, не в их содержании, а в претензиях на то, что утверждаемый догматом закон имеет всеобщее, универсальное, космическое значение, а утверждаемый догматом факт должен исповедоваться всем человечеством, ибо без этого будто бы нет спасения. Все изложенное приводит нас к признанию подлинности того духовного опыта, который отлился в идею перевоплощений: да, такой путь становления имеет место; ничего принципиально неприемлемого для христианства или ислама в существе этой идеи нет, кроме, разве, того, что об идее перевоплощений до нас не дошло никаких высказываний основателей христианства и ислама (что, впрочем, само по себе ничего не доказывает, так как в Евангелие и Коран попало, как известно, далеко не все, что они говорили). Но решительно ни из чего не следует, что путь перевоплощений будто бы есть единственно возможный, единственно реальный путь становления индивидуального духа. Отшлифованное в таком направлении, чтобы постигнуть этот тип пути, сознание индийского народа, как часто в подобных случаях бывает, абсолютизировало свое открытие, стало глухо к восприятию других типов пути становления. С еврейским и арабским народами произошло то же самое, но под противоположным знаком: восприняв истину о другом пути становления, при котором воплощение в физическом слое совершается лишь один раз, сознание этих народов столь же неправомерно абсолютизировало этот второй тип пути. Этому способствует и то, что в различных метакультурах человечества может вообще преобладать тот или другой тип. В результате возникло между двумя группами мировых религий разногласие, кажущееся неразрешимым. В действительности же, обе эти антагонистические идеи истинны в своей основе, фиксируя два из возможных типов пути, и для снятия этого «противоречия» не требуется ничего, кроме отказа каждой из сторон от претензий на универсальную исключительность своей идеи.
Итак, одна из исторических причин непримиримых якобы противоречий между религиями заключается в неправомерной абсолютизации какого-либо тезиса.
А вот и другая причина.
Одним из основных догматов христианства является, как известно, учение о Троичности Божества. Основатель ислама отверг этот догмат, заподозрив в нем реминисценцию многобожия, а главное – потому, что его собственный духовный опыт не заключал в себе положительного указания на подобную истину. Но вряд ли стоит в XX веке повторять аргументацию христианских богословов, в свое время доказывавших и объяснявших коренное различие между догматом Троичности и многобожием: это настолько элементарно, что, надо полагать, теперь и среди магометанских мыслителей не найдется таких, которые, разбираясь в вопросах христианского вероучения, стали бы настаивать на этом ошибочном утверждении. Что же касается второго аргумента – того, что духовный опыт Мухаммеда не содержал подтверждения Троичности, – то он несостоятелен логически. Ничей вообще опыт не может содержать подтверждений всех истинных идей, возникших ранее, в ходе коллективного человеческого богопознания и миропознания. Всякий личный опыт ограничен; только премудрость Всеведущего охватывает всю сумму истин «в себе». Поэтому то обстоятельство, что Мухаммед не пережил своим духовным опытом ничего, подтверждающего тезис Троичности, само по себе никак не должно служить аргументом для опровержения этой идеи, даже в глазах ортодоксальных мусульман. Вместо формулы «Пророк, познав совершенное единство Божие, убедился в ложности учения о Троице», следует, по справедливости, формулировать так: «Пророк, познав совершенное единство Божие, не получил, однако, указаний на Троичность Единого». Вполне естественно, что христианское вероучение не только не имеет никаких возражений против мусульманского учения о Единстве, но полностью с ним совпадает. Оно лишь дополняет этот тезис той идеей, которая одною своей устойчивостью две тысячи лет и своей распространенностью на миллиарды сознаний указывает на истинность своей основы. К чему же сводится противоречие между этими двумя главными догматами двух религий? Разве не к произвольному и неправомерному отрицанию одною из них того, о чем в ее собственном положительном опыте нет никаких данных?
Теперь мы видим вторую историческую и психологическую причину укоренившихся разногласий между вероучениями: неправомерное отрицание чужого утверждения только на том основании, что мы не располагаем положительными данными по этому вопросу.
К сожалению, разногласиям, основанным исключительно на этой логической и гносеологической несообразности, нет числа. Привлечем к рассмотрению еще один случай, известный каждому: ислам (суннизм) и протестантизм отрицают правомерность культа святых; почти все остальные религии его принимают и, в той или иной форме, осуществляют. Возражения против этого культа сводятся к тому, что человек не нуждается ни в каких посредниках между собой и Божеством и что духовные почести и молитвы, будучи возносимы не к Богу, а к тем, кто были людьми, – греховны, ибо ведут к обожествлению человека. Но что, собственно, значит эта знаменитая формула: «Человек не нуждается в посредниках»? Если в них не нуждается тот, кто эту мысль провозглашает, то откуда у него право говорить за других, даже за все человечество? Кто его уполномочивал? Уж не те ли миллиарды людей, которые во всех почти странах, во всех почти религиях ощущали живую вседневную потребность в таких посредниках, что и сделало существование культа святых психологически возможным? Если мы, не испытывая потребности в чем-либо (есть люди, не испытывающие потребности, например, в музыке), станем негодовать на всех, эту потребность испытывающих, как на глупых выдумщиков, корыстных лжецов или темных невежд, что мы докажем этим, кроме собственного невежества? – Второй довод – неправомерность воздавания божеских почестей и молитв, тем, кто были людьми. Но почестей божеских (в монотеистическом смысле) им и не воздают, никто их не приравнивает к Богу: мысль совершенно абсурдная, а для людей, выросших в христианских странах, непростительно невежественная. Правда, в индуизме имеется идея аватар – воплощений Вишну в человеческом облике; но то – аватары, а вовсе не святые. Перед святыми преклоняются именно как перед людьми, сумевшими преодолеть свое человеческое, либо как перед осуществителями воли Божией, посланцами мира горнего. Протестантизм отрицает понятие святости вообще. Но здесь обнаруживается скорее спор о частностях, чем о существе дела: ведь, отвергая аскетический монашеский идеал, Лютер и Кальвин не умаляли значения мирской праведности, хотя и понимали ее, с одной стороны, шире, чем католицизм, а с другой – несколько сниженно: отрицался Узкий Путь как таковой. Мухаммед, умирая, запретил своим последователям обращаться к его духу молитвенно. Это показывает чистоту и искренность его помыслов, но противоречит основам религиозно-нравственного миропредставления вообще. Ведь если праведность, как высшая самоотдача себя человечеству во имя Божие, есть безупречное и бескорыстное Ему служение (а если понимать праведность так, то смешно отрицать, что она существует на свете, встречается, хотя и редко, в жизни), – если так, то нельзя представить себе праведную душу, после кончины успокоившуюся в бездеятельном блаженстве. Всеми силами своей души, в том числе и такими, которые раскрываются только после смерти, праведник будет осуществлять помощь живущим и нижестоящим в их восходящем движении. Это также естественно, как помощь взрослого ребенку, и столь же мало, как эта помощь, умаляет или уничижает тех, на кого направлена. Вряд ли это могло быть неизвестно пророку Мухаммеду. Надо полагать, что некоторые крайности, излишества в культе святых, которые он наблюдал у христиан, побудили его запретить своим последователям какие бы то ни было установления этого рода. Возможно, он полагал, что этот запрет уравновешивается тем обстоятельством, что усопшие праведники не обязательно нуждаются в напоминании со стороны молящихся, чтобы оказывать им невидимую помощь. Так или иначе, решительно всякое учение, утверждающее истину духовного бессмертия и высокий нравственный закон, только вопреки логике и собственным принципам может полагать, будто дух праведника в его посмертии относится к нынеживущим бездеятельно и безучастно. Отрицание культа святых, или лучше сказать, праведных, логично только с одной точки зрения: материалистической. Но, с другой стороны, абсолютизирование культа святых как общеобязательного неправомерно в такой же степени. Бывают длительные этапы в пути души, даже в пути целого народа, когда им действительно не нужны никакие «посредники»; когда душа, сознательно или неосознанно, чувствует, что укрепление ее самостоятельности, силы, свободы, духовной воли исключает возможность обращения за помощью к кому-либо, кроме Самого Бога. На каком же основании и по какому праву будем мы навязывать такой личности участие в культе святых?
Значительно большую сложность являет основное противоречие между христианством и другими религиями: утверждение божественности Иисуса Христа, как догмат, почитание Его за воплощение одной из ипостасей Троицы. Всем известно, что остальные религии либо соглашаются на признание Иисуса пророком в ряду других пророков, либо игнорируют Его, иногда даже энергично отрицая Его провиденциальную миссию. Христианство же, со своей стороны, опираясь на слова своего Основателя о том, что никто не приходит к Отцу иначе, как через Сына, отрицает возможность спасения для всех не-христиан.
Представляется, однако, что много недоумений и грубых снижений идей мы избегнем, если во все речения Христа, до нас дошедшие, будем вникать, задавая себе вопрос: говорил ли в данном случае Иисус как личность, как конкретное историческое лицо, прожившее в такой-то стране от такой-то до такой-то даты, или же Его разумом и устами трансформируется в человеческие слова голос Бога, который Он слышит в себе. Каждое речение Христа требует рассмотрения именно под таким углом: говорит ли Он в данном случае как Вестник истин духовного мира или же как человек. Ибо нельзя представить, чтобы Иисус во все мгновения своей жизни говорил только как Вестник и никогда – просто как человек. Вряд ли подлежит сомнению, что в Его скорбном восклицании на кресте «Отче, Отче, вскую Меня покинул?» запечатлена мука одной из тех минут, когда он, Иисус, человек, переживал трагедию оставленности, трагедию прерыва связи своего человеческого Я с Божественным Духом; а в учении Его, изложенном на Тайной вечере, все время слышится, как за местоимением первого лица предполагается Бог-Сын, Мировой Логос. – Такому разделению речей Христа на две группы следует подвергнуть все слова Его, сохраненные Евангелием. Совершенно очевидно в таком случае, что и слова Его о том, что никто не приходит к Отцу иначе, как через Сына, следует понимать не в том сниженном, суженном, оплотненном и безжалостном смысле, что не спасется будто бы ни одна душа человеческая, кроме христиан, а в том величественном, истинно духовном, космическом смысле, что всякая монада, восполнившая себя до конца, погружается в глубины Бога-Сына, Сердца и Демиурга вселенной, и только через этот всезавершающий акт возвращается к своему истоку, к Богу-Отцу, непостижимо отождествляясь Ему и всей Пресвятой Троице.
Один из виднейших деятелей религиозно-философской индийской общины Брахмо-Самадж, Кешуб Чандер-Сен, высказал весьма глубокую мысль: он сказал, что мудрость индуистов, кротость буддистов, мужество магометан – все это от Христа. Очевидно, под этим именем он понимал в данном случае, конечно, не историческую личность Иисуса, а Логос, Себя в Иисусе Христе выразивший преимущественно, но не исключительно. В этой идее нащупывается, на мой взгляд, путь к такому углу зрения, на котором могут прийти к взаимопониманию христиане и многие течения восточной религиозности.
Думается также, что некоторые выражения, укоренившиеся в христианском богословии, почти механически повторяемые нами и как раз являющиеся неприемлемыми для других верований, нуждаются в пересмотре и уточнении. Как понимать, например, слово «вочеловечение» в применении к Иисусу Христу? Неужели мы и теперь представляем себе так, что Логос вселенной облекся составом данной человеческой плоти? Можем ли мы сделать допущение, что путем телеологической подготовки из поколения в поколение был создан, так сказать, телесный инструмент, индивидуальный физический организм, человеческий мозг, способный вместить Разум вселенной? Если так, то ведь надо полагать, что Иисус уже при жизни обладал всеведением, что не согласуется даже с фактами евангельской истории и с Его собственными словами. Не нестерпима ли для нас эта диспропорция масштабов: сближение категорий космических в самом предельном смысле с категориями локально-планетарными, узкочеловеческими? И нестерпима не потому, что она превышает границы нашего разумения, а, наоборот, потому что в ней слишком очевиден продукт мышления на определенной, давно минованной культурной стадии, когда вселенная представлялась в миллиарды раз миниатюрнее, чем она есть на самом деле, когда казалось реально возможным падение на землю твердого небесного свода и жуткий град из звезд, сорвавшихся с крюков, на которых они подвешены. Не точнее ли было бы поэтому говорить не о вочеловечении Логоса в существе Иисуса Христа, а о Его в Нем выражении при посредстве великой богорожденной монады, ставшей Планетарным Логосом Земли? Мы именуем Христа Словом. Но ведь говорящий не воплощает, а именно выражает себя в слове; Бог не воплощается, а выражает Себя в Христе. Именно в этом смысле Христос есть воистину Слово Божие. А если так, то отпадает еще одно из препятствий к соглашению христианства с некоторыми другими религиозными течениями.
Я коснулся кратко только четырех межрелигиозных разногласий. Исключая одно последнее, проистекающее из спорности и, может быть, недостаточной отчетливости формулировок, недостаточной откристаллизованности идей, остальные основаны на несовпадении духовного опыта великих визионеров, на том, что, при созерцании некоторых объектов с различных точек Шаданакара, под различным духовным углом созерцатели видят данный объект в различных аспектах. Условно можно назвать такие разногласия противоречиями по горизонтали, разумея под этим правомерность обеих точек зрения и их мнимую, а не истинную противоречивость.
Еще пример. С тех пор, как существуют христианство и ислам, они продолжают бороться с тем, что они называют язычеством. С течением веков человечество прониклось идеей о непримиримости, несовместимости монотеизма с многобожием, как своего рода аксиомой. Исследование того, почему и как это произошло, увело бы нас слишком в сторону. Существенно другое: на каком основании религии семитического корня, утверждающие бытие духовных иерархий и еще в средние века разработавшие до мелочей учение о них – ангелологию и демонологию, – ограничивают многообразие этих иерархий теми немногими, которые были включены в эти средневековые схемы? Имеется ли хоть тень последовательности в их принципиальном отказе всякому опыту о духовных иерархиях – в истинности? Решительно никаких оснований для этого, кроме опять-таки ссылок на молчание об этом Евангелия и Корана. Именно ввиду недостаточности оснований для огульного отрицания церковь в первые века христианства не столько отрицала богов олимпийского пантеона, сколько отождествляла их с демонами и бесами семитических канонизированных текстов. При этом, вопреки очевидности, игнорировался характер этих божеств, какой восприняло политеистическое духопознание, и им произвольно приписывались снижающие и опорочивающие черты либо же нарочито подчеркивался слишком антропоморфный элемент, привнесенный в эти представления субъектом познания – политеистическим человечеством и к тому времени сохранившийся уже только в их низших, простонародных вариантах. Как будто признание истинности бытия иерархий природы, великих стихиалей или духов-народоводителей могло поколебать единство Бога – Творца и зиждителя вселенной, истока и устья мирового потока жизни – больше, чем признание других Его прекрасных детей – ангелов и архангелов, а также тех демонов, о которых трактовалось в канонизированных поучениях Библии!
К сожалению, это древнее недоразумение не разъяснено до сих пор: от античного многобожия давно ничего не осталось, но ожесточенная, узкая, лишенная всякой мудрости нетерпимость проявляется всякий раз, когда христианским церквам или по крайней мере тем, кто говорит от их имени, доводится высказывать свое суждение по вопросам индусских, китайских, японских, тибетских систем. Столь же нетерпимы и две другие религии семитического корня. Здесь налицо типичный случай разнствования религий по горизонтали: не противореча друг другу по существу, не сталкиваясь друг с другом в необозримом духовном космосе, христианство и индуизм, буддизм и ислам, иудейство и религия шинто говорят о разном, о разных, так сказать, духовных странах, о разных сегментах Шаданакара; ограниченность же человеческая толкует это как противоречия и объявляет одно из учений истинным, а остальные – ложными. – «Если Бог един, то другие боги суть, так сказать, самозванцы: это – или бесы, или игра человеческого воображения». Какая детская мысль! Господь Бог един, но богов много; начертание этого слова в русском языке то с большой, то с малой буквы достаточно ясно говорит о различиях содержания, вкладываемого в это слово в обоих случаях. Если же повторение этого слова в различных смыслах пугает кого-нибудь, пусть он заменит его, говоря о политеизме, каким-нибудь другим: «великие духи», «великие иерархии», но от этого ничего не изменится, если не считать того, что употребление слова «дух» может в ряде случаев повести к недоразумениям, ибо многие из этих богов суть не духи, а могучие существа, обладающие материальной воплощенностыо, хотя и в других, трансфизических слоях бытия.