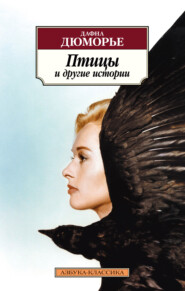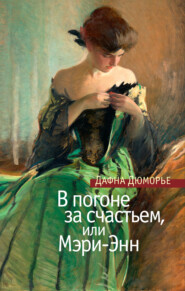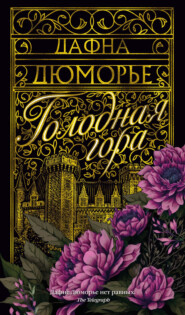По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дом на берегу
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дом на берегу
Дафна дю Морье
Азбука-бестселлер
Вниманию читателей предлагается роман одной из самых популярных английских писательниц Дафны дю Морье (1907–1989), автора прославленной «Ребекки», – «Дом на берегу» (1969). Это произведение сочетает в себе элементы реального и фантастического, повседневного и романтического, объяснимого и таинственного. Действие романа разворачивается в Корнуолле, юго-западной части Англии, одновременно в наши дни и в четырнадцатом веке, причем события и люди, разделенные шестью веками, оказываются странным образом связанными друг с другом. Эта увлекательная, динамичная, полная неожиданных «сюрпризов» книга рассчитана на самый широкий круг читателей.
Дафна Дюморье
Дом на берегу
Copyright © The Estate of Daphne du Maurier, 1968
© Л. А. Бондаренко (наследники), перевод, 1993
© Н. В. Зонина, перевод, 1993
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство Азбука
* * *
Глава первая
Первое, что бросилось мне в глаза, – это прозрачность воздуха, затем – ярко-зеленый цвет лугов. Никаких полутонов. Вершины отдаленных гор не сливались с небом. Своими резкими очертаниями они напоминали скалы и, казалось, находились совсем близко, так близко, что до них можно дотронуться рукой. Это ошеломило и удивило меня – нечто подобное, должно быть, испытывает ребенок, впервые посмотревший в подзорную трубу. Рядом со мной все обладало такой же контрастностью, выделялся каждый стебель, каждая травинка, произраставшая из более молодой и грубой почвы, чем та, которую знал я.
Я ожидал (если вообще чего-то ожидал) совсем иных метаморфоз: я полагал очутиться в мире умиротворения и благоденствия, в некоей материализации мечты, где все расплывчато и не имеет четких контуров. Я не был готов к такой контрастности, к такой пронзительной реальности. Ни во сне, ни наяву мне не приходилось видеть ничего подобного. Теперь все представлялось мне ярче и рельефнее, все мои ощущения, чувства – зрение, слух, обоняние – были как бы обострены.
Все, кроме осязания: я не ощущал земли под ногами. Магнус предупредил меня об этом. Он сказал: «Ты не будешь чувствовать соприкосновений с неодушевленными предметами. Ты будешь ходить, стоять, сидеть, касаться их, но не будешь ничего осязать. Пусть это тебя не беспокоит. Разве не чудо уже то, что ты можешь двигаться, ничего при этом не ощущая?»
Конечно, я воспринял это как шутку, как обыкновенную приманку с целью соблазнить меня согласиться на эксперимент. Теперь я убедился, что Магнус был прав. Я пошел вперед, ощущая невероятную легкость: мне не нужно было прилагать никаких усилий, чтобы двигаться, – казалось, я парю, не касаясь земли.
Я спускался с холма по направлению к морю, проходя через поле, покрытое серебристой осокой, которая поблескивала на солнце: небо, серое еще минуту назад, когда я видел его обычным своим зрением, теперь стало безоблачным и ослепительно-голубым. Я вспомнил, что был отлив, обнаживший ровные песчаные полосы, и на этом золотом фоне резко выделялся ряд пляжных кабинок, напоминавших оскаленные зубы. Теперь они исчезли. Исчезли и дома, стоявшие вдоль дороги, пирсы, не видно было и поселка Пар с его трубами, крышами, зданиями, и городка Сент-Остелл, который, как спрут щупальцами, охватывал всю местность по ту сторону залива. Ничего этого не было. Были только трава и кустарник и вдалеке высокие горы, казавшиеся теперь такими близкими. А прямо подо мной море катило свои волны в залив, омывая пустой песчаный берег – словно до этого там пронеслось цунами, поглотившее без следа всю окрестность. На северо-западе скалы подступали к самому морю, которое, постепенно сужаясь, образовывало широкий рукав, и волны неслись вглубь его вдоль всего изгиба суши и исчезали вдали.
Когда я подошел к краю скалы и взглянул вниз, туда, где у подножия Полмиарского холма должна была проходить дорога и стоять гостиница, кафе, богадельня, то понял, что море и здесь поглотило сушу и образовало залив, который вытянулся на восток, врезавшись в долину. Дорога и дома исчезли, а вместо них сверкала водная гладь. В этом месте залив резко сужался, зажатый тонкими песчаными берегами, и было ясно, что при сильном отливе вся вода уходит, оставляя лишь болотистое русло, которое можно перейти вброд, если не пешему, то всаднику уж точно. Я спустился с холма и подошел к заливу, пытаясь определить, в каком точно месте проходила знакомая мне дорога, но прежние ориентиры были утрачены: не осталось ничего, кроме земли, долины и холмов, что помогло бы восстановить картину местности.
Частые мелкие волны залива набегали на песчаные берега, оставляя на них хлопья густой пены. Надувались, росли и лопались пузыри, о берег бился неподвластный времени мусор, принесенный приливом, – целая бахрома из морских водорослей, перьев, прутьев, – как после осеннего шторма. Я знал, что в моем времени сейчас самый разгар лета, хотя день был серый и хмурый, но здесь все вокруг меня говорило о приближающейся зиме. Было явно за полдень: яркое солнце уже склонялось на запад, готовилось вот-вот окрасить небо в темно-багряный цвет, как это бывает перед наступлением вечера.
В поле зрения попали первые живые существа: чайки, мечущиеся над волнами, небольшие болотные птицы, скользящие по поверхности воды, а на противоположном берегу, на горе, резко выделявшейся на фоне неба, медленно тащилась запряженная в плуг упряжка волов. Я закрыл и вновь открыл глаза. Упряжка скрылась за склоном. Но гвалт стаи потревоженных чаек убеждал меня, что все это действительность, а не сон.
Я глубоко вдохнул, и холодный воздух наполнил мои легкие. Просто дышать доставляло мне ни с чем не сравнимую радость, это было похоже на какое-то волшебство – ничего подобного я никогда ранее не испытывал. Осмыслить разумом, проанализировать то, что я видел, было невозможно: в этом новом мире чувственного восприятия я мог полагаться только на остроту собственных ощущений.
Должно быть, я простоял так очень долго, завороженный, готовый вечно парить между небом и землей, вдали от жизни, которую я знал или хотел узнать, но, повернув голову, я увидел, что не один. Пони, по-видимому, следовал моим же путем, через поле, и потому я не слышал топота копыт, но теперь, когда он ступил на гальку, звук от соприкосновения металла с камнем достиг моего слуха, и я почувствовал запах теплого животного, потного и сильного.
Я инстинктивно подался назад, поскольку всадник ехал прямо на меня, не подозревая о моем присутствии. Он приостановил пони у кромки воды и посмотрел в сторону моря, оценивая уровень прилива. Тут я впервые испытал не только возбуждение, но и страх, поскольку передо мной был не призрак, а живой, во плоти, человек – ноги в стременах, в руках поводья – в такой невероятной близости от меня, что мне стало не по себе. Я не боялся, что меня собьют; в смятение меня ввергла сама эта встреча, это соединение веков – его и моего. Он отвел взгляд от моря и посмотрел на меня в упор. Мне казалось, он видит меня, мне казалось, я отчетливо прочитал в его глубоко посаженных глазах знак приветствия. Он улыбнулся, потрепал пони по холке и, пришпорив его, направил вброд на другой берег.
Нет, он не видел меня, не мог он меня видеть, ведь он жил в другом времени. Тогда почему же он внезапно приподнялся в седле, обернулся и посмотрел прямо на меня? Это был призыв, властный и странный: «Следуй за мной, если не трусишь!» Я прикинул на глаз глубину брода и, хотя вода доходила пони до колен, бросился за ним, не думая о том, что могу промокнуть, – и только выйдя на противоположный берег, мимоходом отметил про себя: а ботинки-то совсем сухие!
Всадник поехал в гору, и я последовал за ним. Дорога была крутая и размытая; поднимаясь вверх, она резко поворачивала влево. Я с радостью заметил, что она в точности совпадает с той, по которой я ехал на машине только сегодня утром. Но на этом сходство заканчивалось: живой изгороди из кустарника, окаймлявшей дорогу в моем времени, здесь не было. Справа и слева лежали пахотные земли, ничем не защищенные от ветров; кое-где виднелись участки, поросшие низкорослым вереском и утесником. Мы поравнялись с упряжкой волов, и я наконец смог разглядеть самого пахаря: маленького роста, в каком-то балахоне с капюшоном, он всей тяжестью своего тела навалился на деревянный плуг. Пахарь поднял руку, приветствуя моего всадника, что-то прокричал и побрел за плугом дальше. Над его головой кружили и кричали чайки.
Этот обмен приветствиями был настолько естественным, что состояние шока, в котором я находился с того момента, когда впервые увидел всадника у брода, уступило место удивлению, а затем спокойствию. Я вспомнил свое первое путешествие, еще ребенком, во Францию: я ехал ночным поездом и утром, с нетерпением открыв в купе окно, смотрел, как мимо проносятся поля, деревни и города, склоненные фигурки людей, работавших в поле подобно этому землепашцу, и по-детски удивлялся: «Интересно, они такие же живые, как я, или просто притворяются?»
Сейчас для моего удивления было куда больше оснований, чем тогда. Я смотрел на всадника, на его пони и двигался за ними на таком близком расстоянии, что мог дотронуться до них рукой, ощущал их запах. От них обоих шел такой сильный дух, как будто они вобрали в себя аромат самой жизни. Струйки пота, стекавшие по бокам животного, его косматая грива, следы пены на удилах, а еще сильное колено и обтянутая чулком нога, кожаная куртка поверх рубахи, мерное покачивание в седле, руки, держащие поводья, само лицо, обветренное, худое, обрамленное темными волосами, закрывавшими шею, – вот где была настоящая реальность, и чужеродным элементом был я сам.
Мне страстно захотелось протянуть руку и дотронуться до пони, но я вспомнил предупреждение Магнуса: «Если встретишь существо из прошлого, то, ради бога, не притрагивайся к нему. Неодушевленные предметы – пожалуйста, но, если ты попытаешься войти в контакт с живой материей, связь прервется и твой выход оттуда будет осложнен неприятными последствиями. Я это испытал и знаю, о чем говорю».
Дорога вела сначала через пахотные земли, затем резко пошла вниз. Совсем иной ландшафт открылся моему взору. Деревня Тайуордрет, которую я видел всего несколько часов назад, изменилась до неузнаваемости. Многочисленные дома, беспорядочно расположившиеся к северу и западу от церкви, исчезли. Теперь на этом месте находилось небольшое селение, своим примитивным видом напоминавшее игрушечную ферму, которую я, помню, строил на полу своей комнаты в детстве. Маленькие приземистые дома, крытые соломой, теснились вокруг большого общинного луга, по которому разгуливали свиньи, гуси, куры, два или три стреноженных пони и сновали вездесущие собаки. Над этими убогими жилищами поднимался дым, но он выходил не из труб, а из отверстий в крыше. Сразу за селением стояла церковь, и здесь уже красота и гармония вновь вступали в свои права. Но это была не та церковь, которую я видел несколько часов назад. Она была поменьше и без башни; вплотную к ней примыкало длинное невысокое каменное строение, и все это было окружено каменной стеной. За стеной тянулись огороды, сад, служебные постройки и небольшой лесок. А далее – спуск в долину, где виднелся глубоко врезавшийся в нее залив.
Я бы так стоял и смотрел не отрываясь: открывшийся передо мной вид завораживал своей неброской красотой, но мой проводник двинулся дальше, и неведомая сила вновь потянула меня за ним. Дорога спускалась к лугу, и вскоре я оказался в гуще деревенской жизни: у колодца стояли женщины, юбки у них были подоткнуты, головы покрыты платками, повязанными так, что на лице нельзя было разглядеть ничего, кроме глаз и носа. Появление моего всадника вызвало оживление. Залаяли собаки, из домов, при ближайшем рассмотрении оказавшихся просто лачугами, вышли еще женщины, луг заполнился голосами. Несмотря на непривычный перекат взрывных согласных, в их речи безошибочно можно было распознать картавость корнуоллского диалекта.
Всадник свернул влево, спешился перед церковной стеной, накинул поводья на вкопанный в землю крюк и вошел в широкие, обитые медью ворота. Над аркой ворот выделялась деревянная фигура святого, облаченного в рясу и держащего в правой руке крест святого Андрея. Мое католическое воспитание, давно забытое и не раз мной осмеянное, заставило меня невольно перекреститься перед входом, и в тот же момент во дворе зазвонил колокол, так всколыхнувший глубины моей памяти, что я даже остановился, не решаясь войти, в страхе, что та, старая, сила опять, как в детстве, обретет надо мной власть.
Но я напрасно беспокоился. Сцена, которая предстала моим глазам, не имела ничего общего с правильными дорожками и газонами в тихих монастырских обителях, ореолом святости, тишиной, порожденной молитвами. За воротами оказался грязный двор, по которому какие-то два человека гонялись за испуганным мальчишкой, хлестая его цепами по обнаженным бедрам. Оба, судя по одежде и выбритым макушкам, были монахами, а мальчишка – послушником. Полы его рясы были заткнуты за пояс, что, по-видимому, делало забаву более пикантной.
Всадник неподвижно наблюдал за этим действом, но, когда мальчик наконец упал и ряса, задравшись до самой головы, обнажила все его худое тело, голую спину, он крикнул:
– Еще не время выпускать из него кровь! Приор[1 - Настоятель в католических мужских монастырях.] предпочитает молочных поросят без соуса. Приправы подают только тогда, когда поросенок становится жестким.
Тем временем колокол продолжал звонить к молитве, не оказывая никакого воздействия на шутников во дворе.
Сорвав аплодисменты за свою остроту, мой всадник пересек двор и вошел в здание напротив, очутившись в коридоре, который, судя по запаху протухшей птицы, слегка облагороженному запахом дыма из очага, отделял кухню от трапезной. Игнорируя тепло и ароматы кухни справа, а также прохладу трапезной с голыми скамьями слева, он толкнул центральную дверь и поднялся по лестнице на другой этаж, где оказался перед еще одной дверью. Он постучал в нее и, не дождавшись ответа, вошел.
В комнате с деревянным потолком и оштукатуренными стенами чувствовалось некое подобие комфорта – ничего общего с выскобленным и вылизанным аскетизмом, с которым всегда были связаны мои детские воспоминания. На устланном камышом полу валялись обглоданные собаками кости. Кровать с засаленным балдахином, стоявшая в дальнем углу, служила, по-видимому, складом всякого хлама: на ней валялись баранья шкура, пара сандалий, головка сыра на жестяной тарелке, удочка, и посреди всего этого вороха возлежала борзая, занятая поиском блох.
– Приветствую вас, святой отец, – сказал мой проводник.
Нечто приподнялось на кровати, потревожив борзую, которая спрыгнула на пол. Это был престарелый, розовощекий монах, еще не пришедший в себя ото сна.
– Я распорядился меня не беспокоить, – сказал он.
Мой проводник пожал плечами.
– Даже для молитвы? – спросил он и потрепал собаку, которая жалась к нему, виляя обрубком хвоста.
Его сарказм остался без внимания. Приор, поджав под себя ноги, еще плотнее укрылся одеялом.
– Мне нужен отдых, – сказал он, – хороший отдых, чтобы быть в форме для приема епископа. Слыхал новости?
– Сплетен всегда полно, – ответил проводник.
– Это не сплетни. Сэр Джон прислал вчера письмо. Епископ уже выехал из Эксетера и в понедельник, после посещения Лонстона, будет здесь. Он рассчитывает найти у нас радушный прием и ночлег.
Проводник улыбнулся:
– Епископ знает, когда и к кому ехать. Мартынов день: на ужин – только что заколотый поросенок. Вам нечего волноваться – он отойдет ко сну с набитым брюхом.
– Нечего волноваться? – В раздраженном голосе приора послышались визгливые нотки. – Думаешь, легко сладить с этим неуправляемым сбродом? Хорошее впечатление они произведут на епископа! Он ведь что новая метла – намерен очистить от скверны всю епархию.
Дафна дю Морье
Азбука-бестселлер
Вниманию читателей предлагается роман одной из самых популярных английских писательниц Дафны дю Морье (1907–1989), автора прославленной «Ребекки», – «Дом на берегу» (1969). Это произведение сочетает в себе элементы реального и фантастического, повседневного и романтического, объяснимого и таинственного. Действие романа разворачивается в Корнуолле, юго-западной части Англии, одновременно в наши дни и в четырнадцатом веке, причем события и люди, разделенные шестью веками, оказываются странным образом связанными друг с другом. Эта увлекательная, динамичная, полная неожиданных «сюрпризов» книга рассчитана на самый широкий круг читателей.
Дафна Дюморье
Дом на берегу
Copyright © The Estate of Daphne du Maurier, 1968
© Л. А. Бондаренко (наследники), перевод, 1993
© Н. В. Зонина, перевод, 1993
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство Азбука
* * *
Глава первая
Первое, что бросилось мне в глаза, – это прозрачность воздуха, затем – ярко-зеленый цвет лугов. Никаких полутонов. Вершины отдаленных гор не сливались с небом. Своими резкими очертаниями они напоминали скалы и, казалось, находились совсем близко, так близко, что до них можно дотронуться рукой. Это ошеломило и удивило меня – нечто подобное, должно быть, испытывает ребенок, впервые посмотревший в подзорную трубу. Рядом со мной все обладало такой же контрастностью, выделялся каждый стебель, каждая травинка, произраставшая из более молодой и грубой почвы, чем та, которую знал я.
Я ожидал (если вообще чего-то ожидал) совсем иных метаморфоз: я полагал очутиться в мире умиротворения и благоденствия, в некоей материализации мечты, где все расплывчато и не имеет четких контуров. Я не был готов к такой контрастности, к такой пронзительной реальности. Ни во сне, ни наяву мне не приходилось видеть ничего подобного. Теперь все представлялось мне ярче и рельефнее, все мои ощущения, чувства – зрение, слух, обоняние – были как бы обострены.
Все, кроме осязания: я не ощущал земли под ногами. Магнус предупредил меня об этом. Он сказал: «Ты не будешь чувствовать соприкосновений с неодушевленными предметами. Ты будешь ходить, стоять, сидеть, касаться их, но не будешь ничего осязать. Пусть это тебя не беспокоит. Разве не чудо уже то, что ты можешь двигаться, ничего при этом не ощущая?»
Конечно, я воспринял это как шутку, как обыкновенную приманку с целью соблазнить меня согласиться на эксперимент. Теперь я убедился, что Магнус был прав. Я пошел вперед, ощущая невероятную легкость: мне не нужно было прилагать никаких усилий, чтобы двигаться, – казалось, я парю, не касаясь земли.
Я спускался с холма по направлению к морю, проходя через поле, покрытое серебристой осокой, которая поблескивала на солнце: небо, серое еще минуту назад, когда я видел его обычным своим зрением, теперь стало безоблачным и ослепительно-голубым. Я вспомнил, что был отлив, обнаживший ровные песчаные полосы, и на этом золотом фоне резко выделялся ряд пляжных кабинок, напоминавших оскаленные зубы. Теперь они исчезли. Исчезли и дома, стоявшие вдоль дороги, пирсы, не видно было и поселка Пар с его трубами, крышами, зданиями, и городка Сент-Остелл, который, как спрут щупальцами, охватывал всю местность по ту сторону залива. Ничего этого не было. Были только трава и кустарник и вдалеке высокие горы, казавшиеся теперь такими близкими. А прямо подо мной море катило свои волны в залив, омывая пустой песчаный берег – словно до этого там пронеслось цунами, поглотившее без следа всю окрестность. На северо-западе скалы подступали к самому морю, которое, постепенно сужаясь, образовывало широкий рукав, и волны неслись вглубь его вдоль всего изгиба суши и исчезали вдали.
Когда я подошел к краю скалы и взглянул вниз, туда, где у подножия Полмиарского холма должна была проходить дорога и стоять гостиница, кафе, богадельня, то понял, что море и здесь поглотило сушу и образовало залив, который вытянулся на восток, врезавшись в долину. Дорога и дома исчезли, а вместо них сверкала водная гладь. В этом месте залив резко сужался, зажатый тонкими песчаными берегами, и было ясно, что при сильном отливе вся вода уходит, оставляя лишь болотистое русло, которое можно перейти вброд, если не пешему, то всаднику уж точно. Я спустился с холма и подошел к заливу, пытаясь определить, в каком точно месте проходила знакомая мне дорога, но прежние ориентиры были утрачены: не осталось ничего, кроме земли, долины и холмов, что помогло бы восстановить картину местности.
Частые мелкие волны залива набегали на песчаные берега, оставляя на них хлопья густой пены. Надувались, росли и лопались пузыри, о берег бился неподвластный времени мусор, принесенный приливом, – целая бахрома из морских водорослей, перьев, прутьев, – как после осеннего шторма. Я знал, что в моем времени сейчас самый разгар лета, хотя день был серый и хмурый, но здесь все вокруг меня говорило о приближающейся зиме. Было явно за полдень: яркое солнце уже склонялось на запад, готовилось вот-вот окрасить небо в темно-багряный цвет, как это бывает перед наступлением вечера.
В поле зрения попали первые живые существа: чайки, мечущиеся над волнами, небольшие болотные птицы, скользящие по поверхности воды, а на противоположном берегу, на горе, резко выделявшейся на фоне неба, медленно тащилась запряженная в плуг упряжка волов. Я закрыл и вновь открыл глаза. Упряжка скрылась за склоном. Но гвалт стаи потревоженных чаек убеждал меня, что все это действительность, а не сон.
Я глубоко вдохнул, и холодный воздух наполнил мои легкие. Просто дышать доставляло мне ни с чем не сравнимую радость, это было похоже на какое-то волшебство – ничего подобного я никогда ранее не испытывал. Осмыслить разумом, проанализировать то, что я видел, было невозможно: в этом новом мире чувственного восприятия я мог полагаться только на остроту собственных ощущений.
Должно быть, я простоял так очень долго, завороженный, готовый вечно парить между небом и землей, вдали от жизни, которую я знал или хотел узнать, но, повернув голову, я увидел, что не один. Пони, по-видимому, следовал моим же путем, через поле, и потому я не слышал топота копыт, но теперь, когда он ступил на гальку, звук от соприкосновения металла с камнем достиг моего слуха, и я почувствовал запах теплого животного, потного и сильного.
Я инстинктивно подался назад, поскольку всадник ехал прямо на меня, не подозревая о моем присутствии. Он приостановил пони у кромки воды и посмотрел в сторону моря, оценивая уровень прилива. Тут я впервые испытал не только возбуждение, но и страх, поскольку передо мной был не призрак, а живой, во плоти, человек – ноги в стременах, в руках поводья – в такой невероятной близости от меня, что мне стало не по себе. Я не боялся, что меня собьют; в смятение меня ввергла сама эта встреча, это соединение веков – его и моего. Он отвел взгляд от моря и посмотрел на меня в упор. Мне казалось, он видит меня, мне казалось, я отчетливо прочитал в его глубоко посаженных глазах знак приветствия. Он улыбнулся, потрепал пони по холке и, пришпорив его, направил вброд на другой берег.
Нет, он не видел меня, не мог он меня видеть, ведь он жил в другом времени. Тогда почему же он внезапно приподнялся в седле, обернулся и посмотрел прямо на меня? Это был призыв, властный и странный: «Следуй за мной, если не трусишь!» Я прикинул на глаз глубину брода и, хотя вода доходила пони до колен, бросился за ним, не думая о том, что могу промокнуть, – и только выйдя на противоположный берег, мимоходом отметил про себя: а ботинки-то совсем сухие!
Всадник поехал в гору, и я последовал за ним. Дорога была крутая и размытая; поднимаясь вверх, она резко поворачивала влево. Я с радостью заметил, что она в точности совпадает с той, по которой я ехал на машине только сегодня утром. Но на этом сходство заканчивалось: живой изгороди из кустарника, окаймлявшей дорогу в моем времени, здесь не было. Справа и слева лежали пахотные земли, ничем не защищенные от ветров; кое-где виднелись участки, поросшие низкорослым вереском и утесником. Мы поравнялись с упряжкой волов, и я наконец смог разглядеть самого пахаря: маленького роста, в каком-то балахоне с капюшоном, он всей тяжестью своего тела навалился на деревянный плуг. Пахарь поднял руку, приветствуя моего всадника, что-то прокричал и побрел за плугом дальше. Над его головой кружили и кричали чайки.
Этот обмен приветствиями был настолько естественным, что состояние шока, в котором я находился с того момента, когда впервые увидел всадника у брода, уступило место удивлению, а затем спокойствию. Я вспомнил свое первое путешествие, еще ребенком, во Францию: я ехал ночным поездом и утром, с нетерпением открыв в купе окно, смотрел, как мимо проносятся поля, деревни и города, склоненные фигурки людей, работавших в поле подобно этому землепашцу, и по-детски удивлялся: «Интересно, они такие же живые, как я, или просто притворяются?»
Сейчас для моего удивления было куда больше оснований, чем тогда. Я смотрел на всадника, на его пони и двигался за ними на таком близком расстоянии, что мог дотронуться до них рукой, ощущал их запах. От них обоих шел такой сильный дух, как будто они вобрали в себя аромат самой жизни. Струйки пота, стекавшие по бокам животного, его косматая грива, следы пены на удилах, а еще сильное колено и обтянутая чулком нога, кожаная куртка поверх рубахи, мерное покачивание в седле, руки, держащие поводья, само лицо, обветренное, худое, обрамленное темными волосами, закрывавшими шею, – вот где была настоящая реальность, и чужеродным элементом был я сам.
Мне страстно захотелось протянуть руку и дотронуться до пони, но я вспомнил предупреждение Магнуса: «Если встретишь существо из прошлого, то, ради бога, не притрагивайся к нему. Неодушевленные предметы – пожалуйста, но, если ты попытаешься войти в контакт с живой материей, связь прервется и твой выход оттуда будет осложнен неприятными последствиями. Я это испытал и знаю, о чем говорю».
Дорога вела сначала через пахотные земли, затем резко пошла вниз. Совсем иной ландшафт открылся моему взору. Деревня Тайуордрет, которую я видел всего несколько часов назад, изменилась до неузнаваемости. Многочисленные дома, беспорядочно расположившиеся к северу и западу от церкви, исчезли. Теперь на этом месте находилось небольшое селение, своим примитивным видом напоминавшее игрушечную ферму, которую я, помню, строил на полу своей комнаты в детстве. Маленькие приземистые дома, крытые соломой, теснились вокруг большого общинного луга, по которому разгуливали свиньи, гуси, куры, два или три стреноженных пони и сновали вездесущие собаки. Над этими убогими жилищами поднимался дым, но он выходил не из труб, а из отверстий в крыше. Сразу за селением стояла церковь, и здесь уже красота и гармония вновь вступали в свои права. Но это была не та церковь, которую я видел несколько часов назад. Она была поменьше и без башни; вплотную к ней примыкало длинное невысокое каменное строение, и все это было окружено каменной стеной. За стеной тянулись огороды, сад, служебные постройки и небольшой лесок. А далее – спуск в долину, где виднелся глубоко врезавшийся в нее залив.
Я бы так стоял и смотрел не отрываясь: открывшийся передо мной вид завораживал своей неброской красотой, но мой проводник двинулся дальше, и неведомая сила вновь потянула меня за ним. Дорога спускалась к лугу, и вскоре я оказался в гуще деревенской жизни: у колодца стояли женщины, юбки у них были подоткнуты, головы покрыты платками, повязанными так, что на лице нельзя было разглядеть ничего, кроме глаз и носа. Появление моего всадника вызвало оживление. Залаяли собаки, из домов, при ближайшем рассмотрении оказавшихся просто лачугами, вышли еще женщины, луг заполнился голосами. Несмотря на непривычный перекат взрывных согласных, в их речи безошибочно можно было распознать картавость корнуоллского диалекта.
Всадник свернул влево, спешился перед церковной стеной, накинул поводья на вкопанный в землю крюк и вошел в широкие, обитые медью ворота. Над аркой ворот выделялась деревянная фигура святого, облаченного в рясу и держащего в правой руке крест святого Андрея. Мое католическое воспитание, давно забытое и не раз мной осмеянное, заставило меня невольно перекреститься перед входом, и в тот же момент во дворе зазвонил колокол, так всколыхнувший глубины моей памяти, что я даже остановился, не решаясь войти, в страхе, что та, старая, сила опять, как в детстве, обретет надо мной власть.
Но я напрасно беспокоился. Сцена, которая предстала моим глазам, не имела ничего общего с правильными дорожками и газонами в тихих монастырских обителях, ореолом святости, тишиной, порожденной молитвами. За воротами оказался грязный двор, по которому какие-то два человека гонялись за испуганным мальчишкой, хлестая его цепами по обнаженным бедрам. Оба, судя по одежде и выбритым макушкам, были монахами, а мальчишка – послушником. Полы его рясы были заткнуты за пояс, что, по-видимому, делало забаву более пикантной.
Всадник неподвижно наблюдал за этим действом, но, когда мальчик наконец упал и ряса, задравшись до самой головы, обнажила все его худое тело, голую спину, он крикнул:
– Еще не время выпускать из него кровь! Приор[1 - Настоятель в католических мужских монастырях.] предпочитает молочных поросят без соуса. Приправы подают только тогда, когда поросенок становится жестким.
Тем временем колокол продолжал звонить к молитве, не оказывая никакого воздействия на шутников во дворе.
Сорвав аплодисменты за свою остроту, мой всадник пересек двор и вошел в здание напротив, очутившись в коридоре, который, судя по запаху протухшей птицы, слегка облагороженному запахом дыма из очага, отделял кухню от трапезной. Игнорируя тепло и ароматы кухни справа, а также прохладу трапезной с голыми скамьями слева, он толкнул центральную дверь и поднялся по лестнице на другой этаж, где оказался перед еще одной дверью. Он постучал в нее и, не дождавшись ответа, вошел.
В комнате с деревянным потолком и оштукатуренными стенами чувствовалось некое подобие комфорта – ничего общего с выскобленным и вылизанным аскетизмом, с которым всегда были связаны мои детские воспоминания. На устланном камышом полу валялись обглоданные собаками кости. Кровать с засаленным балдахином, стоявшая в дальнем углу, служила, по-видимому, складом всякого хлама: на ней валялись баранья шкура, пара сандалий, головка сыра на жестяной тарелке, удочка, и посреди всего этого вороха возлежала борзая, занятая поиском блох.
– Приветствую вас, святой отец, – сказал мой проводник.
Нечто приподнялось на кровати, потревожив борзую, которая спрыгнула на пол. Это был престарелый, розовощекий монах, еще не пришедший в себя ото сна.
– Я распорядился меня не беспокоить, – сказал он.
Мой проводник пожал плечами.
– Даже для молитвы? – спросил он и потрепал собаку, которая жалась к нему, виляя обрубком хвоста.
Его сарказм остался без внимания. Приор, поджав под себя ноги, еще плотнее укрылся одеялом.
– Мне нужен отдых, – сказал он, – хороший отдых, чтобы быть в форме для приема епископа. Слыхал новости?
– Сплетен всегда полно, – ответил проводник.
– Это не сплетни. Сэр Джон прислал вчера письмо. Епископ уже выехал из Эксетера и в понедельник, после посещения Лонстона, будет здесь. Он рассчитывает найти у нас радушный прием и ночлег.
Проводник улыбнулся:
– Епископ знает, когда и к кому ехать. Мартынов день: на ужин – только что заколотый поросенок. Вам нечего волноваться – он отойдет ко сну с набитым брюхом.
– Нечего волноваться? – В раздраженном голосе приора послышались визгливые нотки. – Думаешь, легко сладить с этим неуправляемым сбродом? Хорошее впечатление они произведут на епископа! Он ведь что новая метла – намерен очистить от скверны всю епархию.