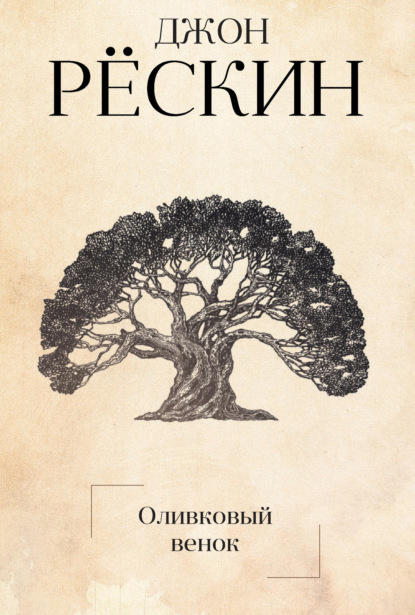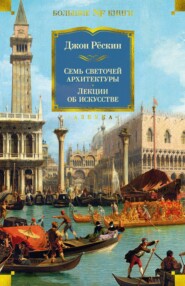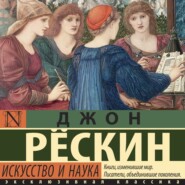По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Оливковый венок
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Оливковый венок
Джон Рёскин
Авторская серия Джона Рёскина
«Оливковый венок» Джона Рёскина – первый манифест творческой экономики: Рёскин доказывает, что умение любоваться красотой, простота жизни и солидарность не противоречат друг другу. Книга Рёскина стоит у истоков одновременно дизайна быта, «опрощения» и христианского социализма, напоминая нам о том, что эти принципы хотя и разнородны, но принадлежат единой антропологии: человек ответствен за свое взаимодействие с окружающей средой. В настоящем издании труд Рёскина снабжен предисловием профессора Александра Маркова.
Джон Рёскин
Оливковый венок
JOHN RUSKIN
The Crown of Wild Olive
Перевод с английского А. П. Никифоровой
Вступительная статья А. В. Маркова
Война и мир красоты: о книге Джона Рёскина
Оливковый венок в Древней Греции посвящался Афине, как лавровый – Аполлону, сосновый – Посейдону, а виноградный – Дионису. Олива, дар Афины своему городу, была основанием всех промыслов Аттики: без оливкового масла невозможно было не только прокормить все население, но и изготавливать многие материалы. Сломанная олива не гниет, а отломившася ветка может быстро прижиться и дать листья – хотя эти наблюдения образцовые поэтические преувеличения, но всякое такое поэтическое преувеличение и есть тот вдохновенный замах, который и позволяет потом сказать: «Олива – это Греция». Когда романтики воспевали «оливу мира» или тень старых олив или когда Одиссеас Элитис заявил, что Греция раскладывается на корабль, виноградную кисть и оливковое дерево, то олива – это возможность длительно существовать без суеты, спокойно созерцая плоды собственных трудов.
Был и другой оливковый венок, венок Олимпийских игр, посвященный Зевсу Олимпийскому. Он складывался из ветвей не промысловой, но дикой оливы, с ее терпкими и горьковатыми плодами. Здесь венок становился принадлежностью священного брака: победитель и победительница отождествлялись с Зевсом и Герой как солнцем и луной, и, увенчавшись оливой, они восстанавливали дары мироздания. Так что оливковый венок – это награда промыслам двоякая, как неспешному мастерству и как мирозданию, которое требует не только созерцания, но и особого, трепетного участия.
Олива не раз становилась предметом изучения Джона Рёскина. Ученый любил включать аккуратно расправленные оливковые ветви в свой гербарий, в поездках по Италии обязательно останавливался рядом с оливами, изучая, как они сочетаются с ландшафтом, как их обширная корневая система требует особой земли, задерживающей воду, согревающей, земли, которая больше лелеет эти деревья, чем любая теплица. На одном из рисунков Рёскина (см. рис.) мы видим оливковую ветку, словно бы купающуюся в собственной тени, умеющую изобиловать влагой, но это изобилие меньше всего гордая раздутость – скорее сочное упорство.
Книга Джона Рёскина (1819–1900) «Оливковый венок» (1866) – часть его большого проекта по исследованию современной ему промышленности и доказательству преимущества ручного труда перед машинным. Разумеется, он понимал, что ручной труд тоже бывает суетлив, и тогда, обратившись к нему от стандартизирующей скуки машин, мы сделаем природе не лучше, а хуже. Поэтому вся его книга – исследование того, как руками можно трудиться с душой и тем самым создавать новый жизненный стандарт.
Оливковая ветвь и контуры двух листьев. До 1877 г.
Это один из курсов лекций наравне с «Орлиным гнездом» или «Последнему, что и первому». Рёскин умел читать публичные лекции, как просветитель, апологет и наследник довольно большой английской традиции университетской проповеди. Дело в том, что в английских университетах духовенство было не просто поставлено на служение народу: оно могло вполне становиться миссионерами, со знанием языков, или дипломатами, или даже политиками. Отстаивая значение университетов, они отстаивали возможность выполнять ту миссию, которую не выполнят чиновники. Рёскин, наследуя этой традиции, проповедуя подолгу, так что публика не разойдется, внес свой вклад и в самосознание университетов как места миссии. Хотя сами эти лекции читались в рабочих и военных школах, а не в университете, Рёскин произносил их как университетский преподаватель, временно отправленный на задание, как могли оксфордского знатока индийских древностей отправить с важным поручением в саму Индию.
В оригинале книга Рёскина называется The Crown of Wild Olive, что скорее следовало бы перевести «Венец из дикой оливы», а не венок – автор употребил слово Crown, а не Wreath не случайно. Венец, корона, в отличие от венка, не просто награда, которую можно носить с собой всё время. Это награда, которая находит своего героя: дикая олива отыскивает себе человека, умеющего ценить природу. Такова программа Рёскина, которую он развивал вместе со своим тогдашним другом философом Томасом Карлейлем, и которую потом подхватил Лев Толстой, – программа опрощения, которую сейчас чаще всего называют simple living. Хотя идеал простой жизни можно возводить к Сократу, Будде, много к кому, но именно Рёскин придал ему новый смысл: не в том дело, чтобы ограничить свои потребности, но в том, чтобы делать только то, в чем есть настоящая потребность.
Чтобы понять место этой книги среди других сочинений Джона Рёскина, следует вспомнить некоторые обстоятельства его биографии. Рёскин был естествоиспытателем не меньшим, чем живописцем или теоретиком искусства, но его подход к природе был с ранней юности именно ручным. Природу надо было приручать, а не испытывать с помощью готовых безжалостных механизмов. Для этого надлежало преодолеть привычное разделение между наблюдением и лабораторной работой, нужно было найти еще третье место, кроме ландшафта и лаборатории, для понимания самой природной жизни. Такое место нашлось – это был собственный дом Рёскина, где можно было долгими вечерами вспоминать увиденное, зарисовывать листья и цветы из гербария или из памятных наблюдений, наблюдать общие свойства видов и те начала, которые и позволяют им существовать. В этом Рёскин оказывается даже предшественником Дарвина, который учил, что общность видовых признаков не может быть установлена только лабораторным исследованием, равно как и простым суммированием наблюдений, но требует внимания к их устойчивости – и почему они воспроизводятся, и почему они запоминаются.
Далее с ходом месяцев и лет важным для Рёскина было посещение Венеции еще в ранней юности, в 1835 г. Венецию он назвал «раем городов», имея в виду не столько удивительную красоту, сколько особый ритм жизни города, стоящего на воде, в заливе, на огромных дубовых сваях. Рай – это прекрасный сад, и Рёскин увидел во всевластии дворцов, тихо склонившихся над каналами, в закрытых огородах, в храмах, хранящих власть над епархиями и монастырскими союзами, в сокровищницах, помнящих не только о заморских владениях Венето, но и об особом торжестве цехов и ловкости деловых лиц, способных влиять на мировую политику, образ рая. Это именно мир, не восхищающий своим богатством, а словно шелестящий своим богатством над миром, навевающий мысль о том, что перемены в политике и экономике должны быть умеренными, но при условии, что сама эта умеренность будет свободной и даже авантюрной. Юный Рёскин глубоко усвоил миф Венеции о себе самой как о мирном городе, возникшем среди трудовых занятий, а не военной узурпации, переворотов и языческих жертвоприношений, равно как и развил собственный миф о Венеции как об одном из центров настоящей духовной свободы.
Далее, для Рёскина идея ручного труда как одухотворяющего стала руководящей в его первых исследованиях, в частности в книге «Поэзия архитектуры». Рёскин доказывал, что архитектура тогда выигрывает, когда не просто вписывается в окружающий ландшафт, но использует продукты этого ладшафта – строится из местных пород деревьев или найденных на ближайшем поле валунов, а не только удобно умеет примоститься среди готовой рощи.
Ручной труд тогда приобретает особый смысл: это не просто бережливая работа, но умение создавать красоту, которая находит продолжение – не просто «остается в веках», а остается вместе с вещами природы, проверенными веками.
В Оксфорде Рёскин укрепился в своих убеждениях благодаря своему научному руководителю Генри Лидделу, лучшему знатоку древнегреческого языка, которого мы знаем теперь как отца Алисы Лид дел («Алиса в Стране чудес»), а на момент знакомства с Рёскиным профессор еще не был женат. У преподобного Генри Лиддела было два увлечения – составление греческого словаря и обустройство учебных помещений: он руководил строительством хоровой комнаты и классов, следил, чтобы у всех учащихся была удобная мебель, чтобы они были предельно аккуратны в пользовании книгами. От студентов требовались бережливость и практичность, простые плотницкие и даже строительные навыки. Важно было не то, что студенты сами справятся сами с трудностями (хотя для тех студентов, которых отправят в колонии или даже на чиновничью работу в самой Англии, важно уметь иногда обходиться без слуг), но что они никогда не будут простаивать, не смогут сослаться на то, что не подготовились, потому что не смогли найти нужную книгу – пусть они расставят книги на новеньких полках, и тогда каждая книга будет сразу под рукой.
Далее, в 1850 г. Рёскину пришлось защищать картину Джона Эверетта Милле «Христос в родительском доме» от нападений критиков. Может быть, если бы не скандал вокруг этой картины, не возникла бы ни книга Рёскина «Прерафаэлиты» (1851), поводом к написанию которой стала защита Милле, ни репутация прерафаэлитов как поэтов подвига и труда. Художники из этого объединения воспринимались бы всего лишь как чудаки, любящие музейную экзотику и затерявшиеся в коридорах частных коллекций, если бы не трубные призывы Рёскина принять мастера Христа в чистое, искреннее и ответственное сердце зрителя.
На картине Милле мальчик Иисус поранился при монтаже двери гвоздем, и бабушка Анна вытаскивает неудачный гвоздь щипцами. Можно прочесть эту картину как аллегорию искупления: ведь слово «грех» по-гречески буквально означает «промах», «неудача», «кривизна», – и Христос, пролив кровь за людской грех, тем самым их искупил. А можно прочесть и как бытовую сцену: рана вызывает страх Девы Марии (как указывает Евангелие, знавшей с самого часа беседы с архангелом Гавриилом о гвоздях Голгофы), дельный осмотр Иосифа и отработанные движения Анны и слуг. Тогда это уже не только богословие искупления, но и философия ручного труда: он требует осмотрительности от собирающегося стать мастером, но при условии, что все остальные в этой мастерской знают и умеют работать. Осмотрительность рядом с халтурой бессмысленна, как и неосмотрительность рядом с скрупулезным и добросовестным выполнением всех обязанностей. Современные машины, говорит Рёскин в своих лекциях «Оливковый венок», делают все добросовестно, но в результате приучают людей халтурить, потому что им кажется, что всего они могут достичь легко – что в войне, что в спорте, что в моде. Худшая забава, как говорит Рёскин в первой лекции, – погоня за деньгами, модный спорт, в котором каждый тратит свои силы и свое время ради богатства, о котором никто не может сказать, что владеет им вполне, потому что не знает, какая мода потребует еще расточительства.
Картину Милле осудил Чарльз Диккенс, считая, что на ней изображены неприятные герои, каждый из которых слишком прямолинейно реагирует на боль. Диккенс увидел в картине отталкивающий морализм и недостаток знания настоящей психологии человека, истинных его глубин. Начитавшись журналистов, королева Виктория потребовала картину к себе, чтобы внимательно рассмотреть, и в конце концов приняла ее, но при условии, что она будет жанровой сценой из жизни плотников. Рёскин принял картину, потому что понял ее не как Диккенс: не как историю простых бытовых реакций, профанирующих тайну человеческой природы, но как рассказ о тайне человека, раскрывающейся только в тайне труда. Труд, по Рёскину, не деформация человека, не вызывание в нем гримас удовольствия или неудовольствия, как это было бы у Диккенса, но, наоборот, возможность рассказать о себе не менее строго, чем в документальном повествовании. Полотно Милле для Рёскина – евангелие от труда, как икона – евангелие от красок.
Главная проблема лекций Джона Рёскина «Оливковый венок» – всевластие машин, которые лишают работников их заработка и множат неправедные досуги. Рёскин, конечно, выступает не против машин: в них он видит тоже одно из проявлений человеческого гения. Просто он считает, что машины должны не заменять труд людей, тем самым превращая его в бессмысленную игрушку, а создавать лучшие условия для плодотворного людского труда. Плоха машина, изготавливающая готовую одежду, но хороша машина, правильно орошающая землю, где растет лен. Плоха машина, штампующая мебель, но хороша машина, разравнивающая дорогу, чтобы можно было перевозить дерево без потерь.
В первой лекции Рёскин ставит вопрос: есть нравственные люди среди богатых, и есть безнравственные люди среди бедных, чем же тогда так однозначно плоха система угнетения бедных богатыми? Рёскин говорит, что дело не в том, что богачи присваивают себе то, что могло бы достаться беднякам, но в том, что богатые своими интригами и своей поспешностью запутывают трудовые отношения. Беда не в том, что богатый строит дворец тогда, когда бедняк не имеет крыши над головой, а что этот дворец бесполезен для бедняков, как и бесполезен для бедного тела богача, потому что он создан безрадостным трудом. Если бы богач испытывал радость при строительстве своего дворца, он бы научился и научил строить дома для бедняков. И наоборот, если бедняки будут трудиться, используя новейшие технологии, при этом внимательно и добросовестно, то их жилища будут лучше любых дворцов, так что даже богачи захотят переехать к ним. В этой первой лекции Рёскин еще не такой христианский социалист, каким он станет позднее, скорее он демократ, при этом исходящий из того, что бесхитростность большинства людей в момент, когда они старательно работают, заботятся о других, не менее важна, чем отвлеченное равенство или отвлеченная справедливость.
Во второй лекции Рёскин объясняет, каким могло бы быть здание биржи, чтобы оно не только заставляло гордиться коммерческими успехами, но и воспитывало вкус. Воспитание вкуса для Рёскина – не просто умение отличать хорошее от дурного, но и умение не восторгаться дурным, например, разбойниками, и при этом любить чистоту нравов, которая отождествляется с чистотой служения. Рёскин, ссылаясь на свои книги «Камни Венеции» и «Семь светочей архитектуры», выделяет готическую архитектуру как единственную по-настоящему евангельскую архитектуру, архитектуру самоотречения, тогда как романскую или ренессансную архитектуру объявляет плодом не очень чистой нравственности, при всей искренности любви к красоте. Ведь если в архитектуре всё пространство заполнено декором, то, значит, архитектуре есть что скрывать, а готические ребра уже ничего не скрывают, это и есть нагота Распятия.
В третьей лекции, прочитанной в военной академии, Рёскин говорит о войне как о том занятии, которое может быть воспето поэтами и поддержано художниками. Но для этого войны должны освободиться от бремени упадка, начавшегося в эпоху Возрождения, когда они стали истощать государства. Такого не должно быть, ведь офицеры – благородный слой, всякий, кто во цвете лет свободы верный воин, – и образуют костяк чести для любого государства. Поэтому надо перестать вести войны, которые только обогащают войско и его руководителей, но начинать лишь те, в которых выяснить отношения можно с наименьшими потерями. Лучше дуэль немногих профессионалов на поле боя, чем блокада, голод, политические интриги и союзы, разоряющие землю, угнетающие людей и природу. Рёскин, опять же, еще не пацифист, каким он станет позднее, он пока просто сторонник прямоты выяснения отношений. Люди либо научатся прямо воевать, ничего не скрывая за душой, либо им лучше не отягощать собой землю.
Наконец, четвертая лекция Рёскина показывает, что труд не разрушает природу, но бережет ее. Что настоящий труд – это одна из форм подражания природе, наравне с другими формами, такими как танец, песня или пророчество. Если русский поэт призывал деревья читать стихи Гесиода, то в мире Рёскина уже пастухи Феокрита расположились в тени деревьев, потому что деревья шумят так, будто вдохновились его стихами. Труд – лишь одна из нитей, вплетенных в ковер песни. Это не делает труд более легким, но делает его разделенным с лошадьми и машинами, друзьями и советчиками, природой и избытком собственных сил, поддержанных дружелюбивой тренировкой собственного организма. По сути, Рёскин обосновывает своеобразный «фитнес» как основу труда, напомню, что это важное слово теории Дарвина – то, что мы переводим как «приспособление» к природным условием (будто растения и животные – ленивые умом приспособленцы), в оригинале называется «фитнесом», годностью, умением быть на высоте природы с ее неумолимо прекрасными желаниями.
Переводчик этой книги, как и многих других книг Рёскина, Лев Павлович Никифоров, был толстовцем, сотрудником издательства «Посредник», где и издал некоторые переводы из Рёскина, например его сказку «Царь золотой реки». Биография Л. П. Никифорова была более чем драматична. Происходил он из пензенских дворян, в студенческие годы в Петербурге присоединился к кружку Нечаева, выполняя поручения последнего, в частности поддержание постоянных отношений с московским подпольем. По делу Нечаева в 1869 г. он был арестован, и только поручительство отца спасло его от каторги, хотя несколько лет он провел в ссылке. Женат он был на Екатерине Засулич, сестре Веры, в 1865 г. участвовавшей в создании швейной мастерской по модели, известной из романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Под надзор полиции она попала сразу после покушения Д. В. Каракозова на императора в 1866 г. – Каракозов был двоюродным братом руководителя и идеолога швейной мастерской, утописта Н. А. Ишутина, тоже пензяка, так же как и Нечаев учившего о допустимости политических убийств. Деятельность Нечаева и Ишутина была важной темой для всей магистральной русской литературы: «Что делать» Чернышевского и его спор с Тургеневым, «На ножах» Лескова как ответ на «Что делать», «Бесы» и «Братья Карамазовы» Достоевского (сама фамилия Карамазов рифмуется с Каракозов, и в продолжении романа Алеша должен был стать революционером), наконец, «Живой труп» и «Фальшивый купон» Толстого – обе эти вещи опубликованы посмертно, что говорит о том, насколько литература не вмещает действительность, – все эти разножанровые произведения свидетельствуют о том, сколь глубоко русская литература пережила драму столкновения с радикальной мыслью, с тем, что Г. П. Федотов позднее назвал «идейностью и беспочвенностью» интеллигенции. Екатерина Никифорова разделила с мужем ссылку в Солигалич, едва заметный город с первой в Центральной России водолечебницей, в котором уже давно гнали деготь вместо добычи соли, стояло несколько скучных домов за обширными огородами, но разве что, как и в Москве, были Красная площадь и радиально-кольцевая планировка улиц: раннее присоединение этих костромских земель к Москве давало о себе знать. В 1880 г. вернулся на родину, стал мировым судьей, несмотря на судимость и полицейский надзор; тогда же стал переписываться с Львом Толстым, сделавшись одним из первых убежденных толстовцев.
Рёскина Никифоров стал переводить по совету Толстого, как и, скажем, Мопассана; также по совету писателя вел дневник чтения, делал многочисленные выписки, а в 1905 г. выпустил сборник «Афоризмы и избранные мысли Л. Н. Толстого». С 1895 г. он жил в Москве, зарабатывал только переводами и издательской деятельностью.
Кроме Рёскина он, например, посоветовавшись с философом В. С. Соловьевым, перевел книгу английского богослова-естествоиспытателя Г. Дрюммонда «Восхождение человека». Хотя Соловьев не одобрял некоторую затянутость книги, им обоим была близка ее основная мысль, что человек – лишь промежуточный этап эволюции и что он должен сам себя довершить, чтобы соответствовать замыслу Бога о нем. Никифоров остроумно заметил, что если верна теория эволюции, то на самом деле нет смерти не только для всего рода, но и для каждого отдельного существа: если клетки не умирают, а только делятся и, значит, для них смерть – лишь болезнь к делению, то, следовательно, и человек не умирает, а труп лишь одно из оформлений организма, накануне настоящего «деления» – воскресения души в Боге. Никифоров вступил в партию социалистов-революционеров с целью распространить толстовство среди членов этой радикальной крестьянской партии, а в 1905 г. вместе с Верой Фигнер «неутомимый старик» (по ее словам) создал в Нижнем Новгороде революционное издательство «Сеятель», издававшее книги по экономике социализма. Как и все подражатели Рёскина, он носил густую бороду, эту славу свободного художника. Умер он в 1917 г., между фактическим и юридическим превращением России в республику.
Наследие книги «Оливковый венок» важно не только для сторонников экологического дизайна и любителей всего «крафтового», сделанного руками. Нынешние посетители хипстерских кафе, конечно, приходят в гости к Рёскину, но не только они. Всякий, кто понимает, что литература нужна не только как набор уроков, а искусство – не только как несколько прекрасных впечатлений, приходит к Рёскину. Всякий, кто преодолел в себе романтический эгоизм, но при этом не знает, что делать дальше и пока растерян, тоже приходит к Рёскину. Наконец, всякий, кто думает, как спланировать свою работу так, чтобы отбросить рутину, как отбрасывают упаковку, тоже уже в гостях у Рёскина.
Александр Марков,
профессор РГГУ и ВлГУ
15 февраля 2018 г.
Введение[1 - В предыдущих изданиях оно называлось предисловием, но одна из моих дурных привычек состоит в том, что я половину книги часто помещаю в предисловии. Относительно же настоящей книги я могу предварительно заметить, что большую часть всего заключающегося в ней материала я полнее развил в различных других сочинениях, здесь же я излагаю это в более популярной форме, присоединяя, во-первых, введение, очень тщательно написанное для читателей, а ее для слушателей и, во-вторых, последнюю лекцию о будущности Англии, которая – вместе с замечаниями к ней – стоила мне особенных усилий.]
1. Двадцать лет тому назад береговая полоса источников Ванделя – включая низину Аддингтона и деревни Беддингтон и Каршальтон с их прудами и речками – представляла самый отрадный уголок Южной Англии, и кажется, во всем мире едва ли можно было найти другое местечко, где бы проще и трогательнее сказывались все прелестные стороны характера и жизни человека.
Едва ли где-нибудь вечно журчащие потоки, соединенные десницей, ниспосылающей дождь с неба, казались более чистыми и божественными, луга весной покрывались более яркими цветами, и уютные жилища радовали сердца прохожего большей отрадой мирного счастья, полускрываемого, но ярко бросающегося в глаза. Это местечко и теперь (в 1870 году) остается в общих чертах почти неизменившимся, но, говоря беспристрастно, я никогда ни в мареммах
Пизы, ни среди гробниц Кампании, ни на песчаных отмелях Торселаны не встречал ничего столь ужасного по своему внутреннему трагическому значению, как то беспечное, наглое и чисто животное презрение к дивным прелестям природы, которое в этом уголке Англии сказывается решительно во всем. Насколько я обладаю чуткостью и пониманием, никакие кощунства, никакие святотатства, никакие неистовые проклятия или безбожные мысли не кажутся мне более возмутительными, чем это осквернение людскими толпами источников тех вод, которые служат им для питья.
Жалкие местные обитатели все свои уличные и домашние нечистоты – груды пыли и грязи, старые обломки и обрезки ржавого железа и клочья гнилых одежд – валят туда, где поток беспорочно чистой воды, журчащий и прозрачный, врывается, словно сноп солнечных лучей, в Каршальтонское озеро, проделывая себе блестящее ложе вплоть до песчаного дна и разрисовывая шелковистую, волнистую траву глубокими светлыми прожилками, которые кажутся халцедоном в агатовом мхе, испещренном звездочками белого лютика.
Не обладая ни достаточной энергией, чтоб удалить эту грязь, ни достаточным приличием, чтоб зарывать ее в землю, местные жители, повторяю, валят ее в поток, заставляя его разносить отраву этих нечистот по самым отдаленным уголкам, куда воды эти, по воле Бога, должны были доставлять здоровье и отраду. Несколько далее, среди деревни, позади домов, в небольшом пруду, из которого вытекает другой ручей, под беспорядочными грудами извести, шлака и остатков каменных работ лежат разбросанные и заваленные обломки фонтана и маленького размытого канала, некогда построенного и проведенного более благородными руками.
Чистые воды стремятся омыть и смыть эти груды, но бессильны пробиться до мертвой подпочвы, и потому стоячий край пруда, заваленный и запруженный разлагающимися отбросами, врезывается в слой черной тины, накопившейся здесь годами, благодаря беспечности жителей. Человек шесть, проработав всего один день, очистили бы эти пруды, и тогда берега их украсились бы пышными цветами, дыхание летнего воздуха над ними наполнилось бы освежающим благоуханием, и каждая переливающаяся волна стала бы целебной, как бы возмущаемая ангелом и вытекая из купальни Вифезды. Но люди не решились потратить этого дневного труда на очистку прудов, и я не думаю, что мы дождемся этого, дождемся, что сердца людей станут трепетать от радости у этих источников рек Англии.
2. В последнее мое посещение этих мест, я, не торопясь, шел по задней улице Кройдона, направляясь от старой кирки к госпиталю; и вот, влево, немного не доходя до ее перекрестка с верхней улицей, я увидал новую харчевню. Лицевая сторона ее была так остроумно построена, что между окнами и мостовой оставалось пространство всего в один аршин, которое немыслимо было употребить как-нибудь с пользой; если б даже, как в былое время, устроить здесь скамейку, то каждый проходящий спотыкался бы об ноги сидящего на ней. Но чтобы это пространство более соответствовало достоинству заведения для продажи крепких напитков, его отгородили от мостовой внушительной железной решеткой в шесть футов вышины, с множеством заостренных шпицев. Решетка эта, по-видимому, заключает в себе столько железа и работы, сколько мыслимо вместить на таком незначительном пространстве; и последнее, благодаря такому хитроумному приспособлению, превратилось в защищенное вместилище всяких отбросов: окурков сигар, устричных раковин и тому подобных вещей, обыкновенно выбрасываемых тороватой английской уличной толпой. Все эти отбросы, за невозможностью выгрести их, так и валяются там. Железная решетка, бесполезно (или даже в значительной степени хуже, чем бесполезно) отгораживающая этот клок земли и обращающая его в вонючую клоаку, вмещает в себе количество труда втрое большее, чем его необходимо для очисти Каршальтонских прудов. Труд, потраченный на изготовление ее, был отчасти опасен и вреден, поскольку производился в рудниках, отчасти тяжел и ужасен у плавильных печей и, наконец, бессмыслен при составлении дурных чертежей и рисунков недоучками художниками, т. е. весь этот труд с начала до конца, со всеми его подразделениями и разветвлениями, является вредным, смертоносным и жалким[2 - Страшное несчастье случилось несколько дней тому назад у Волферхамтопа. На работе у доменной печи в Динфильде находились: Том Снеп девятнадцати лет, Джон Гарднер восемнадцати лет и Иосиф Свифт тридцати семи лет. Печь заключала в себе четыре тонны раскаленного железа с таким же количеством шлака, и сплав должно было слить в 7 ч. 30 м. Но Снеп и его помощники, увлекшись разговорами и выпивкой, позабыли о своей обязанности, и тем временем железо поднялось в печи до трубы, в которой заключалась вода. Как раз когда вышеупомянутые рабочие опомнились и собирались отвернуть кран, вода в трубочке, превратившись в пар, выкинула расплавленный металл, который мгновенно залил Гарднера. Снен, получив страшные ожоги и обезумев от боли, бросился в канал и затем побежал домой, где на пороге и умер. Свифт доставлен был в больницу, где тоже скончался.].
3. Теперь возникает вопрос: как и в силу чего произведена эта работа, а не та? Почему сила и жизнь английских рабочих потрачена на загрязнение, а не на очистку почвы, на производство вполне (в данном случае) бесполезной металлической вещи, которая не служит ни для питания, ни для дыхания, тогда как взамен ее можно было получить целебно свежий воздух и чистую воду?
4. Объяснить это можно только тем, что капиталист мог нажить выгодный процент в одном случае и не мог этого достигнуть в другом. Если я, имея в своем распоряжении известный фонд для производства работ, употреблю его на то, чтоб привести в порядок мой участок земли, то деньги мои будут потрачены тут разом; но если я употреблю его на добывание железа из моей земли, на литье и выковку его и затем продам полученное изделие, то могу получить ренту за землю, доход с производства и с продажи, так что капитал принесет мне втрое больший барыш. Капитал в настоящее время приносит большею частью наибольшую выгоду в операциях подобного рода, при которых публика склоняется покупать вещи, ей совершенно бесполезные, но от производства или продажи которых капиталист может получить выгодный процент; и при этом публика остается все время в полной уверенности, что процент, полученный таким способом, представляет действительный прирост национального богатства, а не есть просто выуживание денег из более легких карманов в более тяжелые.
5. Кройдонский трактирщик покупает, таким образом, железную решетку, желая выдвинуться в глазах любителей выпивки. Чтоб не отстать от него, содержатель кабака, помещающегося на другой стороне улицы, покупает другую решетку. Оба они в деле привлечения публики ничего не выиграли, но лишились стоимости решеток, которую они должны или выплатить из своего кармана, или заставить заплатить своих посетителей, пленяющихся этими решетками, возвышая цену на пиво, или прибавляя к нему разные подмеси. Или трактирщики или их посетители станут таким образом беднее именно на ту сумму, какую приобретет капиталист, а нация ничего не выиграет от такой промышленности, так как решетки, в данном случае, окажутся вполне бесполезными.
6. Этот способ обложения богатыми бедных я рассматриваю дальше, в § 34, сравнивая современную власть капитала в деле приобретения с властью копья и сабли; единственная разница между ними состоит в том, что в былое время мародеры собирали дань силой, а теперь обманом. Прежний мародер или грабитель открыто обирал трактирщика, являясь к нему погулять на ночь; современный же облекает свое копье в форму железных шпицев и убеждает хозяина купить их. Один является как явный грабитель, другой как обманывающий продавец; результат же для кармана в том и в другом случае совершенно одинаков. Бесспорно, что многие полезные производства примешиваются к бесполезным и служат им оправданием, и в деле возбуждения энергии, вызываемой борьбой, это не лишено некоторой прямой пользы. Конечно, лучше потратить сорок тысяч на пушку и взорвать ее, чем проводить всю жизнь в праздности. Только не называйте этот процесс политико-экономическим.
7. В уме очень многих лиц существует ложное понятие о том, что скопление собственности бедняков в руках богача не представляет, в сущности, ничего вредного, так как она, в конце концов, должна же быть израсходована и таким образом, по их мнению, вернуться к беднякам. Ложность этого взгляда часто выяснялась, но, даже допустив, что это рассуждение верно, мы должны, однако, заметить, что им оправдывается и мародерство и любая форма грабежа. Может случиться (хотя в действительной жизни этого никогда не бывает), что для нации безразлично, кто потратит деньги: грабитель или ограбленный собственник, – но все же это не оправдывает грабежа. Если б я устроил заставу в воротах, где дорога пересекает мои владения, и старался взимать по полтиннику с каждого прохожего, публика не замедляла бы уничтожить мои ворота и не стала бы выслушивать мои доводы, что ей, в конце концов, безразлично, я ли потрачу ее полтинники или она сама. Но если б вместо того, чтоб нагло обирать ее при помощи заставы, я убедил бы ее покупать у меня камни, старое железо или другие столь же бесполезные вещи, то мог бы отлично грабить ее и к тому же пользоваться репутацией общественного благодетеля, содействующего процветанию промышленности. И этот важный вопрос, имеющий существенное значение для бедняков не только Англии, но и всех стран, упускается из виду во всех обычных трактатах о богатстве. Даже сами рабочие рассматривают влияние капитала только по его воздействию на их непосредственные интересы, а не в его еще более грозной власти в деле определения рода и предмета труда. В действительности же, сравнительно ничтожное значение имеет плата, получаемая рабочим за работу, но громадное значение имеет на что направлена эта работа. Если она производит пищу, свежий воздух и свежую воду, то не беда, если плата низка: явятся пища, свежий воздух и свежая вода, и рабочий будет наконец иметь возможность пользоваться ими. Если же ему платят за то, чтоб он уничтожал пищу, свежий воздух или производил взамен этого железные решетки, то не будет ни пищи, ни воздуха, и он не получит их к своему великому и крайнему неудобству.
Джон Рёскин
Авторская серия Джона Рёскина
«Оливковый венок» Джона Рёскина – первый манифест творческой экономики: Рёскин доказывает, что умение любоваться красотой, простота жизни и солидарность не противоречат друг другу. Книга Рёскина стоит у истоков одновременно дизайна быта, «опрощения» и христианского социализма, напоминая нам о том, что эти принципы хотя и разнородны, но принадлежат единой антропологии: человек ответствен за свое взаимодействие с окружающей средой. В настоящем издании труд Рёскина снабжен предисловием профессора Александра Маркова.
Джон Рёскин
Оливковый венок
JOHN RUSKIN
The Crown of Wild Olive
Перевод с английского А. П. Никифоровой
Вступительная статья А. В. Маркова
Война и мир красоты: о книге Джона Рёскина
Оливковый венок в Древней Греции посвящался Афине, как лавровый – Аполлону, сосновый – Посейдону, а виноградный – Дионису. Олива, дар Афины своему городу, была основанием всех промыслов Аттики: без оливкового масла невозможно было не только прокормить все население, но и изготавливать многие материалы. Сломанная олива не гниет, а отломившася ветка может быстро прижиться и дать листья – хотя эти наблюдения образцовые поэтические преувеличения, но всякое такое поэтическое преувеличение и есть тот вдохновенный замах, который и позволяет потом сказать: «Олива – это Греция». Когда романтики воспевали «оливу мира» или тень старых олив или когда Одиссеас Элитис заявил, что Греция раскладывается на корабль, виноградную кисть и оливковое дерево, то олива – это возможность длительно существовать без суеты, спокойно созерцая плоды собственных трудов.
Был и другой оливковый венок, венок Олимпийских игр, посвященный Зевсу Олимпийскому. Он складывался из ветвей не промысловой, но дикой оливы, с ее терпкими и горьковатыми плодами. Здесь венок становился принадлежностью священного брака: победитель и победительница отождествлялись с Зевсом и Герой как солнцем и луной, и, увенчавшись оливой, они восстанавливали дары мироздания. Так что оливковый венок – это награда промыслам двоякая, как неспешному мастерству и как мирозданию, которое требует не только созерцания, но и особого, трепетного участия.
Олива не раз становилась предметом изучения Джона Рёскина. Ученый любил включать аккуратно расправленные оливковые ветви в свой гербарий, в поездках по Италии обязательно останавливался рядом с оливами, изучая, как они сочетаются с ландшафтом, как их обширная корневая система требует особой земли, задерживающей воду, согревающей, земли, которая больше лелеет эти деревья, чем любая теплица. На одном из рисунков Рёскина (см. рис.) мы видим оливковую ветку, словно бы купающуюся в собственной тени, умеющую изобиловать влагой, но это изобилие меньше всего гордая раздутость – скорее сочное упорство.
Книга Джона Рёскина (1819–1900) «Оливковый венок» (1866) – часть его большого проекта по исследованию современной ему промышленности и доказательству преимущества ручного труда перед машинным. Разумеется, он понимал, что ручной труд тоже бывает суетлив, и тогда, обратившись к нему от стандартизирующей скуки машин, мы сделаем природе не лучше, а хуже. Поэтому вся его книга – исследование того, как руками можно трудиться с душой и тем самым создавать новый жизненный стандарт.
Оливковая ветвь и контуры двух листьев. До 1877 г.
Это один из курсов лекций наравне с «Орлиным гнездом» или «Последнему, что и первому». Рёскин умел читать публичные лекции, как просветитель, апологет и наследник довольно большой английской традиции университетской проповеди. Дело в том, что в английских университетах духовенство было не просто поставлено на служение народу: оно могло вполне становиться миссионерами, со знанием языков, или дипломатами, или даже политиками. Отстаивая значение университетов, они отстаивали возможность выполнять ту миссию, которую не выполнят чиновники. Рёскин, наследуя этой традиции, проповедуя подолгу, так что публика не разойдется, внес свой вклад и в самосознание университетов как места миссии. Хотя сами эти лекции читались в рабочих и военных школах, а не в университете, Рёскин произносил их как университетский преподаватель, временно отправленный на задание, как могли оксфордского знатока индийских древностей отправить с важным поручением в саму Индию.
В оригинале книга Рёскина называется The Crown of Wild Olive, что скорее следовало бы перевести «Венец из дикой оливы», а не венок – автор употребил слово Crown, а не Wreath не случайно. Венец, корона, в отличие от венка, не просто награда, которую можно носить с собой всё время. Это награда, которая находит своего героя: дикая олива отыскивает себе человека, умеющего ценить природу. Такова программа Рёскина, которую он развивал вместе со своим тогдашним другом философом Томасом Карлейлем, и которую потом подхватил Лев Толстой, – программа опрощения, которую сейчас чаще всего называют simple living. Хотя идеал простой жизни можно возводить к Сократу, Будде, много к кому, но именно Рёскин придал ему новый смысл: не в том дело, чтобы ограничить свои потребности, но в том, чтобы делать только то, в чем есть настоящая потребность.
Чтобы понять место этой книги среди других сочинений Джона Рёскина, следует вспомнить некоторые обстоятельства его биографии. Рёскин был естествоиспытателем не меньшим, чем живописцем или теоретиком искусства, но его подход к природе был с ранней юности именно ручным. Природу надо было приручать, а не испытывать с помощью готовых безжалостных механизмов. Для этого надлежало преодолеть привычное разделение между наблюдением и лабораторной работой, нужно было найти еще третье место, кроме ландшафта и лаборатории, для понимания самой природной жизни. Такое место нашлось – это был собственный дом Рёскина, где можно было долгими вечерами вспоминать увиденное, зарисовывать листья и цветы из гербария или из памятных наблюдений, наблюдать общие свойства видов и те начала, которые и позволяют им существовать. В этом Рёскин оказывается даже предшественником Дарвина, который учил, что общность видовых признаков не может быть установлена только лабораторным исследованием, равно как и простым суммированием наблюдений, но требует внимания к их устойчивости – и почему они воспроизводятся, и почему они запоминаются.
Далее с ходом месяцев и лет важным для Рёскина было посещение Венеции еще в ранней юности, в 1835 г. Венецию он назвал «раем городов», имея в виду не столько удивительную красоту, сколько особый ритм жизни города, стоящего на воде, в заливе, на огромных дубовых сваях. Рай – это прекрасный сад, и Рёскин увидел во всевластии дворцов, тихо склонившихся над каналами, в закрытых огородах, в храмах, хранящих власть над епархиями и монастырскими союзами, в сокровищницах, помнящих не только о заморских владениях Венето, но и об особом торжестве цехов и ловкости деловых лиц, способных влиять на мировую политику, образ рая. Это именно мир, не восхищающий своим богатством, а словно шелестящий своим богатством над миром, навевающий мысль о том, что перемены в политике и экономике должны быть умеренными, но при условии, что сама эта умеренность будет свободной и даже авантюрной. Юный Рёскин глубоко усвоил миф Венеции о себе самой как о мирном городе, возникшем среди трудовых занятий, а не военной узурпации, переворотов и языческих жертвоприношений, равно как и развил собственный миф о Венеции как об одном из центров настоящей духовной свободы.
Далее, для Рёскина идея ручного труда как одухотворяющего стала руководящей в его первых исследованиях, в частности в книге «Поэзия архитектуры». Рёскин доказывал, что архитектура тогда выигрывает, когда не просто вписывается в окружающий ландшафт, но использует продукты этого ладшафта – строится из местных пород деревьев или найденных на ближайшем поле валунов, а не только удобно умеет примоститься среди готовой рощи.
Ручной труд тогда приобретает особый смысл: это не просто бережливая работа, но умение создавать красоту, которая находит продолжение – не просто «остается в веках», а остается вместе с вещами природы, проверенными веками.
В Оксфорде Рёскин укрепился в своих убеждениях благодаря своему научному руководителю Генри Лидделу, лучшему знатоку древнегреческого языка, которого мы знаем теперь как отца Алисы Лид дел («Алиса в Стране чудес»), а на момент знакомства с Рёскиным профессор еще не был женат. У преподобного Генри Лиддела было два увлечения – составление греческого словаря и обустройство учебных помещений: он руководил строительством хоровой комнаты и классов, следил, чтобы у всех учащихся была удобная мебель, чтобы они были предельно аккуратны в пользовании книгами. От студентов требовались бережливость и практичность, простые плотницкие и даже строительные навыки. Важно было не то, что студенты сами справятся сами с трудностями (хотя для тех студентов, которых отправят в колонии или даже на чиновничью работу в самой Англии, важно уметь иногда обходиться без слуг), но что они никогда не будут простаивать, не смогут сослаться на то, что не подготовились, потому что не смогли найти нужную книгу – пусть они расставят книги на новеньких полках, и тогда каждая книга будет сразу под рукой.
Далее, в 1850 г. Рёскину пришлось защищать картину Джона Эверетта Милле «Христос в родительском доме» от нападений критиков. Может быть, если бы не скандал вокруг этой картины, не возникла бы ни книга Рёскина «Прерафаэлиты» (1851), поводом к написанию которой стала защита Милле, ни репутация прерафаэлитов как поэтов подвига и труда. Художники из этого объединения воспринимались бы всего лишь как чудаки, любящие музейную экзотику и затерявшиеся в коридорах частных коллекций, если бы не трубные призывы Рёскина принять мастера Христа в чистое, искреннее и ответственное сердце зрителя.
На картине Милле мальчик Иисус поранился при монтаже двери гвоздем, и бабушка Анна вытаскивает неудачный гвоздь щипцами. Можно прочесть эту картину как аллегорию искупления: ведь слово «грех» по-гречески буквально означает «промах», «неудача», «кривизна», – и Христос, пролив кровь за людской грех, тем самым их искупил. А можно прочесть и как бытовую сцену: рана вызывает страх Девы Марии (как указывает Евангелие, знавшей с самого часа беседы с архангелом Гавриилом о гвоздях Голгофы), дельный осмотр Иосифа и отработанные движения Анны и слуг. Тогда это уже не только богословие искупления, но и философия ручного труда: он требует осмотрительности от собирающегося стать мастером, но при условии, что все остальные в этой мастерской знают и умеют работать. Осмотрительность рядом с халтурой бессмысленна, как и неосмотрительность рядом с скрупулезным и добросовестным выполнением всех обязанностей. Современные машины, говорит Рёскин в своих лекциях «Оливковый венок», делают все добросовестно, но в результате приучают людей халтурить, потому что им кажется, что всего они могут достичь легко – что в войне, что в спорте, что в моде. Худшая забава, как говорит Рёскин в первой лекции, – погоня за деньгами, модный спорт, в котором каждый тратит свои силы и свое время ради богатства, о котором никто не может сказать, что владеет им вполне, потому что не знает, какая мода потребует еще расточительства.
Картину Милле осудил Чарльз Диккенс, считая, что на ней изображены неприятные герои, каждый из которых слишком прямолинейно реагирует на боль. Диккенс увидел в картине отталкивающий морализм и недостаток знания настоящей психологии человека, истинных его глубин. Начитавшись журналистов, королева Виктория потребовала картину к себе, чтобы внимательно рассмотреть, и в конце концов приняла ее, но при условии, что она будет жанровой сценой из жизни плотников. Рёскин принял картину, потому что понял ее не как Диккенс: не как историю простых бытовых реакций, профанирующих тайну человеческой природы, но как рассказ о тайне человека, раскрывающейся только в тайне труда. Труд, по Рёскину, не деформация человека, не вызывание в нем гримас удовольствия или неудовольствия, как это было бы у Диккенса, но, наоборот, возможность рассказать о себе не менее строго, чем в документальном повествовании. Полотно Милле для Рёскина – евангелие от труда, как икона – евангелие от красок.
Главная проблема лекций Джона Рёскина «Оливковый венок» – всевластие машин, которые лишают работников их заработка и множат неправедные досуги. Рёскин, конечно, выступает не против машин: в них он видит тоже одно из проявлений человеческого гения. Просто он считает, что машины должны не заменять труд людей, тем самым превращая его в бессмысленную игрушку, а создавать лучшие условия для плодотворного людского труда. Плоха машина, изготавливающая готовую одежду, но хороша машина, правильно орошающая землю, где растет лен. Плоха машина, штампующая мебель, но хороша машина, разравнивающая дорогу, чтобы можно было перевозить дерево без потерь.
В первой лекции Рёскин ставит вопрос: есть нравственные люди среди богатых, и есть безнравственные люди среди бедных, чем же тогда так однозначно плоха система угнетения бедных богатыми? Рёскин говорит, что дело не в том, что богачи присваивают себе то, что могло бы достаться беднякам, но в том, что богатые своими интригами и своей поспешностью запутывают трудовые отношения. Беда не в том, что богатый строит дворец тогда, когда бедняк не имеет крыши над головой, а что этот дворец бесполезен для бедняков, как и бесполезен для бедного тела богача, потому что он создан безрадостным трудом. Если бы богач испытывал радость при строительстве своего дворца, он бы научился и научил строить дома для бедняков. И наоборот, если бедняки будут трудиться, используя новейшие технологии, при этом внимательно и добросовестно, то их жилища будут лучше любых дворцов, так что даже богачи захотят переехать к ним. В этой первой лекции Рёскин еще не такой христианский социалист, каким он станет позднее, скорее он демократ, при этом исходящий из того, что бесхитростность большинства людей в момент, когда они старательно работают, заботятся о других, не менее важна, чем отвлеченное равенство или отвлеченная справедливость.
Во второй лекции Рёскин объясняет, каким могло бы быть здание биржи, чтобы оно не только заставляло гордиться коммерческими успехами, но и воспитывало вкус. Воспитание вкуса для Рёскина – не просто умение отличать хорошее от дурного, но и умение не восторгаться дурным, например, разбойниками, и при этом любить чистоту нравов, которая отождествляется с чистотой служения. Рёскин, ссылаясь на свои книги «Камни Венеции» и «Семь светочей архитектуры», выделяет готическую архитектуру как единственную по-настоящему евангельскую архитектуру, архитектуру самоотречения, тогда как романскую или ренессансную архитектуру объявляет плодом не очень чистой нравственности, при всей искренности любви к красоте. Ведь если в архитектуре всё пространство заполнено декором, то, значит, архитектуре есть что скрывать, а готические ребра уже ничего не скрывают, это и есть нагота Распятия.
В третьей лекции, прочитанной в военной академии, Рёскин говорит о войне как о том занятии, которое может быть воспето поэтами и поддержано художниками. Но для этого войны должны освободиться от бремени упадка, начавшегося в эпоху Возрождения, когда они стали истощать государства. Такого не должно быть, ведь офицеры – благородный слой, всякий, кто во цвете лет свободы верный воин, – и образуют костяк чести для любого государства. Поэтому надо перестать вести войны, которые только обогащают войско и его руководителей, но начинать лишь те, в которых выяснить отношения можно с наименьшими потерями. Лучше дуэль немногих профессионалов на поле боя, чем блокада, голод, политические интриги и союзы, разоряющие землю, угнетающие людей и природу. Рёскин, опять же, еще не пацифист, каким он станет позднее, он пока просто сторонник прямоты выяснения отношений. Люди либо научатся прямо воевать, ничего не скрывая за душой, либо им лучше не отягощать собой землю.
Наконец, четвертая лекция Рёскина показывает, что труд не разрушает природу, но бережет ее. Что настоящий труд – это одна из форм подражания природе, наравне с другими формами, такими как танец, песня или пророчество. Если русский поэт призывал деревья читать стихи Гесиода, то в мире Рёскина уже пастухи Феокрита расположились в тени деревьев, потому что деревья шумят так, будто вдохновились его стихами. Труд – лишь одна из нитей, вплетенных в ковер песни. Это не делает труд более легким, но делает его разделенным с лошадьми и машинами, друзьями и советчиками, природой и избытком собственных сил, поддержанных дружелюбивой тренировкой собственного организма. По сути, Рёскин обосновывает своеобразный «фитнес» как основу труда, напомню, что это важное слово теории Дарвина – то, что мы переводим как «приспособление» к природным условием (будто растения и животные – ленивые умом приспособленцы), в оригинале называется «фитнесом», годностью, умением быть на высоте природы с ее неумолимо прекрасными желаниями.
Переводчик этой книги, как и многих других книг Рёскина, Лев Павлович Никифоров, был толстовцем, сотрудником издательства «Посредник», где и издал некоторые переводы из Рёскина, например его сказку «Царь золотой реки». Биография Л. П. Никифорова была более чем драматична. Происходил он из пензенских дворян, в студенческие годы в Петербурге присоединился к кружку Нечаева, выполняя поручения последнего, в частности поддержание постоянных отношений с московским подпольем. По делу Нечаева в 1869 г. он был арестован, и только поручительство отца спасло его от каторги, хотя несколько лет он провел в ссылке. Женат он был на Екатерине Засулич, сестре Веры, в 1865 г. участвовавшей в создании швейной мастерской по модели, известной из романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Под надзор полиции она попала сразу после покушения Д. В. Каракозова на императора в 1866 г. – Каракозов был двоюродным братом руководителя и идеолога швейной мастерской, утописта Н. А. Ишутина, тоже пензяка, так же как и Нечаев учившего о допустимости политических убийств. Деятельность Нечаева и Ишутина была важной темой для всей магистральной русской литературы: «Что делать» Чернышевского и его спор с Тургеневым, «На ножах» Лескова как ответ на «Что делать», «Бесы» и «Братья Карамазовы» Достоевского (сама фамилия Карамазов рифмуется с Каракозов, и в продолжении романа Алеша должен был стать революционером), наконец, «Живой труп» и «Фальшивый купон» Толстого – обе эти вещи опубликованы посмертно, что говорит о том, насколько литература не вмещает действительность, – все эти разножанровые произведения свидетельствуют о том, сколь глубоко русская литература пережила драму столкновения с радикальной мыслью, с тем, что Г. П. Федотов позднее назвал «идейностью и беспочвенностью» интеллигенции. Екатерина Никифорова разделила с мужем ссылку в Солигалич, едва заметный город с первой в Центральной России водолечебницей, в котором уже давно гнали деготь вместо добычи соли, стояло несколько скучных домов за обширными огородами, но разве что, как и в Москве, были Красная площадь и радиально-кольцевая планировка улиц: раннее присоединение этих костромских земель к Москве давало о себе знать. В 1880 г. вернулся на родину, стал мировым судьей, несмотря на судимость и полицейский надзор; тогда же стал переписываться с Львом Толстым, сделавшись одним из первых убежденных толстовцев.
Рёскина Никифоров стал переводить по совету Толстого, как и, скажем, Мопассана; также по совету писателя вел дневник чтения, делал многочисленные выписки, а в 1905 г. выпустил сборник «Афоризмы и избранные мысли Л. Н. Толстого». С 1895 г. он жил в Москве, зарабатывал только переводами и издательской деятельностью.
Кроме Рёскина он, например, посоветовавшись с философом В. С. Соловьевым, перевел книгу английского богослова-естествоиспытателя Г. Дрюммонда «Восхождение человека». Хотя Соловьев не одобрял некоторую затянутость книги, им обоим была близка ее основная мысль, что человек – лишь промежуточный этап эволюции и что он должен сам себя довершить, чтобы соответствовать замыслу Бога о нем. Никифоров остроумно заметил, что если верна теория эволюции, то на самом деле нет смерти не только для всего рода, но и для каждого отдельного существа: если клетки не умирают, а только делятся и, значит, для них смерть – лишь болезнь к делению, то, следовательно, и человек не умирает, а труп лишь одно из оформлений организма, накануне настоящего «деления» – воскресения души в Боге. Никифоров вступил в партию социалистов-революционеров с целью распространить толстовство среди членов этой радикальной крестьянской партии, а в 1905 г. вместе с Верой Фигнер «неутомимый старик» (по ее словам) создал в Нижнем Новгороде революционное издательство «Сеятель», издававшее книги по экономике социализма. Как и все подражатели Рёскина, он носил густую бороду, эту славу свободного художника. Умер он в 1917 г., между фактическим и юридическим превращением России в республику.
Наследие книги «Оливковый венок» важно не только для сторонников экологического дизайна и любителей всего «крафтового», сделанного руками. Нынешние посетители хипстерских кафе, конечно, приходят в гости к Рёскину, но не только они. Всякий, кто понимает, что литература нужна не только как набор уроков, а искусство – не только как несколько прекрасных впечатлений, приходит к Рёскину. Всякий, кто преодолел в себе романтический эгоизм, но при этом не знает, что делать дальше и пока растерян, тоже приходит к Рёскину. Наконец, всякий, кто думает, как спланировать свою работу так, чтобы отбросить рутину, как отбрасывают упаковку, тоже уже в гостях у Рёскина.
Александр Марков,
профессор РГГУ и ВлГУ
15 февраля 2018 г.
Введение[1 - В предыдущих изданиях оно называлось предисловием, но одна из моих дурных привычек состоит в том, что я половину книги часто помещаю в предисловии. Относительно же настоящей книги я могу предварительно заметить, что большую часть всего заключающегося в ней материала я полнее развил в различных других сочинениях, здесь же я излагаю это в более популярной форме, присоединяя, во-первых, введение, очень тщательно написанное для читателей, а ее для слушателей и, во-вторых, последнюю лекцию о будущности Англии, которая – вместе с замечаниями к ней – стоила мне особенных усилий.]
1. Двадцать лет тому назад береговая полоса источников Ванделя – включая низину Аддингтона и деревни Беддингтон и Каршальтон с их прудами и речками – представляла самый отрадный уголок Южной Англии, и кажется, во всем мире едва ли можно было найти другое местечко, где бы проще и трогательнее сказывались все прелестные стороны характера и жизни человека.
Едва ли где-нибудь вечно журчащие потоки, соединенные десницей, ниспосылающей дождь с неба, казались более чистыми и божественными, луга весной покрывались более яркими цветами, и уютные жилища радовали сердца прохожего большей отрадой мирного счастья, полускрываемого, но ярко бросающегося в глаза. Это местечко и теперь (в 1870 году) остается в общих чертах почти неизменившимся, но, говоря беспристрастно, я никогда ни в мареммах
Пизы, ни среди гробниц Кампании, ни на песчаных отмелях Торселаны не встречал ничего столь ужасного по своему внутреннему трагическому значению, как то беспечное, наглое и чисто животное презрение к дивным прелестям природы, которое в этом уголке Англии сказывается решительно во всем. Насколько я обладаю чуткостью и пониманием, никакие кощунства, никакие святотатства, никакие неистовые проклятия или безбожные мысли не кажутся мне более возмутительными, чем это осквернение людскими толпами источников тех вод, которые служат им для питья.
Жалкие местные обитатели все свои уличные и домашние нечистоты – груды пыли и грязи, старые обломки и обрезки ржавого железа и клочья гнилых одежд – валят туда, где поток беспорочно чистой воды, журчащий и прозрачный, врывается, словно сноп солнечных лучей, в Каршальтонское озеро, проделывая себе блестящее ложе вплоть до песчаного дна и разрисовывая шелковистую, волнистую траву глубокими светлыми прожилками, которые кажутся халцедоном в агатовом мхе, испещренном звездочками белого лютика.
Не обладая ни достаточной энергией, чтоб удалить эту грязь, ни достаточным приличием, чтоб зарывать ее в землю, местные жители, повторяю, валят ее в поток, заставляя его разносить отраву этих нечистот по самым отдаленным уголкам, куда воды эти, по воле Бога, должны были доставлять здоровье и отраду. Несколько далее, среди деревни, позади домов, в небольшом пруду, из которого вытекает другой ручей, под беспорядочными грудами извести, шлака и остатков каменных работ лежат разбросанные и заваленные обломки фонтана и маленького размытого канала, некогда построенного и проведенного более благородными руками.
Чистые воды стремятся омыть и смыть эти груды, но бессильны пробиться до мертвой подпочвы, и потому стоячий край пруда, заваленный и запруженный разлагающимися отбросами, врезывается в слой черной тины, накопившейся здесь годами, благодаря беспечности жителей. Человек шесть, проработав всего один день, очистили бы эти пруды, и тогда берега их украсились бы пышными цветами, дыхание летнего воздуха над ними наполнилось бы освежающим благоуханием, и каждая переливающаяся волна стала бы целебной, как бы возмущаемая ангелом и вытекая из купальни Вифезды. Но люди не решились потратить этого дневного труда на очистку прудов, и я не думаю, что мы дождемся этого, дождемся, что сердца людей станут трепетать от радости у этих источников рек Англии.
2. В последнее мое посещение этих мест, я, не торопясь, шел по задней улице Кройдона, направляясь от старой кирки к госпиталю; и вот, влево, немного не доходя до ее перекрестка с верхней улицей, я увидал новую харчевню. Лицевая сторона ее была так остроумно построена, что между окнами и мостовой оставалось пространство всего в один аршин, которое немыслимо было употребить как-нибудь с пользой; если б даже, как в былое время, устроить здесь скамейку, то каждый проходящий спотыкался бы об ноги сидящего на ней. Но чтобы это пространство более соответствовало достоинству заведения для продажи крепких напитков, его отгородили от мостовой внушительной железной решеткой в шесть футов вышины, с множеством заостренных шпицев. Решетка эта, по-видимому, заключает в себе столько железа и работы, сколько мыслимо вместить на таком незначительном пространстве; и последнее, благодаря такому хитроумному приспособлению, превратилось в защищенное вместилище всяких отбросов: окурков сигар, устричных раковин и тому подобных вещей, обыкновенно выбрасываемых тороватой английской уличной толпой. Все эти отбросы, за невозможностью выгрести их, так и валяются там. Железная решетка, бесполезно (или даже в значительной степени хуже, чем бесполезно) отгораживающая этот клок земли и обращающая его в вонючую клоаку, вмещает в себе количество труда втрое большее, чем его необходимо для очисти Каршальтонских прудов. Труд, потраченный на изготовление ее, был отчасти опасен и вреден, поскольку производился в рудниках, отчасти тяжел и ужасен у плавильных печей и, наконец, бессмыслен при составлении дурных чертежей и рисунков недоучками художниками, т. е. весь этот труд с начала до конца, со всеми его подразделениями и разветвлениями, является вредным, смертоносным и жалким[2 - Страшное несчастье случилось несколько дней тому назад у Волферхамтопа. На работе у доменной печи в Динфильде находились: Том Снеп девятнадцати лет, Джон Гарднер восемнадцати лет и Иосиф Свифт тридцати семи лет. Печь заключала в себе четыре тонны раскаленного железа с таким же количеством шлака, и сплав должно было слить в 7 ч. 30 м. Но Снеп и его помощники, увлекшись разговорами и выпивкой, позабыли о своей обязанности, и тем временем железо поднялось в печи до трубы, в которой заключалась вода. Как раз когда вышеупомянутые рабочие опомнились и собирались отвернуть кран, вода в трубочке, превратившись в пар, выкинула расплавленный металл, который мгновенно залил Гарднера. Снен, получив страшные ожоги и обезумев от боли, бросился в канал и затем побежал домой, где на пороге и умер. Свифт доставлен был в больницу, где тоже скончался.].
3. Теперь возникает вопрос: как и в силу чего произведена эта работа, а не та? Почему сила и жизнь английских рабочих потрачена на загрязнение, а не на очистку почвы, на производство вполне (в данном случае) бесполезной металлической вещи, которая не служит ни для питания, ни для дыхания, тогда как взамен ее можно было получить целебно свежий воздух и чистую воду?
4. Объяснить это можно только тем, что капиталист мог нажить выгодный процент в одном случае и не мог этого достигнуть в другом. Если я, имея в своем распоряжении известный фонд для производства работ, употреблю его на то, чтоб привести в порядок мой участок земли, то деньги мои будут потрачены тут разом; но если я употреблю его на добывание железа из моей земли, на литье и выковку его и затем продам полученное изделие, то могу получить ренту за землю, доход с производства и с продажи, так что капитал принесет мне втрое больший барыш. Капитал в настоящее время приносит большею частью наибольшую выгоду в операциях подобного рода, при которых публика склоняется покупать вещи, ей совершенно бесполезные, но от производства или продажи которых капиталист может получить выгодный процент; и при этом публика остается все время в полной уверенности, что процент, полученный таким способом, представляет действительный прирост национального богатства, а не есть просто выуживание денег из более легких карманов в более тяжелые.
5. Кройдонский трактирщик покупает, таким образом, железную решетку, желая выдвинуться в глазах любителей выпивки. Чтоб не отстать от него, содержатель кабака, помещающегося на другой стороне улицы, покупает другую решетку. Оба они в деле привлечения публики ничего не выиграли, но лишились стоимости решеток, которую они должны или выплатить из своего кармана, или заставить заплатить своих посетителей, пленяющихся этими решетками, возвышая цену на пиво, или прибавляя к нему разные подмеси. Или трактирщики или их посетители станут таким образом беднее именно на ту сумму, какую приобретет капиталист, а нация ничего не выиграет от такой промышленности, так как решетки, в данном случае, окажутся вполне бесполезными.
6. Этот способ обложения богатыми бедных я рассматриваю дальше, в § 34, сравнивая современную власть капитала в деле приобретения с властью копья и сабли; единственная разница между ними состоит в том, что в былое время мародеры собирали дань силой, а теперь обманом. Прежний мародер или грабитель открыто обирал трактирщика, являясь к нему погулять на ночь; современный же облекает свое копье в форму железных шпицев и убеждает хозяина купить их. Один является как явный грабитель, другой как обманывающий продавец; результат же для кармана в том и в другом случае совершенно одинаков. Бесспорно, что многие полезные производства примешиваются к бесполезным и служат им оправданием, и в деле возбуждения энергии, вызываемой борьбой, это не лишено некоторой прямой пользы. Конечно, лучше потратить сорок тысяч на пушку и взорвать ее, чем проводить всю жизнь в праздности. Только не называйте этот процесс политико-экономическим.
7. В уме очень многих лиц существует ложное понятие о том, что скопление собственности бедняков в руках богача не представляет, в сущности, ничего вредного, так как она, в конце концов, должна же быть израсходована и таким образом, по их мнению, вернуться к беднякам. Ложность этого взгляда часто выяснялась, но, даже допустив, что это рассуждение верно, мы должны, однако, заметить, что им оправдывается и мародерство и любая форма грабежа. Может случиться (хотя в действительной жизни этого никогда не бывает), что для нации безразлично, кто потратит деньги: грабитель или ограбленный собственник, – но все же это не оправдывает грабежа. Если б я устроил заставу в воротах, где дорога пересекает мои владения, и старался взимать по полтиннику с каждого прохожего, публика не замедляла бы уничтожить мои ворота и не стала бы выслушивать мои доводы, что ей, в конце концов, безразлично, я ли потрачу ее полтинники или она сама. Но если б вместо того, чтоб нагло обирать ее при помощи заставы, я убедил бы ее покупать у меня камни, старое железо или другие столь же бесполезные вещи, то мог бы отлично грабить ее и к тому же пользоваться репутацией общественного благодетеля, содействующего процветанию промышленности. И этот важный вопрос, имеющий существенное значение для бедняков не только Англии, но и всех стран, упускается из виду во всех обычных трактатах о богатстве. Даже сами рабочие рассматривают влияние капитала только по его воздействию на их непосредственные интересы, а не в его еще более грозной власти в деле определения рода и предмета труда. В действительности же, сравнительно ничтожное значение имеет плата, получаемая рабочим за работу, но громадное значение имеет на что направлена эта работа. Если она производит пищу, свежий воздух и свежую воду, то не беда, если плата низка: явятся пища, свежий воздух и свежая вода, и рабочий будет наконец иметь возможность пользоваться ими. Если же ему платят за то, чтоб он уничтожал пищу, свежий воздух или производил взамен этого железные решетки, то не будет ни пищи, ни воздуха, и он не получит их к своему великому и крайнему неудобству.