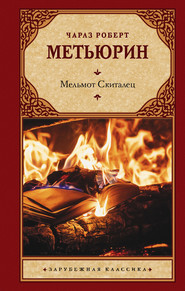По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мельмот Скиталец
Автор
Жанр
Год написания книги
1820
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Но какой же я совершил грех?
– Самый тяжкий из всех возможных грехов: ты отказался отвечать на вопросы, заданные судом Пресвятой и всемилостивой Инквизиции, ты не захотел рассказать нам, что? тебе известно о смерти отца Олавиды.
– Я уже сказал вам, что, как я полагаю, гибель его есть следствие его невежества и самомнения.
– Чем ты можешь доказать это?
– Он пытался постичь то, что скрыто от человека.
– Что же это такое?
– Он считал себя способным обнаружить присутствие нечистой силы.
– А сам ты владеешь этой тайной?
Подсудимый весь затрясся в волнении, а потом совсем слабым голосом, но очень внятно сказал:
– Господин мой запрещает мне говорить об этом.
– Если бы господином твоим был Иисус Христос, он бы не мог запретить тебе слушаться приказаний Инквизиции или отвечать на ее вопросы.
– Я в этом не уверен.
В ответ на произнесенные монахом слова все разразились криками ужаса. После этого следствие продолжалось.
– Если ты считал, что Олавида виновен в том, что занимается тайными науками, осужденными матерью нашей церковью, то почему же ты не донес о нем Инквизиции?
– Потому что я не считал, что занятия эти могут принести ему какой-нибудь вред; он оказался слишком слаб духом, он изнемог в этой борьбе, – очень решительно сказал узник.
– Ты, значит, считаешь, что у человека должна быть сила духа, для того чтобы хранить эти постыдные тайны, когда он занят исследованием их природы и целей?
– Нет, он прежде всего должен быть крепок телом.
– Сейчас мы это испытаем, – сказал инквизитор, давая знак приступить к пытке…
* * *
Узник выдержал первое и второе истязания мужественно и стойко, но когда была применена пытка водой
, которую человек не в силах перенести и которая слишком ужасна, чтобы ее можно было даже описать, как только наступила передышка, он тут же закричал, что во всем признается. Тогда его отпустили, дали ему прийти в себя и немного окрепнуть, и день спустя он сделал следующее примечательное признание…
* * *
Старуха-испанка открыла потом Стентону, что…
* * *
…и что англичанина несомненно видели потом в округе, и видели даже, как ей сказали, в ту же самую ночь.
– Боже праведный! – вскричал Стентон, вспомнив незнакомца, чей демонический смех так напугал его в ту минуту, когда он взирал на бездыханные тела двух влюбленных, убитых и испепеленных молнией.
После нескольких вымаранных и неразборчивых страниц рукопись сделалась более отчетливой, и Мельмот продолжал читать ее, сбитый с толку и неудовлетворенный, не понимая, какая же связь между этими происшедшими в Испании событиями и его предком: он все же узнал его в англичанине, о котором шла речь; Джона удивляло, как это Стентон мог найти нужным последовать за ним в Ирландию, исписать столько листов, рассказывая о том, что случилось в Испании, и оставить рукопись в руках семьи самого Мельмота, для того чтобы, по выражению Догберри, можно было «проверить недостоверное»
. Когда он вчитался в последующие строки, разобрать которые было нелегко, удивление его улеглось, но зато любопытство еще более возросло. Теперь Стентон находился уже, судя по всему, в Англии…
* * *
Около 1677 года Стентон был в Лондоне; мысли его все еще были заняты таинственным соотечественником. Человек этот, на котором теперь сосредоточились все его интересы, оказал даже заметное влияние на его внешность; в походке Стентона появилось сходство с описанной Саллюстием походкою Катилины
; у него были такие же foedi oculi[9 - Омерзительные глаза (лат.).], как у того. Каждую минуту он говорил себе: «Только бы напасть на след этого существа, человеком его назвать нельзя!» А минуту спустя он уже спрашивал себя: «А что бы я тогда сделал?» Довольно странно, что в таком состоянии он все же продолжал бывать в театрах и на балах, но так оно действительно было. Когда душа охвачена одной всепоглощающей страстью, мы особенно остро ощущаем нужду во внешнем возбуждении. И наша потребность в светских развлечениях возрастает тогда прямо пропорционально нашему презрению к свету и тому, чем он занят. Он часто посещал театры, которые были модны тогда, когда
Скучая, ждали зрители развязки
И за вечер остепенялись маски
.
Лондонские театры того времени являли собою картину, при виде которой должны были бы навсегда умолкнуть безрассудные крики по поводу возрастающей порчи нравов – безрассудные даже тогда, когда они выходили из-под пера Ювенала
, а тем более, когда они вылетали из уст современного пуританина. Порок во все времена находится на некоем среднем уровне: единственное различие, которое стоит проследить, – это различие в манере, обычаях и нравах, и в этом отношении у нас есть явные преимущества перед нашими предками. Говорят, что лицемерие – это та дань уважения, которую порок платит добродетели, соблюдение же правил приличия есть та форма, в которую это уважение облекается; а если это так, то приходится признать, что порок за последнее время на редкость присмирел. Что же касается царствования Карла II, то в его пороках было какое-то великолепие и хвастливый размах. Об этом говорил уже самый вид театров тогда, когда Стентон усердно их посещал. У дверей их с одной стороны выстраивались лакеи какого-нибудь знатного дворянина (с оружием, которое они прятали под ливреями) и окружали портшез известной актрисы[10 - Миссис Маршалл, первой исполнительницы роли Роксаны
и единственной добродетельной женщины из всех, что в те времена появлялись на сцене. Ее действительно увез описанным образом лорд Оррери, который, после того как все его притязания были отвергнуты, инсценировал фиктивную свадьбу, где священника заменял переодетый слуга. (Примеч. автора.)], которую они должны были увозить vi et armis[11 - Силой и оружием (лат.).], как только она садилась в него по окончании спектакля. По другую сторону ожидала карета со стеклами
, приехавшая, чтобы после окончания пьесы увезти Кинестона
(Адониса тех времен), переодетого в женское платье, куда-нибудь в парк и выставить его там на потеху во всем великолепии женственной красоты, которая его отличала и которую еще больше подчеркивал его театральный костюм.
Спектакли начинались тогда в четыре часа и оставляли людям много времени для вечерних прогулок и полуночных встреч в масках при свете факелов – встреч, которые происходили обычно в Сент-Джеймсском парке, отчего становится понятным название пьесы Уичерли «Любовь в лесу»
. В ложах, которые оглядывал Стентон, было много женщин; их обнаженные плечи и груди, которые верно запечатлели картины Лили
и мемуары Граммона
, могли бы удержать наших современных пуритан от многих назидательных стенаний и хвалебных гимнов былым временам. Все они, прежде чем посмотреть ту или иную пьесу, посылали на первое представление сначала кого-нибудь из родственников-мужчин, дабы тот мог сообщить им, пристало ли смотреть ее женщинам «порядочным и всеми уважаемым»; однако, несмотря на эту предосторожность, при некоторых репликах – а надо сказать, что из них чаще всего состояла добрая половина пьесы, – им ничего не оставалось, как раскрывать веера или играть тогда еще бывшими в моде длинными локонами, развенчать которые оказалось не под силу даже самому Принну
.
Сидевших в ложах мужчин можно было разделить на две категории. К первой относились «веселящиеся городские остряки», которых отличали галстуки из фламандских кружев, перепачканные нюхательным табаком, перстни с алмазами, выдававшиеся за подарки королевских любовниц (будь то герцогиня Портсмутская
или Нелл Гуинн
), нечесаные парики с кудрями, ниспадавшими на грудь, развязность, с которой они во всеуслышание поносили Драйдена
, Ли и Отвея
и цитировали Седли и Рочестера
.