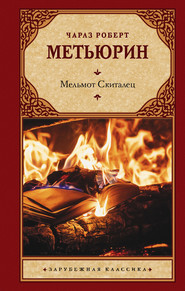По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мельмот Скиталец
Автор
Жанр
Год написания книги
1820
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Некому по ней теперь горевать!
Это были двое влюбленных; когда ее убило ударом молнии, он кинулся оказать ей помощь, и в ту же минуту новый удар поразил и его.
Когда тела уже должны были унести, подошел некий человек – очень спокойной и размеренной походкой, как будто только он один не сознавал опасности положения и страх был над ним не властен; какое-то время он взирал на мертвецов, а потом вдруг разразился смехом, столь громким, неистовым и раскатистым, что крестьяне, которых смех этот ужасал не меньше, чем завывания бури, поспешили поскорее убраться, унося с собою тела убитых. Даже Стентон был до такой степени поражен этим смехом, что удивление в нем взяло верх над испугом, и, обернувшись к незнакомцу, который стоял все на том же месте, он спросил его, кто дал ему право глумиться так над человеческими чувствами. Незнакомец не спеша повернулся к нему и, открыв лицо, на котором… (тут в рукописи шло несколько строк, разобрать которые не было возможности)… сказал по-английски… (в этом месте был большой пропуск, и следовавшие затем записи, которые можно было разобрать, хотя они и были продолжением начатого рассказа, не имели ни начала ни конца).
* * *
Ужасы этой ночи заставили Стентона упорно и неотступно стучаться в дом; и ни пронзительный голос старухи, повторявшей: «Еретика, англичанина, ни за что! Матерь Божья, защити нас! Отыди, Сатана!» – ни тот особый стук оконных створок, столь характерный для валенсийских домов, который раздавался, когда она открывала их, чтобы излить на пришельца весь поток ругательств, и снова закрывала при каждой вспышке молнии, врывавшейся в комнату, не в силах были удержать его от настойчивых просьб впустить его в дом: ночь выдалась такая, что все мелкие житейские страсти должны были притихнуть и уступить место одному только трепету перед силой, которая посылала эти ужасы людям, и состраданию к тем, кому приходилось их испытывать.
Однако Стентон чувствовал в возгласах старухи нечто большее, нежели свойственный этой нации фанатизм: то было особое избирательное отвращение к англичанам, и чувство это его не обмануло; но от этого не ослабевало упорство, с которым он…
* * *
Дом был обширный и красивый, но печать грусти и запустения…
* * *
У стены стояли скамейки, но на них никто не сидел; в помещении, которое некогда служило залом, стояли столы, но казалось, что много лет уже никто не собирался за ними; отчетливо били часы, но ничей веселый смех, ничей оживленный разговор не заглушал их звука; время давало свой страшный урок одной только тишине; в каминах чернели давным-давно прогоревшие угли; у фамильных портретов был такой вид, будто это они – единственные хозяева дома; казалось, что из потемневших рам слышатся голоса: «Некому смотреть на нас», и эхо от шагов Стентона и его дряхлой спутницы было единственным звуком, доносившимся между раскатами грома, столь же зловещими, но уже далекими, – теперь они все больше походили на глухие шумы изношенного сердца. Проходя одной из комнат, они вдруг услышали крик. Стентон остановился, и ему сразу представились страшные картины опасностей, которым путешествующие по континенту подвергаются в пустынных и отдаленных замках.
– Не обращайте на это внимания, – сказала старуха, тусклою лампою освещавшая ему путь. – Просто он…
* * *
Убедившись воочию, что у ее английского гостя, даже если это был сам дьявол, нет ни рогов, ни копыт, ни хвоста, что крестное знамение не приводит его в содрогание и что, в то время как он говорит, изо рта его не извергается горящая сера, старуха немного осмелела и наконец приступила к своему рассказу, который, как ни был Стентон устал и измучен, он…
* * *
– Все препятствия были теперь устранены; родители и вся родня перестали противиться, и влюбленные соединились. Они составляли прелестную пару; казалось, что это ангелы во плоти, всего лишь на несколько лет упредившие свой вечный союз на небесах. Свадьбу справили очень торжественно, и несколько дней спустя было устроено большое празднество в том самом обшитом панелями зале, который, как вы помните, показался вам очень мрачным. В тот вечер стены его были увешаны роскошными шпалерами, изображающими подвиги Сида
, а именно сожжение нескольких мавров, которые не захотели отречься от своей проклятой веры. На шпалерах этих было великолепно изображено, как их пытали, как они корчились и вопили, как из уст их вырывались крики: «Магомет! Магомет!», когда их жгли на костре, – вы как будто слышали все это сами. На возвышении под роскошным балдахином, на котором красовалось изображение Пресвятой Девы, восседала донья Изабелла де Кардоса, мать невесты, а возле нее на богато вышитых подушках – сама невеста, донья Инес; напротив нее сидел жених, и, хотя они ничего не говорили друг другу, две пары медленно поднимавшихся и стремительно опускавшихся глаз (глаз, которым свойственно смущаться) делились одна с другой своим упоительным и тайным счастьем.
Дон Педро де Кардоса пригласил на свадьбу дочери много гостей; в числе их оказался англичанин по имени Мельмот, путешествовавший по стране; никто не знал, кем он был приглашен. Он сидел, как, впрочем, и все остальные, в молчании, когда гостям подносили холодные напитки и обсахаренные вафли. Ночь была очень душной; полная луна горела, точно солнце над развалинами Сагунта
; вышитые занавеси на окнах тяжело колыхались, и казалось, что ветер все время пытается поднять их, а они противятся его силе…
(В рукописи был снова пробел, но на этот раз очень незначительный.)
* * *
Гости разбрелись по бесчисленным аллеям сада; по одной из этих аллей прогуливались жених и невеста; восхитительный аромат апельсиновых деревьев смешивался с запахом цветущих мирт. Вернувшись в зал, оба стали спрашивать собравшихся, слышали ли они удивительную музыку, звучавшую в саду перед тем, как им уйти оттуда. Но оказалось, что никто ничего не слышал. Их это удивило, и они сказали об этом гостям. Англичанин все это время не выходил из зала; говорят, что, услыхав эти слова, он улыбнулся необычной и странной улыбкой. Его молчание было замечено еще и раньше, но все приписали его незнанию испанского языка, обстоятельству, к которому сами испанцы, как правило, остаются равнодушны: они не подчеркивают его, когда им случается говорить с иностранцем, но вместе с тем и ничем не облегчают своему собеседнику его трудного положения. К разговору об удивительной музыке больше не возвращались до тех пор, пока все не уселись за ужин; в эту минуту донья Инес и ее юный супруг, обменявшись улыбкой, в которой сквозили удивление и восторг, воскликнули оба, что слышат те же самые восхитительные звуки. Гости прислушались, но ни один из них ничего не услышал, и каждый ощутил странность происходящего. «Тсс!» – произнесли все одновременно. В зале воцарилась мертвая тишина; в каждом взгляде чувствовалось такое напряжение, что можно было подумать, что все хотят вслушаться в наступившую тишину глазами. Это глубокое безмолвие никак не вязалось с великолепием празднества, и свет факелов, которые держали слуги, выглядел зловеще: временами можно было подумать, что в зале пируют мертвецы. Тишина эта была нарушена, хотя всеобщее удивление отнюдь не улеглось, когда появился отец Олавида, духовник доньи Изабеллы, которого еще до начала торжества вызвали в один из соседних домов напутствовать умирающего. Это был священник, известный своей праведной жизнью, которого любили в семье и уважали по всей округе, где он выказал особое рвение и искусство в изгнании злых духов. Действительно, ему это необыкновенно удавалось, и он этим гордился по праву. Дьяволу никогда не доводилось еще попадать в худшие руки. Если он оказывался настолько упрям, что не смирялся перед латынью и даже первыми стихами Евангелия от святого Иоанна по-гречески, к которым, надо сказать, отец Олавида прибегал только в тех особо трудных случаях, когда противник его проявлял крайнее упорство (здесь Стентон вспомнил историю английского мальчика из Билдсона
и даже теперь, в Испании, покраснел за своих соотечественников), – то священник этот непременно обращался за помощью к Инквизиции. И как ни были перед этим упорны дьяволы, все-таки они в конце концов вылетали из бесноватых, и как раз тогда, когда под их отчаянные выкрики (разумеется, кощунственные) людей этих привязывали к столбу, чтобы сжечь живыми. Были среди бесов и такие, которые не покидали своих жертв и тогда, когда их лизали уже языки пламени; но даже самые упорные должны были перебираться в другое место, ибо бесы не могут жить в куче золы, рассыпчатой и липкой. Таким образом, молва об отце Олавиде распространилась очень далеко, и семейство Кардоса было весьма заинтересовано в том, чтобы заполучить его в духовники, чего им и посчастливилось добиться.
После только что исполненного долга лицо доброго пастыря помрачнело, но мрачность эта рассеялась, как только он очутился среди гостей и был им представлен. Ему тут же нашли место за столом, и случайно он оказался как раз напротив англичанина. Когда ему поднесли вина, отец Олавида (который, как я уже говорил, был человеком исключительного благочестия) приготовился произнести про себя коротенькую молитву. Вдруг он замешкал, весь задрожал, а потом совершенно обессилел; поставив бокал на стол, он утер рукавом проступивший на лбу пот. Донья Изабелла сделала знак слуге, и ему тут же подали другое вино, высшей марки. Губы священника зашевелились, словно для того, чтобы благословить и поданное вино, и всех сидящих за столом, но ему это снова не удалось. Он так изменился в лице, что присутствующие это заметили. Он почувствовал, что обратил на себя внимание всех своим необычным видом, и еще раз попытался сгладить это тягостное впечатление и поднести бокал к губам. Все общество взирало на него с такой тревогой, что в этом наполненном людьми зале слышны были только шорохи его рясы, в то время как он сделал еще одну напрасную попытку выпить вино. Пораженные гости сидели молча. Стоял один только отец Олавида. В эту минуту сидевший напротив англичанин поднялся с места и, казалось, задался целью воздействовать на священника своим колдовским взглядом. Олавида зашатался, у него закружилась голова; он ухватился за плечо стоявшего сзади пажа и наконец, на мгновение зажмурив глаза, как бы для того чтобы уйти от страшных чар этого непереносимого света (все присутствующие заметили, что глаза англичанина с минуты его появления в зале излучали ужасный, неестественный блеск), воскликнул:
– Кто это среди нас? Кто? Я не в силах произнести слов благословения, пока он здесь. Я не чувствую благодати. Там, где он ступает, земля сожжена! Там, где он дышит, в воздухе вспыхивает огонь! Там, где он ест, яства становятся ядом! Там, куда устремляется его взгляд, сверкает молния! Кто это среди нас? Кто? – повторял священник, уже слабеющим голосом произнося последние слова заклинания; капюшон его откинулся назад, редкие волосы вокруг тонзуры пришли в движение от охватившего его ужаса, вытянутые руки, высунувшиеся из рукавов рясы, были простерты к незнакомцу и делали его похожим на охваченного страшным наитием прорицателя. Он все еще стоял, а англичанин спокойно стоял напротив него. Окружающие были охвачены волнением, и их смятенные позы резко контрастировали с суровой неподвижностью этих двух людей, в молчании воззрившихся друг на друга.
– Кто знает этого человека? – воскликнул Олавида, словно пробуждаясь от забытья. – Кто его знает? Кто его сюда привел?
Раздались голоса, заверяющие, что тот или другой знать не знают англичанина, и каждый шепотом спрашивал соседа: «Кто же все-таки привел его в дом?» Тогда отец Олавида, поочередно указывая на каждого из гостей, стал расспрашивать каждого в отдельности: «Вы знаете его?»
– Нет! Нет! Нет! – послышались решительные ответы.
– Ну а я его знаю, – сказал Олавида, – я узнаю его по этим холодным каплям, – и он вытер лоб, – по этим скрюченным суставам. – И он снова сделал попытку перекреститься, но не мог. Он возвысил голос и с большим трудом проговорил: – Но этому хлебу и вину, которые для исполненного веры суть плоть и кровь Христовы, но которые его присутствие превращает в нечто столь же нечистое, как пена на губах порешившего с собою Иуды; по всем этим признакам я узнаю его и заклинаю его сгинуть! Это… это… – При этих словах он наклонился вперед и посмотрел на англичанина взглядом, который был ужасен, оттого что в нем смешались ярость, ненависть и страх.
Все поднялись с мест, собравшиеся как бы разделились сейчас на две части: с одной стороны это были пришедшие в смятение гости и хозяева дома, которые все сбились вместе и спрашивали друг друга: «Кто же он, кто?», а с другой – стоявший недвижно англичанин и Олавида, который упал и, мертвый уже, все еще продолжал указывать на врага…
* * *
Тело священника вынесли в другую комнату, исчезновения англичанина никто даже не заметил до тех пор, пока все опять не вернулись в зал. Там все засиделись далеко за полночь, обсуждая необыкновенное происшествие, и в конце концов решили остаться до утра в доме, дабы злой дух (а они были убеждены, что англичанин не кто иной, как сам дьявол) не надругался над телом покойного, что было бы нестерпимо для ревностного католика, тем более что умер он без последнего напутствия. Едва только это похвальное решение было принято, как всех подняли на ноги крики ужаса и предсмертные хрипы, донесшиеся из спальни новобрачных.
Все кинулись к двери, и первым отец. Они распахнули ее, и глазам их предстала новобрачная, лежавшая бездыханной в объятьях своего юного супруга…
* * *
Рассудок к нему больше уже не вернулся; семья покинула замок, в котором ее постигло столько горя. В одной из комнат до сих пор живет несчастный безумец; это он кричал, когда вы проходили по опустевшим покоям. Бо?льшую часть дня он пребывает в молчании, но в полночь всякий раз начинает кричать пронзительным, душераздирающим голосом: «Идут, идут!» – после чего снова погружается в глубокое молчание.
Во время погребения отца Олавиды произошло нечто странное. Хоронили его в соседнем монастыре; доброе имя этого праведника и необычные обстоятельства, при которых он умер, привлекли на похороны много народа. Произнести надгробную проповедь поручили монаху, который славился своим красноречием. А для того чтобы придать больше убедительности его словам, покойника положили в боковом приделе на возвышении с непокрытым лицом. В основу проповеди своей монах положил слова одного из пророков: «Смерть вошла во дворцы наши». Он пространно говорил о смерти, чей приход, будь он стремителен или медлен, в равной мере ужасен для человека. Он вспоминал о превратностях судьбы – о крушении империй, и в словах его были и ученость, и сила, однако незаметно было, чтобы все это произвело особенное впечатление на слушателей. Он цитировал различные места из житий святых, где описываются исполненное славы мученичество и героизм тех, кто проливал кровь и горел в огне за Христа и Пресвятую Матерь Божью, но собравшиеся, казалось, ждали, что он скажет еще нечто другое, что растрогает их больше. Когда он грозно обрушился на тиранов, оставивших по себе память кровавыми преследованиями этих святых, слушатели его на какое-то мгновение словно очнулись от забытья, ибо всегда бывает легче пробудить в человеке страсть, нежели нравственное чувство. Но когда он заговорил о покойном и выразительно простер руку, указуя на лежавшее перед ним холодное и недвижное тело, все взгляды обратились на него и все насторожились. Даже влюбленные, которые, делая вид, что окунают пальцы в святую воду, умудрялись передавать друг другу записки, прервали на какое-то время свое увлекательное занятие и прислушались к словам проповедника. Он с большим жаром говорил о добродетелях покойного, утверждая, что тот находился под особым покровительством Пресвятой Девы, и перечислил все, что с его кончиной теряло братство, к которому он принадлежал, все общество в целом и христианская вера. Он даже разразился по этому поводу инвективою, обращенной к Богу.
– Господи, как Ты мог, – воскликнул он, – так поступить с нами? Зачем Ты отнял у нас этого великого праведника, ведь добродетелей его, если должным образом употребить их, несомненно хватило бы, чтобы искупить отступничество святого Петра, противодействие апостола Павла (до его обращения) и даже предательство самого Иуды! Господи, почему Ты отнял его у нас?
И вдруг из толпы глухой и низкий голос ответил:
– Потому что он этого заслужил.
Шепот одобрения, донесшийся со всех сторон, почти заглушил эти неожиданно прозвучавшие слова, и хотя среди тех, кто стоял ближе всех к человеку, который их произнес, и произошло некоторое замешательство, все остальные продолжали внимательно слушать.
– За что, – продолжал проповедник, указывая на мертвеца, – за что наказали тебя этой смертью, раб Божий?
– За гордость, невежество и страх, – ответил тот же голос, сделавшийся еще более страшным.
Смятение охватило теперь всех. Проповедник умолк, и в расступившейся толпе предстала фигура монаха того же монастыря…
* * *
После того как были испробованы все обычные способы – увещевания, внушения и взыскания – и местный епископ, которому доложили об этом чрезвычайном происшествии, прибыв в монастырь, потребовал, чтобы строптивый монах объяснил ему свое поведение, но так ничего и не добился, было решено предать виновного суду Инквизиции. Когда несчастному сообщили об этом, ужас его был безграничен, и он готов был снова и снова повторять все то, что может рассказать о смерти отца Олавиды. Но все его самоуничижение и повторные просьбы исповедовать его пришли слишком поздно. Его передали в руки Инквизиции. Существо процессов, которые ведет этот суд, редко становится известным, но имеются некие тайные сведения (за достоверность которых я не могу ручаться) касательно того, что он говорил на суде и какие пытки ему пришлось вынести. На первом допросе он обещал рассказать все, что может. Ему ответили, что этого недостаточно и что он обязан рассказать все, что знает…
* * *
– Почему ты пришел в такой ужас, когда хоронили отца Олавиду?
– Не было человека, который не испытал бы ужаса и тоски при виде смерти этого чтимого всеми священника, который оставил после себя добрую славу. Поступи я иначе, это могло бы служить доказательством моей вины.
– Почему ты прервал надгробное слово такими странными возгласами?
На вопрос этот не последовало ответа.
– Почему ты продолжаешь упорствовать и навлекаешь на себя опасность своим молчанием? Взгляни, заклинаю тебя, брат мой, на распятие, что висит на стене, – с этими словами инквизитор указал на большой черный крест, висевший позади кресла, на котором он сидел, – одна капля пролитой Им крови может смыть все грехи, какие ты когда-либо совершал; но вся эта кровь вместе с заступничеством Царицы Небесной и подвижничеством всех мучеников, больше того, даже отпущение, данное самим папой, не сможет избавить тебя от проклятия, которое тяготеет над нераскаявшимися грешниками.