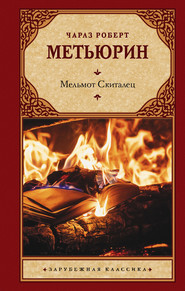По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мельмот Скиталец
Автор
Жанр
Год написания книги
1820
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Отец мой, я не хочу больше этого слушать. Обещайте мне, что вы никогда не станете понуждать моего брата принять монашество, если хотите, чтобы я обещал вам в будущем повиновение.
– Понуждать! Какое же может быть понуждение там, где речь идет о призвании, дарованном свыше.
– У меня нет в этом уверенности, но я хочу, чтобы вы обещали мне то, о чем я прошу.
Духовник колебался, но потом сказал:
– Хорошо, обещаю.
И он поспешил сообщить моему отцу, что я больше не противлюсь нашей встрече с тобой и что я в восторге от того, что, как мне стало известно, брат мой полон ревностного желания сделаться монахом. Так была устроена наша первая встреча.
Когда по приказанию отца руки наши сплелись в объятии, то, клянусь тебе, брат мой, я ощутил в них ту дрожь, которая говорит о любви. Но сила привычки вскоре подавила во мне естественные чувства, и я отшатнулся от тебя; собрав все силы, которыми наделила меня природа и которые во мне породила страсть, я постарался придать лицу своему выражение ужаса и с великой дерзостью выставил его напоказ родителям, а в это время духовник, стоя за их спиной, улыбался и делал мне знаки, которые должны были меня приободрить. Мне казалось, что я отлично сыграл свою роль, во всяком случае, сам я был доволен собой и удалился со сцены такими гордыми шагами, как будто стопы мои попирали простертый под ними мир, – тогда как в действительности я попирал ими голос крови и трепет сердца. Несколько дней спустя меня послали в монастырь. Духовника охватила тревога, когда он услыхал из моих уст тот непререкаемый тон, которому он сам же меня учил, и он настоял на том, чтобы на воспитание мое обратили особое внимание. Родители мои согласились со всеми его требованиями. Как это ни странно, согласился с ними и я; но когда меня посадили в карету и повезли в монастырь, я вновь и вновь повторял духовнику: „Помните, мой брат не станет монахом“».
Следовавшие за этим строки невозможно было прочесть, должно быть, писались они в большом смятении; порывистость и пылкий нрав моего брата передались его почерку. Пропустив несколько совершенно неразборчивых страниц, я смог различить следующие слова.
* * *
«Странно было подумать, что ты, который был предметом моей застарелой ненависти, после посещения монастыря возбудил во мне участие. Если раньше я принял твою сторону из одной только гордости, то теперь у меня уже были веские основания ее отстаивать. Сострадание, инстинкт – все равно что, но чувство это сделалось долгом. Когда я видел чье-либо презрительное обращение с людьми низших сословий, я говорил себе: „Нет, ему никогда не придется этого испытывать – это же мой брат“. Когда, занимаясь чем-либо, я делал успехи и меня за это хвалили, я с горечью думал: „Меня хвалят, а на его долю никогда не достанется похвалы“. Когда меня наказывали, что случалось гораздо чаще, я думал: „Он никогда не испытает этого унижения“. Воображение мое увлекало меня все дальше. Я верил, что в будущем сделаюсь твоим покровителем, мне казалось, что я смогу искупить несправедливость природы, оказать тебе помощь и возвеличить тебя, добьюсь того, что в конце концов ты признаешь сам, что обязан мне больше, чем родителям, что я кинусь к тебе без всякой задней мысли, с открытым сердцем, и мне ничего не надо будет взамен, никакой другой благодарности, кроме твоей любви. Я уже слышал, как ты называешь меня братом, я просил тебя не произносить этого слова и называть меня своим благодетелем. Гордый, великодушный и горячий от природы, я еще не окончательно освободился от влияния духовника, но всем моим существом, каждым порывом души уже тянулся к тебе. Может быть, причина этого лежит в особенностях моей натуры, которая неустанно боролась против всего, что пытались ей навязать, и с радостью вбирала в себя все то, что ей самой хотелось узнать, к чему ей самой хотелось привязаться. Не приходится сомневаться в том, что, как только во мне стали возбуждать ненависть к тебе, мне захотелось твоей дружбы. Твои кроткие глаза, их нежный взгляд постоянно преследовали меня в обители. На все предложения стать мне другом, исходившие от воспитанников монастыря, я отвечал: „Мне нужен брат“. В поведении моем появились резкость и сумасбродство, и в этом нет ничего удивительного: ведь совесть моя стала противодействовать заведенным привычкам. Иногда я исполнял все, чего от меня хотели, с таким рвением, которое заставляло тревожиться за мое здоровье; порою же никакая сила не могла заставить меня подчиниться повседневным монастырским правилам и никакое наказание меня не страшило.
Общине надоело терпеть мое упрямство, резкость и частые нарушения устава. Было написано письмо духовнику с просьбой удалить меня из монастыря, но, прежде чем он успел это сделать, я заболел лихорадкой. Меня окружили неослабным вниманием, но на душе у меня была тяжесть, и никакие заботы не могли облегчить моего положения. Когда в назначенные часы мне со скрупулезной точностью подносились лекарства, я говорил: „Пусть мне его даст мой брат, и будь это даже отрава, я готов принять ее из его рук. Я причинил ему много худого“. Когда колокол созывал нас на утреню или вечерню, я говорил: „Неужели они сделают моего брата монахом? Духовник обещал мне, что этого не случится, но ведь все вы – обманщики“. Кончилось тем, что они обернули язык колокола тряпкой. Услыхав его приглушенный звук, я воскликнул: „Вы звоните по покойнику, брат мой умер, и это я его убийца!“ Эти столь часто повторявшиеся восклицания, которых монахи никак не могли принять, приводили в ужас всю общину. Я был в бреду, когда меня привезли в отцовский дворец в Мадриде. Кто-то похожий на тебя сидел рядом со мной в карете, вышел из нее вместе со мной, когда мы приехали, помог мне, когда меня посадили туда снова. Я так живо ощущал твое присутствие, что часто говорил слугам: „Не трогайте меня, мне поможет брат“. Когда утром они спрашивали меня, как я спал, я отвечал: „Очень хорошо, Алонсо всю ночь сидел у моей постели“. Я просил ухаживающего за мной призрака не оставлять меня и, когда подушки были уложены так, как мне хотелось, говорил: „Какой у меня добрый брат, как он ухаживает за мной, только почему же он не хочет со мной говорить?“ На одной из остановок в пути я начисто отказался от всякой еды из-за того, что призрак, как мне чудилось, отказывался ее принять. Я говорил тогда: „Не заставляйте меня есть, видите, мой брат не принимает никакой пищи. О, я прошу его простить меня, сегодня у него день воздержания, поэтому он и не притрагивается к еде, смотрите, как он верен своим привычкам, – этого достаточно“. Самое удивительное, что еда в этом доме оказалась отравленной, и двое моих слуг умерли, так и не доехав до Мадрида. Я упоминаю об этих обстоятельствах для того только, чтобы показать, как крепко ты приковал к себе мое воображение и как сильна была моя любовь к тебе.
Как только ко мне вернулось сознание, первый же мой вопрос был о тебе. Родители мои это предвидели и, для того чтобы избежать объяснения со мной и последствий, которые оно могло иметь, ибо знали мой горячий нрав, поручили все это дело духовнику. Он взялся за него, а как он его выполнил, ты сейчас узнаешь. При первой же нашей встрече он принялся поздравлять меня с выздоровлением и сказал, что очень сожалеет о тех неприятностях, которые мне пришлось испытать в монастыре, заверив меня, что в родном доме меня ждет поистине райская жизнь. Какое-то время я выслушивал все, что он говорил, а потом вдруг спросил:
– Что вы сделали с моим братом?
– Он в лоне Господнем, – ответил духовник и перекрестился.
За мгновение я все понял. Не дослушав его слов, я кинулся вон из комнаты.
– Куда ты, сын мой?
– Я хочу видеть отца и мать.
– Отца и мать? Сейчас это невозможно.
– Но все-таки я их увижу. Не навязывайте мне своей воли, не срамите себя этим постыдным самоунижением, – сказал я, видя, что он сложил руки в мольбе, – все равно я увижу отца и мать. Проведите меня к ним сию же минуту, не то берегитесь, от вашего влияния на семью не останется и следа.
При этих словах он вздрогнул. Он боялся не того, что я могу повлиять на моих родителей, а моей ярости. Ему приходилось теперь пожинать плоды своих же собственных наставлений. Его воспитание сделало из меня человека порывистого и страстного, ибо ему все это было нужно для определенной цели, но он никак не рассчитывал, что дело примет иной оборот, что все чувства, которые он пробудил во мне, устремятся в направлении, противоположном тому, которое он хотел им придать. Он был уверен, что будет в силах распоряжаться ими и впредь. Горе тем, кто учит слона поражать своим хоботом врагов и в то же время забывает, что за один миг он может повернуть этот хобот назад и, сбросив седока в грязь, потом его растоптать. Именно в таком положении очутился и духовник по отношению ко мне. Я настаивал, чтобы меня немедленно отвели к моему отцу. Он противился нашей встрече, молил меня не настаивать на ней и, наконец, прибег к последнему безнадежному доводу – напомнил мне о том, сколько снисхождения он мне выказывал и как потворствовал всем моим желаниям. Ответ мой был коротким, но если бы только он мог проникнуть в душу таким наставникам и таким священникам! Это и сделало меня тем, что я есть теперь.
– Проведите меня сейчас же в комнату отца, иначе я надаю вам пинков и все равно заставлю вас это сделать!
Услыхав эту угрозу, которую, как он отлично понимал, я мог привести в исполнение, ибо я, как ты знаешь, силен и намного выше его ростом, – он задрожал от страха, и, признаюсь, это проявление физической и духовной немощи окончательно утвердило меня в презрении, которое я к нему испытывал. Весь согнувшись, провел он меня туда, где сидели отец и мать, – на балкон, выходивший в сад. Родители были уверены, что все уже уладилось, и изумлению их не было границ, когда я ворвался в комнату, а вслед за мною вошел духовник, по лицу которого можно было угадать, что разговор наш ни к чему не привел. Духовник сделал им знак, которого я не заметил, но который, однако, нисколько им не помог; за одно мгновение я очутился перед ними, и, увидев, что я смертельно бледен от снедавшей меня лихорадки и в то же время разъярен и, дрожа, бормочу что-то невнятное, они ужаснулись. Несколько раз они обращали к духовнику полные упреков взгляды, а он, по своему обыкновению, отвечал на них только знаками. Мне эти знаки были непонятны, но я за один миг заставил родителей понять, чего я от них хочу.
– Скажите, папенька, – спросил я, обращаясь к отцу, – правда ли, что вы заставили моего брата стать монахом?
Отец мой не знал, что ответить; наконец он сказал:
– Я считал, что духовник, которому это поручено, расскажет тебе все сам.
– Скажите, папенька, а какое право имеет духовник вмешиваться в отношения между отцом и сыном? Этот человек никогда не сможет сделаться отцом сам, у него никогда не может быть детей, так как же он может быть судьей в подобном вопросе?
– Ты совсем забылся. Ты забываешь о том, что следует уважать служителей церкви.
– Папенька, я ведь только что оправился от грозившего мне смертью недуга, моя мать и вы сами дрожали за мою жизнь, так вот, эта жизнь зависит от ваших слов. Я обещал этому негодяю повиновение при одном условии, и это условие он нарушил.
– Умей себя держать, – сказал мой отец, пытаясь придать голосу своему властность, что плохо ему удавалось, потому что губы его, произносившие эти слова, дрожали, – или выйди сию же минуту вон отсюда.
– Сеньор, – вкрадчиво сказал духовник, – я не хочу быть причиной раздора в семье, которую мне всегда хотелось видеть счастливой и честь которой я всегда отстаивал, ибо после нашей пресвятой церкви она мне дороже всего на свете. Пусть он говорит, память об Учителе моем, распятом на кресте, даст мне силы вынести его оскорбления. – Тут он перекрестился.
– Негодяй! – вскричал я, схватив его за рясу. – Обманщик, лицемер! – В эту минуту я был способен на все что угодно, но отец мой не позволил мне дать волю рукам. Моя мать была в ужасе, она громко вскрикнула, и поднялась невообразимая суматоха. В памяти моей остались только лицемерные возгласы духовника, который как будто старался помирить меня с отцом и просил, чтобы Господь вразумил и его, и меня. Он непрерывно повторял:
– Сеньор, прошу вас, не вступайтесь, я снесу любое поношение во имя Господне. – И, продолжая креститься, он взывал ко всем святым и восклицал: – Пусть все оскорбления, клевета и побои лягут на чашу весов небесных вместе со всеми заслугами, которые уже взвешены на этих весах, равно как и мои грехи.
И он еще осмеливался взывать к заступничеству святых, к чистоте непорочной Девы Марии и даже к пролитой крови и к мукам Иисуса Христа, перемежая все эти призывы лицемерным самоуничижением. Комната заполнилась слугами, сбежавшимися на крики. Мою мать, которая все еще продолжала кричать от ужаса, увели прочь. Отца, который очень ее любил, мое вызывающее поведение привело в бешенство – он выхватил тесак. Когда он стал приближаться ко мне, я вдруг засмеялся таким смехом, от которого кровь в нем похолодела. Я растопырил руки и, выставив грудь вперед, вскричал:
– Разите! Это будет достойным завершением монастырского произвола: он начался с насилия над человеческой природой, а кончается детоубийством. Разите! Пусть ваш удар принесет торжество и славу церкви и умножит заслуги его преподобия духовника. Вы уже принесли ей в жертву своего Исава, своего первенца, пусть же второй жертвой вашей станет теперь Иаков!
Отец подался назад и в ужасе от моего перекошенного от гнева и волнения лица, которое судорожно подергивалось, вскричал:
– Дьявол! – и, отойдя в другой угол комнаты, смотрел на меня, содрогаясь от ужаса.
– А кто сделал меня им? Он, тот, кто развивал во мне все дурные качества, чтобы использовать их в своих собственных целях; из-за того только, что братские чувства вызвали во мне порыв великодушия, он уже готов представить меня сумасшедшим или довести до безумия, для того чтобы достичь своей цели. Папенька, я вижу – все родственные чувства, все законы человеческой природы попраны этим хитрым и бессовестным священнослужителем. Это из-за него брата моего подвергли пожизненному заточению, это из-за него само рождение наше стало проклятием для нашей матери и для вас. Что принесло нам его вторжение в нашу семью и роковое влияние, которое он в ней приобрел, кроме раздора и бедствий? Вы только что направили на меня острие вашего тесака, так скажите – кто, природа или монах, вооружил отца против сына, единственным преступлением которого было то, что он заступился за родного брата? Прогоните же этого человека; от его присутствия черствеют наши сердца! Давайте поговорим с вами хотя бы несколько минут как отец с сыном, и, если я не смирюсь тогда перед вами, оттолкните меня от себя навсегда. Отец, ради всего святого, поглядите, сколь велико различие между этим человеком и мной. Мы оба стоим на пороге вашего сердца, так рассудите же нас. В душе его громоздится образ эгоистической власти, ничего не выражающий и сухой, но освященный церковью; а в моем обращении к вам говорит голос крови, и он не может не быть искренним, хотя бы потому, что, повинуясь ему, я пренебрегаю моими личными интересами. Он хочет одного – иссушить вашу душу, а мне хочется ее растрогать. Идут ли его речи от сердца? Пролил ли он хоть одну слезу? Сказал ли хоть одно искреннее слово? Он обращается к Богу, а я могу обращаться только к вам. Сама ярость моя, которую вы справедливо осуждаете, не только оправдывает меня, но и достойна похвалы. Тому, кто ставит дело, за которое он борется, выше всех личных выгод, нет нужды доказывать, что заступничество его искренне.
– Ты только усугубляешь свою вину тем, что хочешь переложить ее на другого; ты всегда был вспыльчивым, непокорным, строптивым.
– Да, но кто сделал меня таким? Спросите у него самого. Разберитесь в этой позорной комедии, где двоедушием своим он заставил меня играть такую роль.
– Если ты хочешь выказать покорность, докажи это прежде всего тем, что обещаешь никогда больше не терзать меня напоминанием об этом. Участь твоего брата решена – обещай мне никогда больше не произносить его имени и…
– Никогда! Никогда! – вскричал я. – Никогда не стану я насиловать свою совесть подобным обетом, и надо быть человеком совершенно бесстыдным и отверженным небесами, чтобы предлагать мне такое.
Произнося эти слова, я все же опустился на колени перед отцом, но он от меня отвернулся. В отчаянье я обратился к духовнику:
– Если вы истинный служитель небес, то докажите, что вы действительно посланы ими: водворите мир в смятенной семье, помирите отца моего с его обоими сыновьями. Вам достаточно произнести для этого одно слово, вы знаете, что это в вашей власти, но вы не станете этого делать. Мой несчастный брат не оказался таким непреклонным к вашим настояниям, но разве справедливость их может сравниться с моими?
Я так оскорбил духовника, что нечего было надеяться на прощение. И если я говорил, то лишь для того, чтобы разоблачить его, а отнюдь не убедить. Я не ждал, что он мне ответит, и он действительно не вымолвил ни слова. Я стал на колени между отцом и духовником.
– Хоть и отец, и вы оставили меня, – закричал я, – я не падаю духом и обращаю мою мольбу к небесам. Я призываю их в свидетели и говорю, что никогда не покину моего брата, которого вы преследуете и предать которого подбиваете меня. Я знаю, что сила на вашей стороне, – так вот, я бросаю ей вызов. Я знаю, нет такой хитрости, такого обмана, такого коварства, к каким вы не прибегнете, все злобные силы земли и преисподней будут брошены против меня. Призываю небеса в свидетели против вас и молю их об одном – помочь мне вас победить.
Отец мой потерял всякое терпение; он приказал слугам поднять меня с колен и вынести вон силой. Стоило ему заговорить о применении силы, столь ненавистной моей властной натуре, привыкшей располагать неограниченною свободой, как это роковым образом повлияло на мой рассудок, едва обретший ясность и подвергшийся столь тягостному испытанию в последней борьбе: у меня снова началось что-то вроде бреда.
– Папенька! – в исступлении вскричал я. – Знаете вы, сколько мягкости, великодушия и всепрощения в существе, которое вы так жестоко преследуете: я ведь обязан ему жизнью. Спросите ваших слуг, они подтвердят, что он ехал всю дорогу со мной и не покидал меня ни на минуту. Это он заботился о том, чтобы я вовремя ел, он давал лекарства и поправлял подушки, на которых я лежал!
– Ты бредишь! – вскричал отец, услыхав это ни с чем не сообразное утверждение, но сам тут же грозным испытующим взором посмотрел на слуг. Те, дрожа, все как один поклялись, как только можно было поклясться, что с тех пор, как я уехал из монастыря, они не подпускали ко мне ни одно живое существо. Когда я услыхал их клятвы – а каждое слово в них было сущею правдой, – разум окончательно оставил меня. Я назвал последнего из говоривших лжецом и даже дошел до того, что ударил тех, что стояли всего ближе ко мне. Эта вспышка бешенства ошеломила отца, и он вскричал:
– Он сошел с ума!
Духовник, который все это время хранил молчание, тут же подхватил это и повторил: