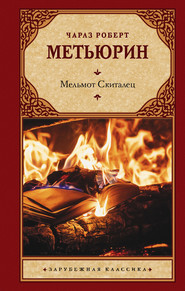По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мельмот Скиталец
Автор
Жанр
Год написания книги
1820
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сын мой, чтобы спасти человеческую душу, Господь совершал еще более великие чудеса.
Мы расстались, и я вернулся к себе в келью. Я не знаю, чем были заняты в ту ночь он и другие монахи, но перед утреней в монастыре поднялся такой шум, что можно было подумать, что весь Мадрид охвачен пожаром. Воспитанники, послушники и монахи сновали из кельи в келью, причем никто их не останавливал и ни о чем не спрашивал, – казалось, что всякому порядку настал конец. Ни один колокол не звонил, не слышно было никаких приказаний соблюдать тишину; казалось, что монастырские власти навсегда примирились со всем этим гомоном. Из окна моего я видел, как люди бегают во всех направлениях, обнимают друг друга, что-то громко восклицают, молятся, дрожащими руками перебирают четки и восторженно воздевают глаза к небу. Веселящийся монастырь – зрелище странное, противоестественное и даже зловещее. Я сразу же заподозрил что-то недоброе, однако сказал себе: «Худшее уже позади, второй раз сделать меня монахом они не могут».
Сомнения мои длились недолго. Я услышал множество шагов, приближавшихся к моей келье, множество голосов, повторявших: «Скорее, дорогой брат, беги скорее в сад!» Выбора для меня не было: меня окружили и почти силой вытащили из кельи.
В саду собралась вся община; там находился и настоятель, который не только не старался подавить общее смятение, но, напротив, как будто поощрял его. На лицах у всех была радость, а глаза как-то неестественно сверкали; но весь этот спектакль поразил меня своим лицемерием и фальшью. Меня повели или, вернее, потащили к тому самому месту, где я так долго сидел и разговаривал накануне вечером. Источник иссяк, и дерево засохло. Я был так поражен, что не мог вымолвить ни слова, а все вокруг меня повторяли: «Чудо! Чудо! Сам Господь избрал тебя и отметил своей печатью».
Настоятель сделал им знак замолчать. Спокойным голосом он сказал, обращаясь ко мне:
– Сын мой, от тебя хотят только одного – чтобы ты поверил в подлинность того, что ты видишь сейчас. Неужели ты усомнишься в собственных чувствах, вместо того чтобы поверить в могущество Господа нашего? Пади перед Ним сейчас же ниц и торжественно и благоговейно признай, что милость Его снизошла до чуда, дабы привести тебя ко спасению.
Все, что я увидел и услышал, не столько растрогало меня, сколько смутило, но я бросился перед всеми на колени, как мне было велено. Я сложил руки и воскликнул:
– Господи, если Ты действительно сотворил это чудо ради меня, то я верю, что Ты озаришь меня Своей благодатью и просветишь меня, чтобы я мог объять его разумом своим. Душа моя темна, но Ты можешь принести в нее свет. Сердце мое очерствело, но Твоя всемогущая сила может коснуться его и смягчить. Воздействие, которое Ты оказываешь на него в это мгновение, шепот, ниспосланный в его сокровенные глубины, – не меньшее благо, чем то действие, которое Ты оказал на предметы неодушевленные и которое ныне только повергает меня в смятение…
Настоятель прервал мою речь.
– Замолчи, ты не должен произносить таких слов, – сказал он, – сама вера твоя лжива, а молитва оскорбительна для Того, к чьей милости она собирается взывать.
– Отец мой, скажите, какие слова мне надлежит произнести, и я повторю их вслед за вами: пусть я даже не проникся убеждением, я во всяком случае вам повинуюсь.
– Ты должен попросить прощения у всей общины за оскорбление, которое ты нанес ей тем, что молча противился той жизни, к которой она призвана Господом.
Я исполнил то, что он требовал.
– Ты должен возблагодарить общину за ту радость, которую она выказала, когда свершилось чудо, подтвердившее истинность твоего призвания.
Я исполнил и это.
– Ты должен также выразить признательность Господу нашему за вмешательство высшей силы, которое нам дано было узреть и которое Он явил не столько для того, чтобы убедить людей в благости Своей, сколько для того, чтобы на веки вечные прославить обитель сию, которую Ему угодно было прославить и возвысить совершенным в ней чудом.
Некоторое время я колебался, но потом сказал:
– Отец мой, позвольте мне произнести эту молитву про себя.
Настоятель в свою очередь задумался; он решил, что не стоит требовать от меня слишком многого, и наконец сказал:
– Как тебе будет угодно.
Я продолжал стоять на коленях на земле возле дерева и источника. Теперь я простерся ниц, приник головой к земле и горячо молился про себя, окруженный всею братией, однако слова моей молитвы были совсем не похожи на те, каких они в эту минуту от меня хотели. Когда я поднялся с колен, не меньше половины всей братии подошли ко мне и стали меня обнимать. Иные из них действительно проливали слезы, однако исходили эти слезы уж во всяком случае не из сердца. От проявлений лицемерной радости страдает только сама жертва обмана, а лицемерная печаль унижает прежде всего того, кто ее разыгрывает.
Весь этот день превратился в какой-то сплошной праздник. Моления были сокращены, к обычной трапезе добавлены были сладости; каждому было позволено заходить в чужую келью, не испрашивая на то особого разрешения настоятеля. Подарки: шоколад, нюхательный табак, ледяная вода, ликеры и, что было всего приятнее и нужнее, салфетки и полотенца из тончайшей белоснежной камчатной ткани – раздавались всем. Настоятель затворился на полдня с двумя благоразумными братьями, как их принято называть (иначе говоря, с теми, кто избирается для совещаний с настоятелем из числа старых, ни на что не способных монахов, подобно тому, как папа Сикст
был избран, ибо его сочли глупым), для того чтобы подготовить достоверный отчет о свершившемся чуде, который предстояло разослать по главным монастырям Испании. Не было никакой надобности сообщать эту новость в Мадрид: там уже знали о чуде через час после того, как оно свершилось, – злые языки утверждают даже, что часом раньше.
Должен признаться, что радостная суета, наполнившая этот день, столь не похожая на все, что мне прежде доводилось видеть в обители, имела для меня самые неожиданные последствия. Я превратился в баловня, сделался героем празднества – а в монастырских празднествах есть всегда что-то нелепое и противоестественное, – мне, можно сказать, начали поклоняться. Да я и сам поддался общему опьянению, на какое-то время поверив, что я действительно избранник Божий. Я стал всячески возвеличивать себя в собственных глазах. Если такое самообольщение греховно, то я очень скоро искупил свой грех. На следующий же день водворился обычный порядок, и я убедился, что приведенная в смятение община может очень быстро вернуться к своей размеренной и строгой жизни.
Последовавшие за этим дни только подтвердили это убеждение. Монастырская жизнь подвержена частым колебаниям: сегодня щедро делаются те или иные поблажки, а назавтра восстанавливается самая жестокая дисциплина. Через несколько дней я получил разительное подтверждение того, что мое отвращение к монашеской жизни, несмотря на совершенное чудо, имело веские основания. Мне довелось узнать, что один из братии совершил какой-то мелкий проступок. По счастью, этот мелкий проступок совершил дальний родственник толедского архиепископа, и состоял он всего-навсего в том, что тот явился в церковь в пьяном виде (редкий среди испанцев порок), пытался стащить проповедника с амвона, а когда ему это не удалось, взобрался на алтарь, раскидал свечи, опрокинул сосуды и дароносицу и, точно дьявол когтями, принялся царапать висевший над престолом образ, бесстыдно при этом богохульствуя и даже произнося перед ликом Богоматери слова, повторить которые невозможно. Был созван совет. Можно себе представить, в каком смятении пребывала в это время монастырская братия. Все, кроме меня, были обеспокоены и взволнованы. Много было разговора о суде Инквизиции – ведь учинено было такое бесстыдство, такое непростительное святотатство, что и речи не могло быть о каком-либо снисхождении. Через три дня, однако, приказом архиепископа дело было приостановлено, и на следующее же утро совершивший кощунство юноша появился в зале иезуитов, где собрались настоятель и несколько монахов, прочел короткую епитимью, написанную одним из них на низменное слово Ebrietas[29 - Пьянство (лат.).], и отбыл из монастыря, для того чтобы занять прибыльное место в епархии родственника своего, архиепископа. А день спустя после этого позорного случая, обнаружившего потворство злу, обман и святотатство, один из монахов попался на том, что в неположенное время зашел в соседнюю келью вернуть взятую им книгу. В наказание за эту провинность его заставили три дня подряд во время трапез сидеть босым на каменном полу в вывернутой наизнанку рясе. Его заставили во всеуслышание признать себя виновным во всевозможных преступлениях, причем среди них были и такие, которых не следовало бы называть, и после каждого признания восклицать: «Господи, Ты справедливо меня наказал».
На другой день обнаружили, что нашлась добрая душа, которая подстелила ему коврик. Тотчас же волнение охватило весь зал. Несчастного обвинили в том, что он пытается уклониться от наказания, которое было для него равносильно смерти, – сидеть или, вернее, лежать на каменном полу. Должно быть, коврик этот ему принес из жалости кто-нибудь из монахов. Сразу же началось следствие. Юноша, которого я прежде не замечал, встал из-за стола и, опустившись на колени перед настоятелем, признал свою вину. Настоятель строго на него посмотрел, а потом удалился вместе с несколькими престарелыми монахами на совещание, дабы обсудить это новое преступление, а через несколько минут зазвонил колокол в напоминание о том, что все должны разойтись по кельям. Дрожа от страха, мы все удалились и, простертые у себя в кельях перед распятием, молились и думали о том, кто же теперь явится новой жертвой и каково будет наказание.
Юношу этого мне потом довелось видеть всего только раз. Это был отпрыск богатого и влиятельного рода, но никакое богатство не могло облегчить его участь и смягчить дурное мнение, которое сложилось о нем в монастыре, иначе говоря, у тех четырех монахов, людей строгих правил, с которыми настоятель совещался в тот вечер. Иезуиты любят заискивать перед людьми сильными, но еще больше – быть сильными сами. Совещание пришло к выводу, что виновник должен быть подвергнут в их присутствии унизительному для него покаянию. Ему объявили это решение, и он подчинился. Он повторил вслед за ними слово в слово все, что они заставили его сказать.
Потом он снял рубаху и принялся хлестать себя бичом по голым плечам до тех пор, пока кровь не полилась ручьями, повторяя после каждого удара: «Господи, прости меня за то, что я посмел чем-то помочь брату Павлу и облегчить его участь, в то время как он нес заслуженное им наказание».
Он исполнил все, что от него требовали, втайне все же надеясь, что при первом удобном случае снова постарается чем-нибудь помочь брату Павлу и выручить его. Он был уверен тогда, что наказание этим и ограничится. Ему велели вернуться в келью. Он ушел к себе, однако монахи не удовлетворились произведенным ими расследованием. Они давно уже подозревали брата Павла в распущенности и рассчитывали получить подтверждение этого от юноши, участие которого в судьбе несчастного только укрепило их подозрения. Все человеческие чувства в монастыре принято считать пороками. Только юноша этот лег в постель, как они снова окружили его. Они сказали, что явились по распоряжению настоятеля, для того чтобы наложить на него новое покаяние, которое будет длиться до тех пор, пока он не признается, что? побуждает его принимать такое горячее участие в судьбе брата Павла. Напрасно он восклицал: «У меня нет к нему никакого другого влечения, кроме сочувствия и сострадания!» Слов этих они не могли понять. Напрасно он просил: «Я приму любую епитимью, которую настоятелю будет угодно на меня наложить, но плечи мои все еще в крови». И он показывал свои кровоточащие раны. Истязатели не знали жалости. Его вытащили из кровати и стали хлестать бичом с такой яростью, что наконец, совсем обезумев от стыда, отчаяния и боли, он вырвался из их рук и кинулся бежать по коридору, взывая о помощи и прося пощады. Монахи все были у себя в кельях; ни один из них не осмелился вмешаться; они только вздрогнули и повернулись на другой бок на своих соломенных постелях.
Это был канун дня святого Иоанна Богослова, и мне было приказано провести то, что в монастырях называют «часом размышления о грехах», в церкви. Я повиновался этому приказанию и лежал простертый, припав лицом и телом к мраморным ступенькам алтаря и уже ничего почти не ощущая от усталости, когда вдруг услышал, что часы бьют двенадцать. Тут я увидел, что назначенный час истек, а я так ни о чем и не поразмыслил. «И так вот всегда, – подумал я, поднимаясь с колен, – сами они сначала лишают меня возможности думать, а потом требуют, чтобы я размышлял о своих грехах».
Идя по коридору, я услышал страшные крики и содрогнулся. Вдруг навстречу мне метнулось какое-то привидение. «Satana vade retro, apage Satana!»[30 - Отойди, Сатана, прочь от меня, Сатана (лат.).]
– вскричал я, бросившись на колени. Голый, истекавший кровью человек пронесся мимо меня, неистово крича от ярости и боли. За ним гнались четверо монахов со свечами в руках. Я запер дверь в конце коридора, сообразив, что они должны будут еще вернуться и снова пробежать мимо меня: я все еще стоял на коленях и дрожал от головы до ног. Несчастный добежал до двери, увидел, что она заперта, и, собравшись с силами, остановился. Я обернулся: глазам моим предстала группа, достойная того, чтобы ее изобразил Мурильо
. Несчастный юноша отличался на редкость красивым телосложением. Поза его выражала отчаяние, потоки крови струились по его телу. Монахи, в своих черных рясах, со свечами в руках, держали наготове бичи и походили то ли на скопище дьяволов, которым удалось захватить заблудшего ангела, то ли на фурий, которые преследуют обезумевшего Ореста
. И в самом деле, даже среди творений древних скульпторов нельзя было найти фигуры, которая изяществом своим и совершенством форм могла бы сравниться с той, которую они сейчас так варварски истязали. Как ни был мой дух угнетен тем, что все способности столько времени во мне подавлялись, зрелище это было так жестоко, что мгновенно его пробудило. Я кинулся защищать несчастного, ввязался в борьбу с монахами, и при этом у меня вырвались какие-то слова; сам я начисто их забыл, но зато они потом припомнили их во всех подробностях, какие способна воскресить в человеческой памяти злоба, и преувеличили все, как только могли.
Не помню уж, что было потом, но в конце концов меня на целую неделю заперли в келью за то, что я столь дерзко нарушил монастырскую дисциплину. А на несчастного послушника, воспротивившегося этой дисциплине, было наложено дополнительное покаяние, такое суровое, что от стыда и всех мук он потерял рассудок. Он стал отказываться от пищи, не мог уснуть и умер через неделю после ночи истязаний, свидетелем которых я стал. Это был юноша на редкость мягкий и обходительный; он увлекался литературой, и даже монашеское обличие не могло скрыть изысканную прелесть всего его существа и манеры себя держать. Как бы украсили его эти качества, живи он в свете! Пусть даже свет мог употребить их во зло и извратить их, но разве привело бы все это к такому страшному и трагическому исходу? Могло ли быть, чтобы мирская жизнь довела его сначала до безумия, а потом обрекла на гибель? Похоронили его в монастырской церкви, и надгробное слово произнес сам настоятель. Да, настоятель! Тот, кто приказал или разрешил и уж во всяком случае допустил, чтобы он был доведен до безумия, добиваясь, чтобы он признался в низменных побуждениях, которых на самом деле у него никогда не было.
Во время всей этой ханжеской церемонии отвращение мое возросло до крайних пределов. Если раньше я испытывал неприязнь к монастырской жизни, то теперь я ее презирал; каждому, кто знает человеческую натуру, известно, что искоренить это чувство гораздо труднее, нежели обычную неприязнь. Недолго мне пришлось ждать, чтобы оба эти чувства проявились еще раз. Стояло очень жаркое лето, и началась эпидемия, которая проникла в стены монастыря: каждый день двоих или троих отправляли в больницу, а ухаживать за больными поручалось поочередно тем, кто должен был искупать покаянием разные мелкие провинности. Мне очень хотелось попасть в их число; я даже решил, что непременно совершу какой-нибудь легкий проступок, дабы навлечь на себя это наказание, которое в моих глазах было самой высокой наградой. Признаться ли вам, сэр, почему именно я этого добивался? Мне хотелось знать, какими становятся эти люди, когда в силу обстоятельств им приходится скинуть личину, которую они носят в монастыре, когда вызванные недугом страдания и приближение смерти вырывают у них полные откровенности признания. Я втайне предвкушал, что в предсмертной исповеди своей каждый из них признается в том, что обманным путем хотел завлечь меня, будет раскаиваться в причиненном мне зле и что немеющие уже губы будут молить меня о прощении… и мольба их не окажется тщетной.
Желанию этому, хоть и вызванному жаждой возмездия, можно было все же найти оправдание; однако вскоре я был избавлен от необходимости что-то делать, чтобы оно осуществилось. В тот же самый вечер настоятель прислал за мной и распорядился, чтобы я ухаживал за больными, освободив меня от обязанности посещать вечернюю службу. На первой кровати, к которой я подошел, оказался брат Павел. Он так и не поправился от последствий недуга, сразившего его в то время, как он нес свое покаяние; кончина молодого послушника, которого так безжалостно и незаслуженно истязали, окончательно его сразила.
Я пытался заставить его принять лекарства, удобнее уложить его в постели. Никто за ним не ухаживал. Он отказался и от того и от другого и слабым движением руки отстранил меня, сказав:
– Дайте мне хотя бы умереть спокойно.
Немного погодя он открыл глаза и узнал меня. По лицу его пробежала едва заметная улыбка: он ведь помнил, с каким участием я относился к его несчастному другу.
– Так это ты? – спросил он едва слышным голосом.
– Да, брат мой, это я. Скажи мне, могу ли я хоть чем-нибудь облегчить твою участь?
Он долго молчал, а потом вдруг ответил:
– Да, можешь.
– Так скажи мне как.
Голос его, и до этого едва слышный, почти совершенно замер, и он прошептал:
– Не подпускай никого из них ко мне, когда я буду умирать, тебе не придется долго со мной возиться, час этот близок.
Я крепко сжал его руку в знак того, что обещаю ему это сделать. Но я почувствовал, что в этой просьбе умирающего таится что-то ужасное и вместе с тем неподобающее.
– Милый брат мой, ты, значит, чувствуешь, что скоро умрешь? Так неужели же ты не хочешь, чтобы вся община за тебя помолилась? Неужели ты отказываешься от благодати – от последнего причащения?
В ответ он только покачал головой, и боюсь, что я слишком хорошо его понял.