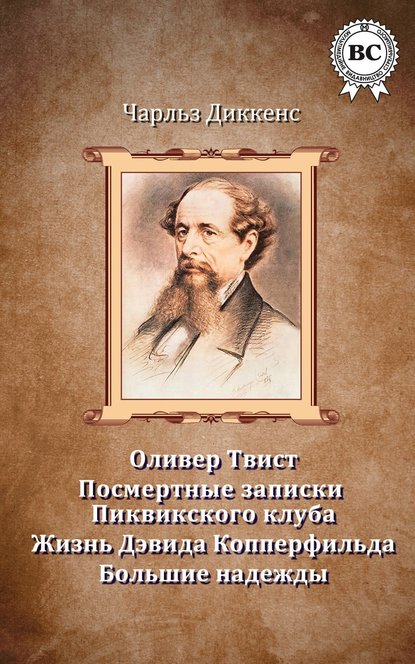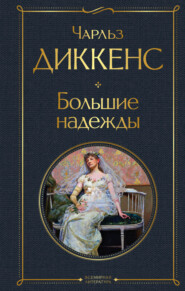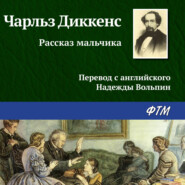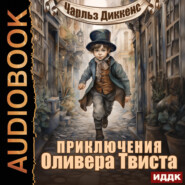По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сочинения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Он и в самом деле прятался с той поры? – спросил я.
– Безусловно прятался! – заявил мистер Дик, важно кивая головой. – И не показывался до вчерашнего вечера. Мы гуляли вчера вечером, а он снова появился за ее спиной, и я его узнал.
– И он снова испугал бабушку?
– Она задрожала от страха. Вот так! – Мистер Дик изобразил, как она задрожала, и заляскал зубами. – Ухватилась за ограду. Заплакала – И вот еще что… Тротвуд, подойди поближе… – Он притянул меня к себе и чуть слышно зашептал: – Почему, мой мальчик, она дала ему денег?
– Может быть, это был нищий?
Мистер Дик решительно покачал головой, отвергая такое предположение. И, повторив несколько раз очень убежденно: «Нет, не нищий, сэр, нет, не нищий», – рассказал еще о том, что поздно вечером он видел из своего окна, как бабушка снова, при свете луны, дала этому человеку деньги за садовой оградой, и он улизнул – должно быть, опять спрятался под землей, как полагал мистер Дик, – и больше не показывался. А бабушка быстро, но стараясь не шуметь, вернулась домой и даже сегодня утром была сама не своя, что весьма волновало мистера Дика.
В начале этого рассказа у меня не было ни малейших сомнений в том, что сей неизвестный является лишь плодом фантазии мистера Дика и подобен тому злосчастному монарху, который причинял ему столько хлопот; но после некоторых размышлений я стал опасаться, не пытался ли кто-нибудь дважды (или угрожал попытаться) вырвать бедного мистера Дика из-под защиты бабушки и не вынуждена ли была она, питавшая к нему такую сильную привязанность, – о чем я знал от нее самой, – откупиться деньгами, чтобы сберечь его мир и покой. К тому времени я искренне привязался к мистеру Дику и был озабочен его судьбой, а потому боязнь потерять его укрепляла такое предположение; и в течение многих недель ни одна среда, когда он обычно приезжал, не проходила без того, чтобы я не беспокоился, увижу ли я его, как обычно, на крыше кареты. Но он неизменно оказывался там, седовласый, оживленный, сияющий, и больше нечего было ему рассказать мне о человеке, которому удалось испугать мою бабушку.
Эти среды были счастливейшими днями в жизни мистера Дика, и едва ли они были менее счастливыми для меня. Скоро он перезнакомился в школе со всеми мальчиками и хотя не принимал никогда деятельного участия в наших забавах и только запускал с нами змей, но питал глубокий интерес к нашим играм – ничуть не меньше любого из нас. Как часто он следил, не отрывая глаз и затаив дыхание, за нашей игрой в кубарь или в шарики! Как часто, взобравшись на какой-нибудь холмик, когда мы играли в зайца и гончих, он подбадривал нас криками и размахивал шляпой над своей седой головой, совсем забыв о голове короля Карла Мученика и обо всем, что с ней связано! Сколько летних часов промелькнули для него на крикетной площадке, промелькнули как минуты! Сколько раз в зимние дни, когда мальчики катались с гор, он стоял с посиневшим от холода и восточного ветра носом и в восторге хлопал руками в шерстяных перчатках!
Он был общим любимцем, и его умение делать разные мелкие вещицы казалось непостижимым. Он мог разрезать апельсин так замысловато, как никому из нас и в голову не приходило. Он мог сделать лодку из чего угодно, чуть ли не из спицы. Он превращал коленные чашки животных в шахматные фигуры, сооружал римские колесницы из старых игральных карт, мастерил из катушек колеса со спицами и птичьи клетки из старой проволоки. Но, пожалуй, самое замечательное мастерство он обнаруживал, когда брался за бечевку и солому, из которых, по нашему общему убеждению, мог соорудить решительно все, на что способны человеческие руки.
Слава мистера Дика недолго ограничивалась пределами нашего круга. После нескольких сред сам доктор Стронг расспросил меня о нем, я ему сообщил все сведения, полученные мною от бабушки, и это так заинтересовало доктора, что он просил меня познакомить их в ближайшую же среду. Я совершил эту церемонию, и доктор пригласил мистера Дика приходить в школу всякий раз, когда я не встречал его в конторе почтовых карет, и отдыхать, пока мы не кончим наших утренних занятий; скоро у мистера Дика вошло в привычку направляться прямо к школе и, если мы задерживались, что случалось по средам нередко, гулять по двору в ожидании меня. Здесь он познакомился с красивой молодой женой доктора (теперь она была более бледна, чем раньше, менее весела, но не менее красива; я, да, кажется, и все мы видели ее реже) и постепенно все больше осваивался со школой, пока, наконец, не начал заходить в класс, где и ждал меня. Он всегда усаживался в одном и том же уголке, на одном и том же стуле, который прозвали в честь него «Дик»; здесь он сидел, опустив седую голову и внимательно прислушиваясь ко всему, о чем бы ни шла речь, с глубоким благоговением к наукам, которые никогда не мог постичь.
Это благоговение мистер Дик простирал и на доктора, которого он считал самым глубоким и непревзойденным философом всех времен. Только спустя некоторое время он решился разговаривать с ним, не снимая шляпы, но даже тогда, когда они подружились и совместно прогуливались во дворе по боковой дорожке, которая называлась у нас «Аллея доктора», – даже тогда мистер Дик время от времени снимал шляпу, чтобы засвидетельствовать свое уважение к мудрости и наукам. Не знаю, как случилось, что во время этих прогулок доктор стал читать вслух отрывки из знаменитого словаря; быть может, сначала ему казалось, будто это все равно, что читать самому себе. Но эти чтения вошли в привычку, а мистер Дик слушал с лицом, сияющим от гордости и удовольствия, и в глубине души твердо верил, что словарь – самая увлекательная книга на свете.
Когда я думаю о них, прогуливающихся взад и вперед под окнами классной комнаты. – о докторе, о том, как время от времени он помахивает листами рукописи, сопровождая чтение любезной улыбкой или важным покачиваньем головы, и о мистере Дике, который внимает чтению как зачарованный, тогда как его бедный разум витает на крыльях непонятных слов бог весть где, – когда я думаю о них, это зрелище представляется мне одним из самых умилительных, которые я когда-либо наблюдал. Мне кажется, что, если бы они могли вечно прогуливаться взад и вперед, мир стал бы лучше и что тысячи вещей, о которых так много шумят, приносят меньше пользы и миру и мне, чем эти прогулки мистера Дика и доктора.
Очень скоро и Агнес подружилась с мистером Диком; часто бывая у меня дома, он познакомился и с Урией Хипом. Дружба между мной и мистером Диком крепла, но зиждилась на довольно странных основах: считаясь моим опекуном и приезжая в этом своем звании проведать меня, он всегда советовался со мной по всем вопросам, которые его смущали, и неукоснительно следовал моим советам, так как не только питал глубокое уважение к моей врожденной рассудительности, но и полагал, будто я многое унаследовал от своей бабушки.
В один из четвергов, когда я собирался проводить мистера Дика из гостиницы в контору наемных карет, а потом вернуться в школу (у нас был один урок до завтрака), я встретил на улице Урию, который напомнил мне о своем обещании зайти как-нибудь и выпить чайку с ним и его матерью, при этом он, извиваясь, добавил:
– Но разве я могу надеяться, мистер Копперфилд, что вы исполните обещание, – ведь мы люди ничтожные, смиренные.
Я все еще не мог решить, приятен мне Урия, или противен; колебался я и тогда, остановившись на улице и глядя ему в лицо. Но мне показалось очень обидным, как это он мог заподозрить меня в гордыне, и я ответил, что дожидался только приглашения.
– О! Если дело только за этим? мистер Копперфилд, и наше ничтожество и смирение не мешает вам нас посетить, милости прошу пожаловать сегодня вечером. Но если наше ничтожество является для вас препятствием, мистер Копперфилд, надеюсь, вы не будете это скрывать? Ведь мы прекрасно понимаем свое положение…
Я сказал, что поговорю с мистером Уикфилдом, и если он возражать не будет, в чем я не сомневаюсь, то я с удовольствием приду. В тот же вечер, в шесть часов, – это был один из тех вечеров, когда работа в конторе кончалась раньше, – я заявил Урии, что готов идти.
– Моя мать возгордится. Вернее, она возгордилась бы, не будь это грешно, юный мистер Копперфилд, – сказал Урия, когда мы отправились в путь.
– Однако сегодня утром вы преспокойно решили, что я могу возгордиться, – заметил я.
– О нет, мистер Копперфилд! Поверьте мне, нет! Такая мысль даже не приходила мне в голову! Я и не думал бы, что вы возгордились, если бы вы считали нас слишком ничтожными для себя. Ведь мы и в самом деле люди маленькие и смиренные.
– Вы давно изучаете юридические науки? – спросил я, желая переменить разговор.
– Что вы, мистер Копперфилд! Разве можно назвать изучением чтение книг! – потупившись, сказал Урия. – Часок-другой я иногда провожу по вечерам с мистером Тиддом, вот и все.
– Трудновато приходится? – спросил я.
– Для меня он иногда бывает трудноват. Но не знаю, каким показался бы он способному человеку, – ответил Урия.
Тут он отбарабанил на ходу двумя пальцами скелетообразной руки по своему подбородку несколько тактов какой-то песенки и добавил:
– Знаете ли, мистер Копперфилд, там, у мистера Тидда, есть латинские слова и термины, которые очень затруднительны для читателя с такими ничтожными познаниями, как у меня.
– Вам хотелось бы научиться латыни? – живо спросил я. – Я с удовольствием научил бы вас тому, что я сам знаю.
– О, благодарю вас, мистер Копперфилд! – сказал он, помотав головой. – С вашей стороны очень любезно сделать такое предложение… Но я человек слишком маленький, чтобы принять его…
– Какой вздор, Урия!
– О! Прошу прощения, мистер Копперфилд! Я бесконечно вам благодарен, это было бы таким для меня удовольствием! Но я человек слишком ничтожный и смиренный… И без того есть немало людей, которые не прочь попирать меня ногами в моем ничтожестве, а тут я еще буду оскорблять их чувства своей образованностью. Образование не для меня. Такому, как я, лучше не заноситься высоко. Добиваясь чего-нибудь в жизни, мистер Копперфилд, он должен всего добиваться смирением.
Я никогда еще не видел, чтобы рот у него был так растянут, а складки на щеках так глубоки, как в эти минуты, когда он излагал свои убеждения, покачивая все время головой и униженно извиваясь.
– Мне кажется, вы не правы, Урия, – сказал я. – Уверен, что я мог бы вас кое-чему научить, если бы вы захотели учиться.
– О! Я в этом не сомневаюсь, мистер Копперфилд. Ничуть не сомневаюсь! – ответил он. – Но вы занимаете такое положение, что не можете судить о маленьких, ничтожных людях. Нет, благодарю вас, я не смею оскорблять своим образованием тех, кто выше меня. Для этого я слишком ничтожный и смиренный человек. А вот и мое убогое жилище, юный мистер Копперфилд!
Мы вошли прямо с улицы в низкую, старомодную комнату, где находилась миссис Хип, которая являлась точной копией своего сына, но была ниже его ростом. Она встретила нас с чрезвычайным смирением и, целуя сына, принесла извинения, добавив, что, хотя они люди ничтожные, но и им свойственны родственные чувства, которые, как они надеются, никого оскорбить не могут. Комната, – не то гостиная, не то кухня, – была вполне приличная, но неуютная. На столе стоял чайный прибор, а над огнем камелька закипал чайник. Был там комод с пюпитром для Урии, на котором он мог читать и писать по вечерам, на полу валялся синий мешок Урии, изрыгавший документы, лежала стопка книг Урии во главе с мистером Тиддом; шкаф для посуды стоял в углу; в комнате находилась и кое-какая другая мебель. Я не помню, чтобы отдельные предметы казались жалкими, негодными к употреблению и заявляли о скудости средств, но помню, что об этом свидетельствовала вся обстановка в целом. Траур, который до сей поры носила миссис Хип, должен был возвещать о ее смирении. Несмотря на длительное время, протекшее со дня кончины мистера Хипа, она еще не сняла траура; мне показалось, что она сделала только одну уступку – надела другой чепчик, но в остальном ее траурное одеяние не претерпело никаких изменений с первых дней вдовства.
– Этот день, Урия, когда мистер Копперфилд нас посетил, должен быть нам памятен, – сказала миссис Хип, приготовляя чай.
– Я говорил, мамаша, что вы так и подумаете, – произнес Урия.
– Если бы от моего желания зависело продлить жизнь твоего отца, – сказала миссис Хип, обращаясь к сыну, – я хотела бы, чтобы сегодня ради такого гостя он был с нами.
Я был смущен этими комплиментами, но вместе с тем польщен, что меня принимают как почетного гостя, и миссис Хип показалась мне очень приятной женщиной.
– Мой Урия давно мечтал об этом, сэр, – продолжала миссис Хип. – Но он боялся, как бы вас не остановило скромное наше положение, и я разделяла его опасения. Мы люди маленькие, ничтожные, такими мы всегда были, такими и останемся.
– Мне кажется, у вас нет никаких оснований считать себя маленькими и ничтожными, разве что вам это нравится, – сказал я.
– Благодарю вас, сэр, – отозвалась миссис Хип. – Мы ведь понимаем наше положение и умеем быть благодарными.
Постепенно миссис Хип придвинулась ко мне поближе, а Урия постепенно передвинулся к стулу напротив меня, а затем они оба начали почтительно меня угощать, предлагая самое вкусное, что было на столе. Впрочем, надо сказать, на столе не было ничего особенно вкусного, но важно благое намерение, и я не остался равнодушен к их вниманию. Беседа зашла о бабушках; тут я рассказал о своей; перешли на родителей; тут я рассказал о своих; затем миссис Хип заговорила об отчимах; тут я стал говорить о своем, но осекся, вспомнив, что бабушка советовала мне об этом молчать. Но слабенькая пробочка так же могла устоять против двух пробочников, детский зуб – против двух дантистов и крохотный волан – против двух ракеток, как мог устоять я против Урии и миссис Хип. Они делали со мной все, что хотели, они вытягивали из меня то, о чем я решительно не желал говорить, и проделывали это с легкостью, о которой мне стыдно вспоминать, – тем более, что в своей детской наивности я ставил себе в заслугу такой доверительный тон и почитал себя патроном обоих почтительных моих собеседников.
Несомненно, они очень любили друг друга. И эта любовь производила на меня впечатление, так как была безыскусна; но та ловкость, с какой один из них подхватывал брошенную другим нить разговора, была столь искусна, что перед ней я оказывался еще более беспомощным. Когда уже больше ничего нельзя было вытянуть из меня обо мне самом (о своем пребывании у «Мэрдстона и Гринби» и о своем бегстве оттуда я все-таки не проронил ни слова), разговор перешел на мистера Уикфилда и Агнес. Урия швырял мяч миссис Хип, миссис Хип ловила и посылала назад Урии, Урия задерживал его на некоторое время и потом бросал снова миссис Хип, и они перебрасывались им до той поры, покуда я перестал соображать, у кого этот мяч, и совсем растерялся. Да и сам мяч все время менялся. То это был мистер Уикфилд, то Агнес, то достоинства мистера Уикфилда или мое восхищение Агнес, то деловой размах мистера Уикфилда и его доходы или наше времяпрепровождение после обеда, то вино, которое пьет мистер Уикфилд, причина, почему он пьет, и сожаление, что он пьет так много, – словом, говорили то об одном, то о другом, то обо всем сразу; и все это время, как будто мало участвуя в разговоре и только подбадривая их из беспокойства, как бы они не сникли от сознания своего ничтожества и той чести, какую я им: оказывал своим присутствием, я без конца выбалтывал то, о чем не следовало болтать, и наблюдал последствия своей болтливости, глядя, как раздуваются и сжимаются ноздри Урии.
Мне становилось не по себе и хотелось положить конец этому визиту, как вдруг какой-то человек, шедший по улице, – погода стояла теплая не по сезону, и дверь была открыта, чтобы проветрить душную комнату, – прошел мимо, вернулся, заглянул в комнату, затем вошел с громким возгласом:
– Копперфилд! Да может ли это быть!
Это был мистер Микобер! Это был мистер Микобер со своим моноклем, тростью, высоким воротничком, мистер Микобер, изящный, с благосклонно журчащим голосом – словом, он сам, собственной персоной!
– Дорогой мой Копперфилд! – воскликнул мистер Микобер, протягивая мне руку. – Вот поистине встреча, которой надлежало бы внушить нашему разуму мысль о неопределенности и превратности всего человеческого… одним словом, замечательная встреча! Я иду по улице, размышляю о том, улыбнется ли счастье (как раз в данный момент у меня есть основания надеяться на это), и вот внезапно счастье улыбнулось – я натыкаюсь на юного, но дорогого мне друга, с которым связан наиболее чреватый событиями период моей жизни, смею сказать – поворотный пункт моего бытия! Копперфилд, дорогой мой, как вы поживаете?
Я отнюдь не мог сказать, что встреча здесь с мистером Микобером меня обрадовала, но я также был рад его видеть, от всей души пожал ему руку и осведомился, как поживает миссис Микобер.
– Благодарю! – произнес мистер Микобер, помахивая, как и в былые времена, рукой и погружая подбородок в воротничок сорочки. – Она набирается сил. Близнецы уже не получают пропитания из источников Природы, – сообщил мистер Микобер в порыве откровенности, – одним словом, их отлучили от груди, и нынче миссис Микобер сопровождает меня. Она будет в восхищении, Копперфилд, возобновить знакомство с тем, кто во всех отношениях был достойным жрецом у священного алтаря дружбы!
– Безусловно прятался! – заявил мистер Дик, важно кивая головой. – И не показывался до вчерашнего вечера. Мы гуляли вчера вечером, а он снова появился за ее спиной, и я его узнал.
– И он снова испугал бабушку?
– Она задрожала от страха. Вот так! – Мистер Дик изобразил, как она задрожала, и заляскал зубами. – Ухватилась за ограду. Заплакала – И вот еще что… Тротвуд, подойди поближе… – Он притянул меня к себе и чуть слышно зашептал: – Почему, мой мальчик, она дала ему денег?
– Может быть, это был нищий?
Мистер Дик решительно покачал головой, отвергая такое предположение. И, повторив несколько раз очень убежденно: «Нет, не нищий, сэр, нет, не нищий», – рассказал еще о том, что поздно вечером он видел из своего окна, как бабушка снова, при свете луны, дала этому человеку деньги за садовой оградой, и он улизнул – должно быть, опять спрятался под землей, как полагал мистер Дик, – и больше не показывался. А бабушка быстро, но стараясь не шуметь, вернулась домой и даже сегодня утром была сама не своя, что весьма волновало мистера Дика.
В начале этого рассказа у меня не было ни малейших сомнений в том, что сей неизвестный является лишь плодом фантазии мистера Дика и подобен тому злосчастному монарху, который причинял ему столько хлопот; но после некоторых размышлений я стал опасаться, не пытался ли кто-нибудь дважды (или угрожал попытаться) вырвать бедного мистера Дика из-под защиты бабушки и не вынуждена ли была она, питавшая к нему такую сильную привязанность, – о чем я знал от нее самой, – откупиться деньгами, чтобы сберечь его мир и покой. К тому времени я искренне привязался к мистеру Дику и был озабочен его судьбой, а потому боязнь потерять его укрепляла такое предположение; и в течение многих недель ни одна среда, когда он обычно приезжал, не проходила без того, чтобы я не беспокоился, увижу ли я его, как обычно, на крыше кареты. Но он неизменно оказывался там, седовласый, оживленный, сияющий, и больше нечего было ему рассказать мне о человеке, которому удалось испугать мою бабушку.
Эти среды были счастливейшими днями в жизни мистера Дика, и едва ли они были менее счастливыми для меня. Скоро он перезнакомился в школе со всеми мальчиками и хотя не принимал никогда деятельного участия в наших забавах и только запускал с нами змей, но питал глубокий интерес к нашим играм – ничуть не меньше любого из нас. Как часто он следил, не отрывая глаз и затаив дыхание, за нашей игрой в кубарь или в шарики! Как часто, взобравшись на какой-нибудь холмик, когда мы играли в зайца и гончих, он подбадривал нас криками и размахивал шляпой над своей седой головой, совсем забыв о голове короля Карла Мученика и обо всем, что с ней связано! Сколько летних часов промелькнули для него на крикетной площадке, промелькнули как минуты! Сколько раз в зимние дни, когда мальчики катались с гор, он стоял с посиневшим от холода и восточного ветра носом и в восторге хлопал руками в шерстяных перчатках!
Он был общим любимцем, и его умение делать разные мелкие вещицы казалось непостижимым. Он мог разрезать апельсин так замысловато, как никому из нас и в голову не приходило. Он мог сделать лодку из чего угодно, чуть ли не из спицы. Он превращал коленные чашки животных в шахматные фигуры, сооружал римские колесницы из старых игральных карт, мастерил из катушек колеса со спицами и птичьи клетки из старой проволоки. Но, пожалуй, самое замечательное мастерство он обнаруживал, когда брался за бечевку и солому, из которых, по нашему общему убеждению, мог соорудить решительно все, на что способны человеческие руки.
Слава мистера Дика недолго ограничивалась пределами нашего круга. После нескольких сред сам доктор Стронг расспросил меня о нем, я ему сообщил все сведения, полученные мною от бабушки, и это так заинтересовало доктора, что он просил меня познакомить их в ближайшую же среду. Я совершил эту церемонию, и доктор пригласил мистера Дика приходить в школу всякий раз, когда я не встречал его в конторе почтовых карет, и отдыхать, пока мы не кончим наших утренних занятий; скоро у мистера Дика вошло в привычку направляться прямо к школе и, если мы задерживались, что случалось по средам нередко, гулять по двору в ожидании меня. Здесь он познакомился с красивой молодой женой доктора (теперь она была более бледна, чем раньше, менее весела, но не менее красива; я, да, кажется, и все мы видели ее реже) и постепенно все больше осваивался со школой, пока, наконец, не начал заходить в класс, где и ждал меня. Он всегда усаживался в одном и том же уголке, на одном и том же стуле, который прозвали в честь него «Дик»; здесь он сидел, опустив седую голову и внимательно прислушиваясь ко всему, о чем бы ни шла речь, с глубоким благоговением к наукам, которые никогда не мог постичь.
Это благоговение мистер Дик простирал и на доктора, которого он считал самым глубоким и непревзойденным философом всех времен. Только спустя некоторое время он решился разговаривать с ним, не снимая шляпы, но даже тогда, когда они подружились и совместно прогуливались во дворе по боковой дорожке, которая называлась у нас «Аллея доктора», – даже тогда мистер Дик время от времени снимал шляпу, чтобы засвидетельствовать свое уважение к мудрости и наукам. Не знаю, как случилось, что во время этих прогулок доктор стал читать вслух отрывки из знаменитого словаря; быть может, сначала ему казалось, будто это все равно, что читать самому себе. Но эти чтения вошли в привычку, а мистер Дик слушал с лицом, сияющим от гордости и удовольствия, и в глубине души твердо верил, что словарь – самая увлекательная книга на свете.
Когда я думаю о них, прогуливающихся взад и вперед под окнами классной комнаты. – о докторе, о том, как время от времени он помахивает листами рукописи, сопровождая чтение любезной улыбкой или важным покачиваньем головы, и о мистере Дике, который внимает чтению как зачарованный, тогда как его бедный разум витает на крыльях непонятных слов бог весть где, – когда я думаю о них, это зрелище представляется мне одним из самых умилительных, которые я когда-либо наблюдал. Мне кажется, что, если бы они могли вечно прогуливаться взад и вперед, мир стал бы лучше и что тысячи вещей, о которых так много шумят, приносят меньше пользы и миру и мне, чем эти прогулки мистера Дика и доктора.
Очень скоро и Агнес подружилась с мистером Диком; часто бывая у меня дома, он познакомился и с Урией Хипом. Дружба между мной и мистером Диком крепла, но зиждилась на довольно странных основах: считаясь моим опекуном и приезжая в этом своем звании проведать меня, он всегда советовался со мной по всем вопросам, которые его смущали, и неукоснительно следовал моим советам, так как не только питал глубокое уважение к моей врожденной рассудительности, но и полагал, будто я многое унаследовал от своей бабушки.
В один из четвергов, когда я собирался проводить мистера Дика из гостиницы в контору наемных карет, а потом вернуться в школу (у нас был один урок до завтрака), я встретил на улице Урию, который напомнил мне о своем обещании зайти как-нибудь и выпить чайку с ним и его матерью, при этом он, извиваясь, добавил:
– Но разве я могу надеяться, мистер Копперфилд, что вы исполните обещание, – ведь мы люди ничтожные, смиренные.
Я все еще не мог решить, приятен мне Урия, или противен; колебался я и тогда, остановившись на улице и глядя ему в лицо. Но мне показалось очень обидным, как это он мог заподозрить меня в гордыне, и я ответил, что дожидался только приглашения.
– О! Если дело только за этим? мистер Копперфилд, и наше ничтожество и смирение не мешает вам нас посетить, милости прошу пожаловать сегодня вечером. Но если наше ничтожество является для вас препятствием, мистер Копперфилд, надеюсь, вы не будете это скрывать? Ведь мы прекрасно понимаем свое положение…
Я сказал, что поговорю с мистером Уикфилдом, и если он возражать не будет, в чем я не сомневаюсь, то я с удовольствием приду. В тот же вечер, в шесть часов, – это был один из тех вечеров, когда работа в конторе кончалась раньше, – я заявил Урии, что готов идти.
– Моя мать возгордится. Вернее, она возгордилась бы, не будь это грешно, юный мистер Копперфилд, – сказал Урия, когда мы отправились в путь.
– Однако сегодня утром вы преспокойно решили, что я могу возгордиться, – заметил я.
– О нет, мистер Копперфилд! Поверьте мне, нет! Такая мысль даже не приходила мне в голову! Я и не думал бы, что вы возгордились, если бы вы считали нас слишком ничтожными для себя. Ведь мы и в самом деле люди маленькие и смиренные.
– Вы давно изучаете юридические науки? – спросил я, желая переменить разговор.
– Что вы, мистер Копперфилд! Разве можно назвать изучением чтение книг! – потупившись, сказал Урия. – Часок-другой я иногда провожу по вечерам с мистером Тиддом, вот и все.
– Трудновато приходится? – спросил я.
– Для меня он иногда бывает трудноват. Но не знаю, каким показался бы он способному человеку, – ответил Урия.
Тут он отбарабанил на ходу двумя пальцами скелетообразной руки по своему подбородку несколько тактов какой-то песенки и добавил:
– Знаете ли, мистер Копперфилд, там, у мистера Тидда, есть латинские слова и термины, которые очень затруднительны для читателя с такими ничтожными познаниями, как у меня.
– Вам хотелось бы научиться латыни? – живо спросил я. – Я с удовольствием научил бы вас тому, что я сам знаю.
– О, благодарю вас, мистер Копперфилд! – сказал он, помотав головой. – С вашей стороны очень любезно сделать такое предложение… Но я человек слишком маленький, чтобы принять его…
– Какой вздор, Урия!
– О! Прошу прощения, мистер Копперфилд! Я бесконечно вам благодарен, это было бы таким для меня удовольствием! Но я человек слишком ничтожный и смиренный… И без того есть немало людей, которые не прочь попирать меня ногами в моем ничтожестве, а тут я еще буду оскорблять их чувства своей образованностью. Образование не для меня. Такому, как я, лучше не заноситься высоко. Добиваясь чего-нибудь в жизни, мистер Копперфилд, он должен всего добиваться смирением.
Я никогда еще не видел, чтобы рот у него был так растянут, а складки на щеках так глубоки, как в эти минуты, когда он излагал свои убеждения, покачивая все время головой и униженно извиваясь.
– Мне кажется, вы не правы, Урия, – сказал я. – Уверен, что я мог бы вас кое-чему научить, если бы вы захотели учиться.
– О! Я в этом не сомневаюсь, мистер Копперфилд. Ничуть не сомневаюсь! – ответил он. – Но вы занимаете такое положение, что не можете судить о маленьких, ничтожных людях. Нет, благодарю вас, я не смею оскорблять своим образованием тех, кто выше меня. Для этого я слишком ничтожный и смиренный человек. А вот и мое убогое жилище, юный мистер Копперфилд!
Мы вошли прямо с улицы в низкую, старомодную комнату, где находилась миссис Хип, которая являлась точной копией своего сына, но была ниже его ростом. Она встретила нас с чрезвычайным смирением и, целуя сына, принесла извинения, добавив, что, хотя они люди ничтожные, но и им свойственны родственные чувства, которые, как они надеются, никого оскорбить не могут. Комната, – не то гостиная, не то кухня, – была вполне приличная, но неуютная. На столе стоял чайный прибор, а над огнем камелька закипал чайник. Был там комод с пюпитром для Урии, на котором он мог читать и писать по вечерам, на полу валялся синий мешок Урии, изрыгавший документы, лежала стопка книг Урии во главе с мистером Тиддом; шкаф для посуды стоял в углу; в комнате находилась и кое-какая другая мебель. Я не помню, чтобы отдельные предметы казались жалкими, негодными к употреблению и заявляли о скудости средств, но помню, что об этом свидетельствовала вся обстановка в целом. Траур, который до сей поры носила миссис Хип, должен был возвещать о ее смирении. Несмотря на длительное время, протекшее со дня кончины мистера Хипа, она еще не сняла траура; мне показалось, что она сделала только одну уступку – надела другой чепчик, но в остальном ее траурное одеяние не претерпело никаких изменений с первых дней вдовства.
– Этот день, Урия, когда мистер Копперфилд нас посетил, должен быть нам памятен, – сказала миссис Хип, приготовляя чай.
– Я говорил, мамаша, что вы так и подумаете, – произнес Урия.
– Если бы от моего желания зависело продлить жизнь твоего отца, – сказала миссис Хип, обращаясь к сыну, – я хотела бы, чтобы сегодня ради такого гостя он был с нами.
Я был смущен этими комплиментами, но вместе с тем польщен, что меня принимают как почетного гостя, и миссис Хип показалась мне очень приятной женщиной.
– Мой Урия давно мечтал об этом, сэр, – продолжала миссис Хип. – Но он боялся, как бы вас не остановило скромное наше положение, и я разделяла его опасения. Мы люди маленькие, ничтожные, такими мы всегда были, такими и останемся.
– Мне кажется, у вас нет никаких оснований считать себя маленькими и ничтожными, разве что вам это нравится, – сказал я.
– Благодарю вас, сэр, – отозвалась миссис Хип. – Мы ведь понимаем наше положение и умеем быть благодарными.
Постепенно миссис Хип придвинулась ко мне поближе, а Урия постепенно передвинулся к стулу напротив меня, а затем они оба начали почтительно меня угощать, предлагая самое вкусное, что было на столе. Впрочем, надо сказать, на столе не было ничего особенно вкусного, но важно благое намерение, и я не остался равнодушен к их вниманию. Беседа зашла о бабушках; тут я рассказал о своей; перешли на родителей; тут я рассказал о своих; затем миссис Хип заговорила об отчимах; тут я стал говорить о своем, но осекся, вспомнив, что бабушка советовала мне об этом молчать. Но слабенькая пробочка так же могла устоять против двух пробочников, детский зуб – против двух дантистов и крохотный волан – против двух ракеток, как мог устоять я против Урии и миссис Хип. Они делали со мной все, что хотели, они вытягивали из меня то, о чем я решительно не желал говорить, и проделывали это с легкостью, о которой мне стыдно вспоминать, – тем более, что в своей детской наивности я ставил себе в заслугу такой доверительный тон и почитал себя патроном обоих почтительных моих собеседников.
Несомненно, они очень любили друг друга. И эта любовь производила на меня впечатление, так как была безыскусна; но та ловкость, с какой один из них подхватывал брошенную другим нить разговора, была столь искусна, что перед ней я оказывался еще более беспомощным. Когда уже больше ничего нельзя было вытянуть из меня обо мне самом (о своем пребывании у «Мэрдстона и Гринби» и о своем бегстве оттуда я все-таки не проронил ни слова), разговор перешел на мистера Уикфилда и Агнес. Урия швырял мяч миссис Хип, миссис Хип ловила и посылала назад Урии, Урия задерживал его на некоторое время и потом бросал снова миссис Хип, и они перебрасывались им до той поры, покуда я перестал соображать, у кого этот мяч, и совсем растерялся. Да и сам мяч все время менялся. То это был мистер Уикфилд, то Агнес, то достоинства мистера Уикфилда или мое восхищение Агнес, то деловой размах мистера Уикфилда и его доходы или наше времяпрепровождение после обеда, то вино, которое пьет мистер Уикфилд, причина, почему он пьет, и сожаление, что он пьет так много, – словом, говорили то об одном, то о другом, то обо всем сразу; и все это время, как будто мало участвуя в разговоре и только подбадривая их из беспокойства, как бы они не сникли от сознания своего ничтожества и той чести, какую я им: оказывал своим присутствием, я без конца выбалтывал то, о чем не следовало болтать, и наблюдал последствия своей болтливости, глядя, как раздуваются и сжимаются ноздри Урии.
Мне становилось не по себе и хотелось положить конец этому визиту, как вдруг какой-то человек, шедший по улице, – погода стояла теплая не по сезону, и дверь была открыта, чтобы проветрить душную комнату, – прошел мимо, вернулся, заглянул в комнату, затем вошел с громким возгласом:
– Копперфилд! Да может ли это быть!
Это был мистер Микобер! Это был мистер Микобер со своим моноклем, тростью, высоким воротничком, мистер Микобер, изящный, с благосклонно журчащим голосом – словом, он сам, собственной персоной!
– Дорогой мой Копперфилд! – воскликнул мистер Микобер, протягивая мне руку. – Вот поистине встреча, которой надлежало бы внушить нашему разуму мысль о неопределенности и превратности всего человеческого… одним словом, замечательная встреча! Я иду по улице, размышляю о том, улыбнется ли счастье (как раз в данный момент у меня есть основания надеяться на это), и вот внезапно счастье улыбнулось – я натыкаюсь на юного, но дорогого мне друга, с которым связан наиболее чреватый событиями период моей жизни, смею сказать – поворотный пункт моего бытия! Копперфилд, дорогой мой, как вы поживаете?
Я отнюдь не мог сказать, что встреча здесь с мистером Микобером меня обрадовала, но я также был рад его видеть, от всей души пожал ему руку и осведомился, как поживает миссис Микобер.
– Благодарю! – произнес мистер Микобер, помахивая, как и в былые времена, рукой и погружая подбородок в воротничок сорочки. – Она набирается сил. Близнецы уже не получают пропитания из источников Природы, – сообщил мистер Микобер в порыве откровенности, – одним словом, их отлучили от груди, и нынче миссис Микобер сопровождает меня. Она будет в восхищении, Копперфилд, возобновить знакомство с тем, кто во всех отношениях был достойным жрецом у священного алтаря дружбы!