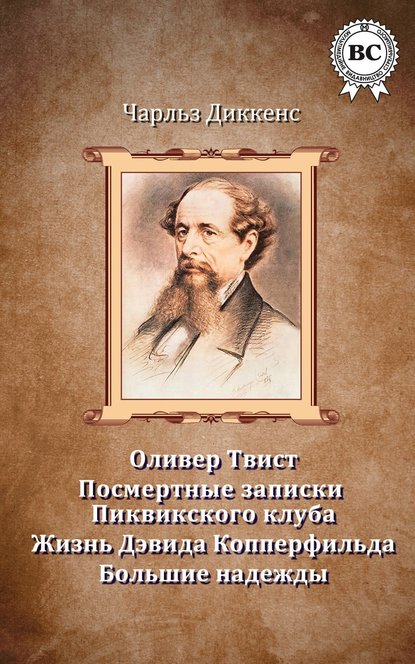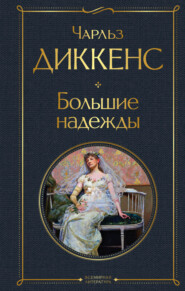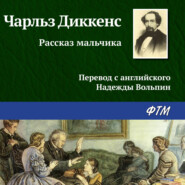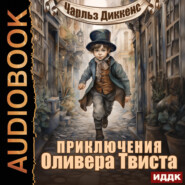По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сочинения
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– О, благодарю вас за эти слова, мистер Копперфилд! – воскликнул Урия Хип. – Как они справедливы! Хоть я человек маленький, смиренный, но я знаю, как они справедливы! О, благодарю вас, мистер Копперфилд!
Захлебываясь от избытка чувств, он извивался, пока не сполз с табурета, а спустившись с него, стал собираться домой.
– Мамаша будет меня ждать и начнет беспокоиться, – сказал он, посмотрев на бледный, полустертый циферблат часов, которые носил в кармане. – Хотя мы люди маленькие, смиренные, но мы очень привязаны друг к другу, мистер Копперфилд. Если бы вы пожелали заглянуть когда-нибудь к нам вечерком и выпить чашку чаю в нашем убогом жилище, мамаша гордилась бы вашим посещением не меньше, чем я.
Я ответил, что с удовольствием приду.
– Благодарю вас, мистер Копперфилд, – сказал Урия, поставив на полку свою книгу. – Вероятно, вы поживете здесь некоторое время, мистер Копперфилд?
Я объяснил, что, должно быть, буду здесь жить, пока не окончу школы.
– Ах, вот как! – воскликнул Урия. – Я бы сказал, мистер Копперфилд, что со временем компаньоном фирмы будете вы!
Я его уверял, что таких намерений у меня и в помине нет и никто и не строил подобных планов, но Урия стоял на своем и на все мои возражения льстиво повторял снова:
– О, как же, мистер Копперфилд, я бы сказал, что со временем им будете вы!
Собравшись, наконец, покинуть контору, он осведомился, не возражаю ли я против того, чтобы он потушил свет, и когда я выразил согласие, немедленно потушил его. Пожав мне руку – на ощупь в темноте его рука была похожа на рыбу, – он чуть-чуть приоткрыл дверь на улицу и, проскользнув в нее, захлопнул за собой, а мне пришлось пробираться по дому во мраке, что стоило мне немалых трудов и даже паденья, так как я налетел на его табурет. Такова была, вероятно, главная причина, почему, как показалось мне, в течение доброй половины ночи я видел во сне Урию Хипа. Приснилось мне, между прочим, что, спустив на воду дом мистера Пегготи, он отправился в пиратскую экспедицию, причем на верхушке мачты развевался черный флаг с надписью «Руководство Тидда», и под этим дьявольским флагом он увлекал меня и малютку Эмли к Испанскому морю,[39 - Испанское море – часть Атлантического океана, примыкающая к северным берегам Южной Америки.] чтобы там утопить.
На следующий день, когда я пришел в школу, мне удалось отчасти побороть мое смущение, еще через день я справлялся с ним еще лучше, и мало-помалу оно окончательно рассеялось; не прошло и двух недель, как я уже чувствовал себя совсем как дома и был счастлив среди моих новых товарищей. Я был достаточно неловок в играх и весьма отстал в науках, но надеялся, что в первом мне поможет привычка, а во втором – упорный труд. Занявшись усердно тем и другим, я вскоре преуспел во всем и заслужил общее одобрение. Прошло очень мало времени, но жизнь у «Мэрдстона и Гринби» стала казаться мне чем-то невероятным, а с жизнью в школе я так освоился, как будто находился здесь давным-давно.
Школа доктора Стронга была превосходная и отличалась от школы мистера Крикла так же, как отличается добро от зла. Порядок поддерживался в ней строго и благопристойно, в основе лежала разумная система: всегда и во всем полагались на честь и порядочность учеников и открыто признавали за ними эти качества, если сами мальчики не обманывали доверия, и такая система творила чудеса. Все мы сознавали, что принимаем участие в руководстве школой и поддерживаем ее репутацию и достоинство. В результате мы быстро привязывались к ней, – во всяком случае, так было со мной, и за все время моего пребывания там я не встречал ни одного ученика, который относился бы к – нашей школе иначе, – и учились с большой охотой, желая сохранить ее добрую славу. После занятий мы развлекались чудесными играми и пользовались полной свободой, но, помню, несмотря на это, в городе отзывались о нас одобрительно, и редко случалось, чтобы мы своим видом или поведением наносили ущерб репутации доктора Стронга и его воспитанников.
Некоторые из старших школьников жили и столовались в доме доктора, и от них я узнал кое-что о его жизни. Узнал, что не прошло еще и года, как он женился на красивой молодой леди, которую я видел в кабинете, женился по любви, ибо у нее не было ни единого шестипенсовика, но зато была целая стая бедных родственников (так говорили наши мальчуганы), готовых захватить дом доктора, вытеснив самого хозяина. Узнал я также, что глубокая задумчивость доктора приписывается вечным его поискам греческих корней; по простоте душевной и по невежеству своему, я вообразил, будто доктор одержим какою-то ботанической манией – к тому же во время прогулок он всегда смотрел в землю, – и лишь впоследствии я установил, что это были корни слов для нового словаря, который он задумал составить. Адамс, наш старшина, обладавший способностями к математике, произвел, как сообщили мне, вычисления, сколько времени займет составление словаря, принимая во внимание план доктора и темп работы. Он полагал, что словарь может быть закончен через тысячу шестьсот сорок девять лет, считая с последнего, то есть шестьдесят второго, дня рождения доктора.
Но сам доктор был кумиром всей школы, да и плоха была бы школа, если бы дело обстояло иначе, ибо доктор был добрейший человек, наделенный простодушием – и доверчивостью, которые могли растрогать даже каменные сердца урн на стене. Когда он прогуливался в той части двора, которая примыкала к боковой стене дома, а залетевшие сюда грачи и галки, лукаво склонив головы, смотрели ему вслед, словно понимая, что в житейских делах они куда более сведущи, чем он, – когда он там прогуливался, достаточно было любому бродяге приблизиться к нему настолько, чтобы заглушить скрип его башмаков и привлечь его внимание хотя бы к одной фразе о бедственном своем положении, – и такой бродяга бывал обеспечен на ближайшие два дня. Это было так хорошо известно всей школе, что учителя и старшины, выскочив из окон, старались перерезать путь этим мародерам и прогоняли их со двора, прежде чем им удавалось оповестить доктора о своем присутствии. Иногда операция завершалась благополучно в нескольких акрах от него в то время, как он, ровно ничего не подозревая, прохаживался взад и вперед неровными шажками. За пределами своих владений, не оберегаемый никем, он был настоящей овцой, которую каждый мог стричь. Он готов был снять с ног и отдать собственные гетры. Среди школьников ходил рассказ (я не имею и никогда не имел понятия, на чем он основан, но я верил ему столько лет, что в правдивости его не сомневаюсь), – рассказ о том, как однажды в морозный зимний день он действительно отдал свои гетры какой-то нищенке, что вызвало затем скандал во всей округе, так как она таскала от двери к двери хорошенького младенца, завернутого в эти принадлежности туалета, которые были опознаны решительно всеми, ибо пользовались в наших краях не меньшей известностью, чем собор. Единственным человеком, не опознавшим их, добавляет легенда, был сам доктор; когда они незамедлительно появились у двери маленькой лавчонки старьевщика, который пользовался дурной славой, так как обменивал такие вещи на джин, было замечено, что доктор не раз рассматривал их с одобрением, словно восхищаясь интересным новым фасоном и находя их лучше своих собственных.
Очень приятно было видеть доктора вместе с красивой, молодой женой. Его любовь к ней выражалась в отеческой нежности, что уже само по себе рисовало его как прекрасного человека. Я нередко видел, как они прогуливались по саду, где зрели персики, а иногда мог наблюдать их вблизи, в кабинете или в гостиной. Мне казалось, что она очень заботится о докторе и очень его любит, хотя я никогда не верил в живейший ее интерес к словарю, тяжеловесные отрывки коего доктор вечно носил в карманах и в подкладке шляпы, а во время прогулок, по-видимому, давал обстоятельные разъяснения жене.
Я часто видел миссис Стронг, отчасти потому, что я ей понравился в то утро, когда был представлен доктору, и с той поры она всегда была добра ко мне и интересовалась мною, а отчасти потому, что она очень любила Агнес и постоянно захаживала к нам. Мне чудилась какая-то странная, никогда не ослабевавшая напряженность в ее отношениях с мистером Уикфилдом (которого она как будто побаивалась). Приходя к нам по вечерам, она всегда уклонялась от его предложения проводить ее и убегала со мной. Иной раз, когда мы весело перебегали двор собора, думая, что никого не встретим, мы встречали мистера Джека Мелдона, который при виде нас всегда выражал удивление.
Матушка миссис Стронг восхищала меня. Звали ее миссис Марклхем, но мы, мальчики, прозвали ее «Старый Вояка» за умение командовать и сноровку, с какою она напускала на доктора несметные полчища родственников. Это была маленькая востроглазая женщина, всегда надевавшая в торжественных случаях один и тот же чепец, украшенный искусственными цветами и двумя искусственными бабочками, которые якобы порхали над цветами. Среди нас ходило поверье, будто этот чепец прибыл из Франции и мог быть не иначе, как произведением искусства сей хитроумной нации. Но, в сущности, я знал о нем лишь то, что он неизменно появлялся по вечерам, где бы ни появлялась миссис Марклхем; что она приносила его в индийской корзиночке на дружеские собрания; что бабочки были наделены способностью постоянно трепетать и, подобно трудолюбивым пчелам, не теряли золотого времени, высасывая соки из доктора Стронга.
Я имел возможность очень хорошо наблюдать Старого Вояку (это прозвище отнюдь не было непочтительным) однажды вечером, который памятен мне по причине, о коей я сейчас расскажу. У доктора собралась небольшая компания по случаю отъезда мистера Джека Мелдона в Индию, куда он отправлялся, кажется, для поступления в армию: мистер Уикфилд в конце концов уладил его дела. Этот день совпал со днем рождения доктора. Нас освободили от занятий, утром мы преподнесли ему подарки, старшина произнес речь от имени всех нас, и мы приветствовали его возгласами «ура!» – пока не охрипли и пока он не прослезился. А вечером мистер Уикфилд, Агнес и я отправились к нему (на сей раз – как к частному лицу) пить чай.
Мистер Джек Мелдон явился туда раньше нас. Когда мы вошли, миссис Стронг в белом платье с лентами вишневого цвета играла на фортепьяно, а он, склонившись над ней, переворачивал ноты. Когда она оглянулась, румянец на ее белом лице показался мне не таким ярким, как всегда, но она была очень красива, удивительно красива.
– А я и позабыла принести вам поздравления с днем вашего рождения, доктор, – сказала матушка миссис Стронг, когда мы уселись. – Но можете быть уверены, что мое поздравление – не пустые слова. Желаю вам еще много раз встречать этот счастливый день.
– Благодарю вас, сударыня, – отвечал доктор.
– Много-много раз встречать этот счастливый день, – повторил Старый Вояка. – Желаю вам этого не только ради вас, но и ради Анни, и ради Джона Мелдона, и ради многих других. Мне кажется, будто не дальше, чем вчера, Джон, ты был мальчуганом, на голову ниже мистера Копперфильда, и по-ребячьи ухаживал за Анни в огороде, за кустами крыжовника.
– Милая мама, сейчас не стоит вспоминать об этом, – сказала миссис Стронг.
– Анни, не глупи! – возразила ее мать. – Как только речь заходит о таких вещах, ты, старая замужняя женщина, краснеешь. Когда же ты научишься слушать о них не краснея?
– Старая? – воскликнул мистер Джек Мелдон. – Анни? Полно!
– Да, Джон, она – старая замужняя женщина, – заявил Вояка. – Старая не по годам, – разве ты или кто-нибудь еще слыхал, чтобы я называла двадцатилетнюю женщину старой по годам? Твоя кузина – жена доктора, и я говорила о ней как о его жене. Твое счастье, Джон, что твоя кузина – жена доктора. Ты нашел в нем влиятельного и доброго друга, и я предрекаю, что он будет еще добрее, если ты этого заслужишь. У меня нет ложной гордости. Не колеблясь, я всегда откровенно признаю, что некоторые члены нашего семейства нуждаются в друге. Ты сам, Джон, был одним из них, прежде чем благодаря влиянию твоей кузины не обрел себе друга.
Доктор, по доброте сердечной, махнул рукой, как бы не придавая этому значения и желая избавить мистера Джека Мелдона от дальнейших воспоминаний. Но миссис Марклхем пересела на другой стул, поближе к доктору, и коснулась веером его рукава.
– Нет, право же, дорогой доктор, вы должны меня извинить: чувства мои так глубоки, что я постоянно возвращаюсь к этому предмету. Я его называю моей манией, это у меня такой пунктик. Вы – наше счастье. Для нас вы – благословенье божье.
– Вздор, вздор! – сказал доктор.
– Нет, извините! – возразил Старый Вояка. – Никого из посторонних здесь нет, здесь только наш добрый друг, мистер Уикфилд, которому мы вполне доверяем, и я не могу согласиться, чтобы мне зажимали рот. Если вы будете упорствовать, доктор, я воспользуюсь привилегиями тещи и пожурю вас. Я говорю вполне честно и откровенно. То, что я говорю сейчас, я сказала и в тот день, когда вы так меня ошеломили, – помните, как я была ошеломлена? – сделав предложение Анни. Конечно, не было ничего из ряда вон выходящего – было бы нелепо утверждать обратное – в самом предложении, но вы знали ее бедного отца, знали и ее полугодовалым младенцем, и я никогда не думала о вас как о женихе или вообще как о человеке, который может жениться, – вот и все.
– Да, да… – добродушно отозвался доктор. – Не стоит вспоминать об этом.
– Нет, стоит, – заявил Старый Вояка, прикладывая свой веер к губам доктора. – Очень даже стоит. Я воскрешаю эти воспоминания, чтобы мне могли возразить, если я ошибаюсь. Ну, вот. Я пошла к Анни и сказала ей о том, что случилось. Я сказала: «Дорогая моя, приходил доктор Стронг и сделал тебе благороднейшее предложение». Настаивала ли я на чем-нибудь? Нет! Я сказала: «Анни, сию же минуту отвечай мне правду: свободно ли твое сердце?» – «Мама, – сказала она, расплакавшись. – я так молода, – и это была сущая правда, – я даже не знаю, есть ли у меня сердце». – «В таком случае, дорогая моя, – сказала я, – можешь не сомневаться, что оно свободно. Как бы там ни было, моя милая, – сказала я, – но доктор Стронг находится в тревожном расположении духа, и нужно дать ему ответ. Не следует оставлять его в такой тревоге». – «Мама, – сказала Анни, все еще плача, – он будет несчастлив без меня? Если он будет несчастлив, то я так глубоко его уважаю и почитаю, что, пожалуй, пойду за него». На том и порешили. И вот тогда, но никак не раньше, я сказала Анни: «Анни, доктор Стронг будет не только твоим мужем, он заступит место твоего покойного отца, он заступит место главы нашего семейства благодаря своей мудрости, положению и, смею сказать, средствам, короче говоря, он будет для нашего семейства благословением». Я употребила это слово тогда и снова употребляю его сегодня. Если есть у меня какие-нибудь достоинства, то одним из них является постоянство.
В продолжение этой речи дочь сидела безмолвная и неподвижная, с опущенными глазами; ее кузен стоял подле нее и тоже смотрел в землю. Потом она сказала очень тихо, дрожащим голосом:
– Мама, надеюсь, вы кончили?
– Нет, дорогая Анни, – возразил Вояка. – Я еще не кончила. Раз ты меня спрашиваешь, дорогая моя, я тебе отвечаю, что я не кончила. Я хочу пожаловаться на то, что ты, право же, как-то странно относишься к своему собственному семейству. А так как не имеет смысла жаловаться тебе, то я хочу пожаловаться твоему супругу. Посмотрите-ка, дорогой доктор, на вашу глупенькую жену!
Когда доктор повернул к ней свое доброе лицо, освещенное простодушной, кроткой улыбкой, она еще ниже опустила голову. Я заметил, что мистер Уикфилд смотрит на нее очень пристально.
– Когда я на днях сказала этой капризнице, – продолжала ее мать, покачивая головой и шутливо грозя ей веером, – что ей бы следовало сообщить вам о некоторых семейных обстоятельствах, – по моему мнению, она обязана была сообщить о них, – она ответила, что сообщать об этом значит просить об одолжении, и она этого не сделает, так как достаточно ей попросить, чтобы ее просьба была исполнена.
– Анни, дорогая моя, это нехорошо, – сказал доктор. – Вы лишили меня удовольствия.
– Почти то же самое говорила ей я! – воскликнула ее мать. – Право же, в следующий раз, когда я буду знать, что она не хочет заговорить с вами только по этой причине, я отважусь обратиться к вам сама!
– Я буду очень рад, если вы так и сделаете, – ответил доктор.
– Так, значит, обращаться к вам?
– Непременно.
– Так я и буду делать! – объявил Старый Вояка. – Договор заключен.
И, добившись, мне кажется, того, чего хотела, она несколько раз похлопала доктора по руке веером (который предварительно поцеловала) и с торжеством пересела на стул, где сидела раньше.
Пришли еще гости, в том числе два учителя и Адамс, и разговор стал общим. Естественно, зашла речь о мистере Джеке Мелдоне, о его путешествии, о стране, куда он отправляется, и о различных его планах и видах на будущее. В тот вечер, после ужина, он уезжал в почтовой карете в Грейвзенд, где находился корабль, на котором ему предстояло пуститься в плавание, и бог весть сколько лет пройдет, пока он вернется, разве что приедет на родину в отпуск или по болезни.
Помню, все единогласно пришли к заключению, что об Индии сложилось неверное представление и против этой страны нельзя сказать ничего плохого, кроме того, что есть там один-два тигра и в полуденные часы бывает довольно жарко. Что же касается до меня, то я смотрел на мистера Джека Мелдона как на современного Синдбада и уже почитал его закадычным другом всех восточных раджей, восседающих под балдахинами и покуривающих изогнутые золотые трубки – в милю длиной, если их распрямить.
Миссис Стронг очень хорошо пела, что было известно мне, часто слыхавшему, как она напевала для себя. Но либо она боялась петь в присутствии гостей, либо была в тот вечер не в голосе, – несомненно одно: петь она совсем не могла. Она попыталась было пропеть дуэт со своим кузеном Мелдоном, но даже не могла его начать; а позднее, когда она попробовала петь одна и начала очень мило, голос ее внезапно оборвался, и она, в полном унынии, поникла головой над клавишами. Добряк доктор сказал, что у нее расстроены нервы, и, придя ей на выручку, предложил всем сыграть в карты, хотя в этом деле он понимал столько же, сколько в игре на тромбоне. Однако я заметил, что Старый Вояка немедленно взял его под опеку, выбрав своим партнером, и, посвящая его в тайны игры, первым делом забрал все серебро, имевшееся у него в карманах.
Мы веселились за картами, и этому веселью немало способствовали промахи доктора, которые он делал без конца, вопреки бдительности бабочек и к величайшему их раздражению. Миссис Стронг уклонилась от игры, сославшись на недомогание, а ее кузен Мелдон попросил извинить его, так как ему нужно еще уложить кое-какие вещи. Однако, покончив с этим делом, он вернулся, и они сидели рядом на диване, ведя беседу. Время от времени она вставала, заглядывала в карты доктора и советовала ему, с какой карты идти. Склоняясь над ним, она была очень бледна, и мне казалось, будто ее палец, указывающий на карту, дрожит. Впрочем, доктор радовался ее вниманию и ничего не замечал.
За ужином нам было не очень весело. Все как будто почувствовали, что такая разлука – не слишком приятная вещь и чем ближе она придвигается, тем становится неприятнее. Мистер Джек Мелдон изо всех сил старался быть разговорчивым, но чувствовал себя не в своей тарелке и только испортил все дело. Не помог ничему, как показалось мне, и Старый Вояка, неустанно воскрешавший в памяти эпизоды из детской жизни мистера Джека Мелдона.
Однако доктор, несомненно полагавший, что доставляет удовольствие всем, был в превосходном расположении духа и нимало не сомневался в том, что мы веселимся от души.
Захлебываясь от избытка чувств, он извивался, пока не сполз с табурета, а спустившись с него, стал собираться домой.
– Мамаша будет меня ждать и начнет беспокоиться, – сказал он, посмотрев на бледный, полустертый циферблат часов, которые носил в кармане. – Хотя мы люди маленькие, смиренные, но мы очень привязаны друг к другу, мистер Копперфилд. Если бы вы пожелали заглянуть когда-нибудь к нам вечерком и выпить чашку чаю в нашем убогом жилище, мамаша гордилась бы вашим посещением не меньше, чем я.
Я ответил, что с удовольствием приду.
– Благодарю вас, мистер Копперфилд, – сказал Урия, поставив на полку свою книгу. – Вероятно, вы поживете здесь некоторое время, мистер Копперфилд?
Я объяснил, что, должно быть, буду здесь жить, пока не окончу школы.
– Ах, вот как! – воскликнул Урия. – Я бы сказал, мистер Копперфилд, что со временем компаньоном фирмы будете вы!
Я его уверял, что таких намерений у меня и в помине нет и никто и не строил подобных планов, но Урия стоял на своем и на все мои возражения льстиво повторял снова:
– О, как же, мистер Копперфилд, я бы сказал, что со временем им будете вы!
Собравшись, наконец, покинуть контору, он осведомился, не возражаю ли я против того, чтобы он потушил свет, и когда я выразил согласие, немедленно потушил его. Пожав мне руку – на ощупь в темноте его рука была похожа на рыбу, – он чуть-чуть приоткрыл дверь на улицу и, проскользнув в нее, захлопнул за собой, а мне пришлось пробираться по дому во мраке, что стоило мне немалых трудов и даже паденья, так как я налетел на его табурет. Такова была, вероятно, главная причина, почему, как показалось мне, в течение доброй половины ночи я видел во сне Урию Хипа. Приснилось мне, между прочим, что, спустив на воду дом мистера Пегготи, он отправился в пиратскую экспедицию, причем на верхушке мачты развевался черный флаг с надписью «Руководство Тидда», и под этим дьявольским флагом он увлекал меня и малютку Эмли к Испанскому морю,[39 - Испанское море – часть Атлантического океана, примыкающая к северным берегам Южной Америки.] чтобы там утопить.
На следующий день, когда я пришел в школу, мне удалось отчасти побороть мое смущение, еще через день я справлялся с ним еще лучше, и мало-помалу оно окончательно рассеялось; не прошло и двух недель, как я уже чувствовал себя совсем как дома и был счастлив среди моих новых товарищей. Я был достаточно неловок в играх и весьма отстал в науках, но надеялся, что в первом мне поможет привычка, а во втором – упорный труд. Занявшись усердно тем и другим, я вскоре преуспел во всем и заслужил общее одобрение. Прошло очень мало времени, но жизнь у «Мэрдстона и Гринби» стала казаться мне чем-то невероятным, а с жизнью в школе я так освоился, как будто находился здесь давным-давно.
Школа доктора Стронга была превосходная и отличалась от школы мистера Крикла так же, как отличается добро от зла. Порядок поддерживался в ней строго и благопристойно, в основе лежала разумная система: всегда и во всем полагались на честь и порядочность учеников и открыто признавали за ними эти качества, если сами мальчики не обманывали доверия, и такая система творила чудеса. Все мы сознавали, что принимаем участие в руководстве школой и поддерживаем ее репутацию и достоинство. В результате мы быстро привязывались к ней, – во всяком случае, так было со мной, и за все время моего пребывания там я не встречал ни одного ученика, который относился бы к – нашей школе иначе, – и учились с большой охотой, желая сохранить ее добрую славу. После занятий мы развлекались чудесными играми и пользовались полной свободой, но, помню, несмотря на это, в городе отзывались о нас одобрительно, и редко случалось, чтобы мы своим видом или поведением наносили ущерб репутации доктора Стронга и его воспитанников.
Некоторые из старших школьников жили и столовались в доме доктора, и от них я узнал кое-что о его жизни. Узнал, что не прошло еще и года, как он женился на красивой молодой леди, которую я видел в кабинете, женился по любви, ибо у нее не было ни единого шестипенсовика, но зато была целая стая бедных родственников (так говорили наши мальчуганы), готовых захватить дом доктора, вытеснив самого хозяина. Узнал я также, что глубокая задумчивость доктора приписывается вечным его поискам греческих корней; по простоте душевной и по невежеству своему, я вообразил, будто доктор одержим какою-то ботанической манией – к тому же во время прогулок он всегда смотрел в землю, – и лишь впоследствии я установил, что это были корни слов для нового словаря, который он задумал составить. Адамс, наш старшина, обладавший способностями к математике, произвел, как сообщили мне, вычисления, сколько времени займет составление словаря, принимая во внимание план доктора и темп работы. Он полагал, что словарь может быть закончен через тысячу шестьсот сорок девять лет, считая с последнего, то есть шестьдесят второго, дня рождения доктора.
Но сам доктор был кумиром всей школы, да и плоха была бы школа, если бы дело обстояло иначе, ибо доктор был добрейший человек, наделенный простодушием – и доверчивостью, которые могли растрогать даже каменные сердца урн на стене. Когда он прогуливался в той части двора, которая примыкала к боковой стене дома, а залетевшие сюда грачи и галки, лукаво склонив головы, смотрели ему вслед, словно понимая, что в житейских делах они куда более сведущи, чем он, – когда он там прогуливался, достаточно было любому бродяге приблизиться к нему настолько, чтобы заглушить скрип его башмаков и привлечь его внимание хотя бы к одной фразе о бедственном своем положении, – и такой бродяга бывал обеспечен на ближайшие два дня. Это было так хорошо известно всей школе, что учителя и старшины, выскочив из окон, старались перерезать путь этим мародерам и прогоняли их со двора, прежде чем им удавалось оповестить доктора о своем присутствии. Иногда операция завершалась благополучно в нескольких акрах от него в то время, как он, ровно ничего не подозревая, прохаживался взад и вперед неровными шажками. За пределами своих владений, не оберегаемый никем, он был настоящей овцой, которую каждый мог стричь. Он готов был снять с ног и отдать собственные гетры. Среди школьников ходил рассказ (я не имею и никогда не имел понятия, на чем он основан, но я верил ему столько лет, что в правдивости его не сомневаюсь), – рассказ о том, как однажды в морозный зимний день он действительно отдал свои гетры какой-то нищенке, что вызвало затем скандал во всей округе, так как она таскала от двери к двери хорошенького младенца, завернутого в эти принадлежности туалета, которые были опознаны решительно всеми, ибо пользовались в наших краях не меньшей известностью, чем собор. Единственным человеком, не опознавшим их, добавляет легенда, был сам доктор; когда они незамедлительно появились у двери маленькой лавчонки старьевщика, который пользовался дурной славой, так как обменивал такие вещи на джин, было замечено, что доктор не раз рассматривал их с одобрением, словно восхищаясь интересным новым фасоном и находя их лучше своих собственных.
Очень приятно было видеть доктора вместе с красивой, молодой женой. Его любовь к ней выражалась в отеческой нежности, что уже само по себе рисовало его как прекрасного человека. Я нередко видел, как они прогуливались по саду, где зрели персики, а иногда мог наблюдать их вблизи, в кабинете или в гостиной. Мне казалось, что она очень заботится о докторе и очень его любит, хотя я никогда не верил в живейший ее интерес к словарю, тяжеловесные отрывки коего доктор вечно носил в карманах и в подкладке шляпы, а во время прогулок, по-видимому, давал обстоятельные разъяснения жене.
Я часто видел миссис Стронг, отчасти потому, что я ей понравился в то утро, когда был представлен доктору, и с той поры она всегда была добра ко мне и интересовалась мною, а отчасти потому, что она очень любила Агнес и постоянно захаживала к нам. Мне чудилась какая-то странная, никогда не ослабевавшая напряженность в ее отношениях с мистером Уикфилдом (которого она как будто побаивалась). Приходя к нам по вечерам, она всегда уклонялась от его предложения проводить ее и убегала со мной. Иной раз, когда мы весело перебегали двор собора, думая, что никого не встретим, мы встречали мистера Джека Мелдона, который при виде нас всегда выражал удивление.
Матушка миссис Стронг восхищала меня. Звали ее миссис Марклхем, но мы, мальчики, прозвали ее «Старый Вояка» за умение командовать и сноровку, с какою она напускала на доктора несметные полчища родственников. Это была маленькая востроглазая женщина, всегда надевавшая в торжественных случаях один и тот же чепец, украшенный искусственными цветами и двумя искусственными бабочками, которые якобы порхали над цветами. Среди нас ходило поверье, будто этот чепец прибыл из Франции и мог быть не иначе, как произведением искусства сей хитроумной нации. Но, в сущности, я знал о нем лишь то, что он неизменно появлялся по вечерам, где бы ни появлялась миссис Марклхем; что она приносила его в индийской корзиночке на дружеские собрания; что бабочки были наделены способностью постоянно трепетать и, подобно трудолюбивым пчелам, не теряли золотого времени, высасывая соки из доктора Стронга.
Я имел возможность очень хорошо наблюдать Старого Вояку (это прозвище отнюдь не было непочтительным) однажды вечером, который памятен мне по причине, о коей я сейчас расскажу. У доктора собралась небольшая компания по случаю отъезда мистера Джека Мелдона в Индию, куда он отправлялся, кажется, для поступления в армию: мистер Уикфилд в конце концов уладил его дела. Этот день совпал со днем рождения доктора. Нас освободили от занятий, утром мы преподнесли ему подарки, старшина произнес речь от имени всех нас, и мы приветствовали его возгласами «ура!» – пока не охрипли и пока он не прослезился. А вечером мистер Уикфилд, Агнес и я отправились к нему (на сей раз – как к частному лицу) пить чай.
Мистер Джек Мелдон явился туда раньше нас. Когда мы вошли, миссис Стронг в белом платье с лентами вишневого цвета играла на фортепьяно, а он, склонившись над ней, переворачивал ноты. Когда она оглянулась, румянец на ее белом лице показался мне не таким ярким, как всегда, но она была очень красива, удивительно красива.
– А я и позабыла принести вам поздравления с днем вашего рождения, доктор, – сказала матушка миссис Стронг, когда мы уселись. – Но можете быть уверены, что мое поздравление – не пустые слова. Желаю вам еще много раз встречать этот счастливый день.
– Благодарю вас, сударыня, – отвечал доктор.
– Много-много раз встречать этот счастливый день, – повторил Старый Вояка. – Желаю вам этого не только ради вас, но и ради Анни, и ради Джона Мелдона, и ради многих других. Мне кажется, будто не дальше, чем вчера, Джон, ты был мальчуганом, на голову ниже мистера Копперфильда, и по-ребячьи ухаживал за Анни в огороде, за кустами крыжовника.
– Милая мама, сейчас не стоит вспоминать об этом, – сказала миссис Стронг.
– Анни, не глупи! – возразила ее мать. – Как только речь заходит о таких вещах, ты, старая замужняя женщина, краснеешь. Когда же ты научишься слушать о них не краснея?
– Старая? – воскликнул мистер Джек Мелдон. – Анни? Полно!
– Да, Джон, она – старая замужняя женщина, – заявил Вояка. – Старая не по годам, – разве ты или кто-нибудь еще слыхал, чтобы я называла двадцатилетнюю женщину старой по годам? Твоя кузина – жена доктора, и я говорила о ней как о его жене. Твое счастье, Джон, что твоя кузина – жена доктора. Ты нашел в нем влиятельного и доброго друга, и я предрекаю, что он будет еще добрее, если ты этого заслужишь. У меня нет ложной гордости. Не колеблясь, я всегда откровенно признаю, что некоторые члены нашего семейства нуждаются в друге. Ты сам, Джон, был одним из них, прежде чем благодаря влиянию твоей кузины не обрел себе друга.
Доктор, по доброте сердечной, махнул рукой, как бы не придавая этому значения и желая избавить мистера Джека Мелдона от дальнейших воспоминаний. Но миссис Марклхем пересела на другой стул, поближе к доктору, и коснулась веером его рукава.
– Нет, право же, дорогой доктор, вы должны меня извинить: чувства мои так глубоки, что я постоянно возвращаюсь к этому предмету. Я его называю моей манией, это у меня такой пунктик. Вы – наше счастье. Для нас вы – благословенье божье.
– Вздор, вздор! – сказал доктор.
– Нет, извините! – возразил Старый Вояка. – Никого из посторонних здесь нет, здесь только наш добрый друг, мистер Уикфилд, которому мы вполне доверяем, и я не могу согласиться, чтобы мне зажимали рот. Если вы будете упорствовать, доктор, я воспользуюсь привилегиями тещи и пожурю вас. Я говорю вполне честно и откровенно. То, что я говорю сейчас, я сказала и в тот день, когда вы так меня ошеломили, – помните, как я была ошеломлена? – сделав предложение Анни. Конечно, не было ничего из ряда вон выходящего – было бы нелепо утверждать обратное – в самом предложении, но вы знали ее бедного отца, знали и ее полугодовалым младенцем, и я никогда не думала о вас как о женихе или вообще как о человеке, который может жениться, – вот и все.
– Да, да… – добродушно отозвался доктор. – Не стоит вспоминать об этом.
– Нет, стоит, – заявил Старый Вояка, прикладывая свой веер к губам доктора. – Очень даже стоит. Я воскрешаю эти воспоминания, чтобы мне могли возразить, если я ошибаюсь. Ну, вот. Я пошла к Анни и сказала ей о том, что случилось. Я сказала: «Дорогая моя, приходил доктор Стронг и сделал тебе благороднейшее предложение». Настаивала ли я на чем-нибудь? Нет! Я сказала: «Анни, сию же минуту отвечай мне правду: свободно ли твое сердце?» – «Мама, – сказала она, расплакавшись. – я так молода, – и это была сущая правда, – я даже не знаю, есть ли у меня сердце». – «В таком случае, дорогая моя, – сказала я, – можешь не сомневаться, что оно свободно. Как бы там ни было, моя милая, – сказала я, – но доктор Стронг находится в тревожном расположении духа, и нужно дать ему ответ. Не следует оставлять его в такой тревоге». – «Мама, – сказала Анни, все еще плача, – он будет несчастлив без меня? Если он будет несчастлив, то я так глубоко его уважаю и почитаю, что, пожалуй, пойду за него». На том и порешили. И вот тогда, но никак не раньше, я сказала Анни: «Анни, доктор Стронг будет не только твоим мужем, он заступит место твоего покойного отца, он заступит место главы нашего семейства благодаря своей мудрости, положению и, смею сказать, средствам, короче говоря, он будет для нашего семейства благословением». Я употребила это слово тогда и снова употребляю его сегодня. Если есть у меня какие-нибудь достоинства, то одним из них является постоянство.
В продолжение этой речи дочь сидела безмолвная и неподвижная, с опущенными глазами; ее кузен стоял подле нее и тоже смотрел в землю. Потом она сказала очень тихо, дрожащим голосом:
– Мама, надеюсь, вы кончили?
– Нет, дорогая Анни, – возразил Вояка. – Я еще не кончила. Раз ты меня спрашиваешь, дорогая моя, я тебе отвечаю, что я не кончила. Я хочу пожаловаться на то, что ты, право же, как-то странно относишься к своему собственному семейству. А так как не имеет смысла жаловаться тебе, то я хочу пожаловаться твоему супругу. Посмотрите-ка, дорогой доктор, на вашу глупенькую жену!
Когда доктор повернул к ней свое доброе лицо, освещенное простодушной, кроткой улыбкой, она еще ниже опустила голову. Я заметил, что мистер Уикфилд смотрит на нее очень пристально.
– Когда я на днях сказала этой капризнице, – продолжала ее мать, покачивая головой и шутливо грозя ей веером, – что ей бы следовало сообщить вам о некоторых семейных обстоятельствах, – по моему мнению, она обязана была сообщить о них, – она ответила, что сообщать об этом значит просить об одолжении, и она этого не сделает, так как достаточно ей попросить, чтобы ее просьба была исполнена.
– Анни, дорогая моя, это нехорошо, – сказал доктор. – Вы лишили меня удовольствия.
– Почти то же самое говорила ей я! – воскликнула ее мать. – Право же, в следующий раз, когда я буду знать, что она не хочет заговорить с вами только по этой причине, я отважусь обратиться к вам сама!
– Я буду очень рад, если вы так и сделаете, – ответил доктор.
– Так, значит, обращаться к вам?
– Непременно.
– Так я и буду делать! – объявил Старый Вояка. – Договор заключен.
И, добившись, мне кажется, того, чего хотела, она несколько раз похлопала доктора по руке веером (который предварительно поцеловала) и с торжеством пересела на стул, где сидела раньше.
Пришли еще гости, в том числе два учителя и Адамс, и разговор стал общим. Естественно, зашла речь о мистере Джеке Мелдоне, о его путешествии, о стране, куда он отправляется, и о различных его планах и видах на будущее. В тот вечер, после ужина, он уезжал в почтовой карете в Грейвзенд, где находился корабль, на котором ему предстояло пуститься в плавание, и бог весть сколько лет пройдет, пока он вернется, разве что приедет на родину в отпуск или по болезни.
Помню, все единогласно пришли к заключению, что об Индии сложилось неверное представление и против этой страны нельзя сказать ничего плохого, кроме того, что есть там один-два тигра и в полуденные часы бывает довольно жарко. Что же касается до меня, то я смотрел на мистера Джека Мелдона как на современного Синдбада и уже почитал его закадычным другом всех восточных раджей, восседающих под балдахинами и покуривающих изогнутые золотые трубки – в милю длиной, если их распрямить.
Миссис Стронг очень хорошо пела, что было известно мне, часто слыхавшему, как она напевала для себя. Но либо она боялась петь в присутствии гостей, либо была в тот вечер не в голосе, – несомненно одно: петь она совсем не могла. Она попыталась было пропеть дуэт со своим кузеном Мелдоном, но даже не могла его начать; а позднее, когда она попробовала петь одна и начала очень мило, голос ее внезапно оборвался, и она, в полном унынии, поникла головой над клавишами. Добряк доктор сказал, что у нее расстроены нервы, и, придя ей на выручку, предложил всем сыграть в карты, хотя в этом деле он понимал столько же, сколько в игре на тромбоне. Однако я заметил, что Старый Вояка немедленно взял его под опеку, выбрав своим партнером, и, посвящая его в тайны игры, первым делом забрал все серебро, имевшееся у него в карманах.
Мы веселились за картами, и этому веселью немало способствовали промахи доктора, которые он делал без конца, вопреки бдительности бабочек и к величайшему их раздражению. Миссис Стронг уклонилась от игры, сославшись на недомогание, а ее кузен Мелдон попросил извинить его, так как ему нужно еще уложить кое-какие вещи. Однако, покончив с этим делом, он вернулся, и они сидели рядом на диване, ведя беседу. Время от времени она вставала, заглядывала в карты доктора и советовала ему, с какой карты идти. Склоняясь над ним, она была очень бледна, и мне казалось, будто ее палец, указывающий на карту, дрожит. Впрочем, доктор радовался ее вниманию и ничего не замечал.
За ужином нам было не очень весело. Все как будто почувствовали, что такая разлука – не слишком приятная вещь и чем ближе она придвигается, тем становится неприятнее. Мистер Джек Мелдон изо всех сил старался быть разговорчивым, но чувствовал себя не в своей тарелке и только испортил все дело. Не помог ничему, как показалось мне, и Старый Вояка, неустанно воскрешавший в памяти эпизоды из детской жизни мистера Джека Мелдона.
Однако доктор, несомненно полагавший, что доставляет удовольствие всем, был в превосходном расположении духа и нимало не сомневался в том, что мы веселимся от души.