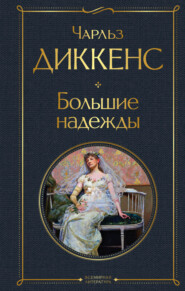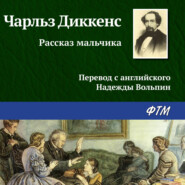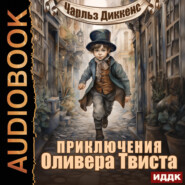По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
История Дэвида Копперфилда
Автор
Жанр
Год написания книги
1850
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Видите ли, – сказал лакей, который, закрыв один глаз, по-прежнему смотрел на свет сквозь стакан, – у нас здесь не любят, когда что-нибудь заказано зря. Хозяйка и повар обижаются. Но, если хотите, я выпью этот эль. Я-то к нему привык, а привычка – это все. Не думаю, чтобы он мне повредил, если я запрокину голову и выпью залпом. Не возражаете?
Я отвечал, что он окажет мне большую услугу, выпив эль, но только в том случае, если, по его мнению, это для него безопасно. Признаюсь, когда он запрокинул голову и залпом выпил стакан, я ужасно боялся, что его постигнет судьба злополучного мистера Топсойера и он бездыханный упадет на ковер. Но эль ему не повредил. Наоборот, мне показалось, что он даже повеселел и приободрился.
– Что у нас тут такое? – осведомился он, тыча вилкой в блюдо. – Не котлеты ли?
– Котлеты, – подтвердил я.
– Помилуй Бог! – воскликнул он. – А я и не знал, что это котлеты! Да ведь котлета как раз и нужна, чтобы это пиво не имело дурных последствий! Вот удача!
Одной рукой он взял за косточку котлету, а другой картофелину и уплел их с большим аппетитом, к величайшему моему удовольствию. После этого он взял еще одну котлету и еще одну картофелину, а потом еще котлету и еще картофелину. Покончив с ними, он принес пудинг и, поставив его передо мной, как будто призадумался и несколько минут предавался размышлениям.
– Ну, как пирог? – спросил он, очнувшись.
– Это пудинг, – возразил я.
– Пудинг! – воскликнул он. – Ах, боже мой, и в самом деле. Как? – Он придвинулся ближе. – Неужели вы хотите сказать, что это слоеный пудинг?
– Да, совершенно верно.
– Слоеный пудинг! – повторил он, беря столовую ложку. – Да ведь это мой любимый пудинг! Вот удача! А ну-ка, малыш, посмотрим, кому больше достанется.
Ему, несомненно, досталось больше. Несколько раз он умолял меня приналечь и выйти победителем, но так велика была разница между его столовой ложкой и моей чайной, его быстротой и моей, его аппетитом и моим, что я после первого же глотка остался далеко позади и не имел никаких шансов догнать его. Мне кажется, я не видывал человека, который так наслаждался бы пудингом; а когда с пудингом было покончено, он все еще посмеивался, словно продолжал наслаждаться.
Вот тогда-то, убедившись в его дружелюбии и общительности, я и попросил у него перо, чернила и лист бумаги, чтобы написать Пегготи. Он не только принес все это немедленно, но и был так внимателен, что смотрел через мое плечо, пока я писал. Когда я закончил письмо, он спросил меня, в какую школу я еду.
Я отвечал: «Недалеко от Лондона» – это было все, что я знал.
– Ах, боже мой! – воскликнул он, впадая в уныние. – Вот жалость-то!
– Почему? – спросил я его.
– О господи! – сказал он, покачивая головой. – Это та самая школа, где мальчику сломали ребра… два ребра… Маленькому мальчику. Я думаю, ему было… позвольте-ка, вам примерно сколько лет?
Я отвечал, что мне пошел девятый год.
– Как раз ровесник ему, – сказал он. – Ему было восемь лет и восемь месяцев, когда сломали второе и покончили с ним.
Я не мог скрыть ни от самого себя, ни от лакея, что это весьма неприятное совпадение, и осведомился, как это случилось. Его ответ не улучшил моего расположения духа, ибо состоял из двух мрачных слов: «Его секли».
Звук рожка во дворе раздался как раз вовремя, чтобы отвлечь меня от моих мыслей, я встал и с чувством гордости и смущения от того, что у меня есть кошелек (который я достал из кармана), нерешительно осведомился, нужно ли за что-нибудь платить.
– За лист почтовой бумаги, – ответил лакей. – Вы покупали когда-нибудь лист почтовой бумаги?
Я не мог припомнить такого случая.
– Он стоит дорого из-за налогов, – пояснил лакей. – Три пенса. Вот какими налогами нас обкладывают в этой стране. Больше ничего платить не надо, разве что лакею. О чернилах нечего говорить. На этом теряю я.
– Скажите, пожалуйста, а сколько бы вы… сколько я… сколько следовало бы мне… какую сумму полагается заплатить лакею? – краснея и заикаясь, осведомился я.
– Не будь у меня семьи и не заболей эта семья ветряной оспой, – сказал лакей, – я не взял бы и шести пенсов. Если бы я не содержал престарелой мамаши и хорошенькой сестры, – тут лакей пришел в крайнее волнение, – я не взял бы и фартинга. Если бы я служил на хорошем месте и со мной обращались здесь по-хорошему, я попросил бы сам принять от меня какую-нибудь мелочь, вместо того чтобы брать чаевые. Но я питаюсь объедками и сплю на мешках с углем…
Тут лакей залился слезами.
Я был очень огорчен его невзгодами и почувствовал, что дать ему меньше, чем девять пенсов, было бы поистине жестоко и бессердечно. Поэтому я вручил ему один из моих блестящих шиллингов, который он принял очень смиренно и почтительно и немедленно вслед за этим подбросил монету большим пальцем, чтобы убедиться в ее полноценности.
Когда мне помогли взобраться на заднее сиденье на крыше кареты, я пришел в некоторое замешательство, обнаружив, что меня заподозрили в том, будто я съел весь обед без всякой посторонней помощи. Узнал я об этом, услышав, как леди, высунувшись из окна, сказала кондуктору: «Последи за этим ребенком, Джордж, как бы он не лопнул!» Кроме того, я заметил, что служанки, работавшие в доме, вышли, чтобы похихикать и поглазеть на меня как на юного феномена. Мой несчастный друг, лакей, который уже совсем пришел в себя, не проявляя ни малейших признаков смущения, дивился вместе со всеми. Если бы могли возникнуть у меня какие-нибудь сомнения на его счет, они должны были возникнуть именно тогда, но я склонен думать, что благодаря простодушному доверию ребенка и присущему детям уважению к старшим (качества, которые, к сожалению, у иных детей слишком рано уступают место житейской мудрости) у меня даже в ту минуту не мелькнуло никаких серьезных подозрений.
Признаюсь, мне было совсем несладко, когда я, отнюдь того не заслуживая, стал мишенью шуток, которыми обменивались кучер и кондуктор, утверждая, что карета оседает на задние колеса, – поскольку я сижу сзади, – и что куда правильнее было бы, если бы я путешествовал в фургоне. Весть об обжорстве, в котором меня заподозрили, разнеслась среди наружных пассажиров, и они также стали подсмеиваться надо мной, осведомлялись, будут ли платить за меня в школу вдвойне или втройне, заключен ли особый договор, или же я поступаю на обычных условиях, и задавали другие подобного рода вопросы. Но вот что было хуже всего: я знал, что, когда представится случай, мне стыдно будет есть, и после весьма легкого обеда я обречен страдать от голода всю ночь, так как второпях оставил свои пирожные в гостинице. Мои опасения оправдались. Когда мы сделали остановку, чтобы поужинать, у меня не хватило храбрости принять участие в ужине, хотя я был очень не прочь это сделать, и я уселся у камина и сказал, что ничего не хочу. Это не спасло меня от новых насмешек; джентльмен с хриплым голосом и обветренным лицом, почти всю дорогу жевавший сандвичи, а в промежутках прикладывавшийся к бутылке, заявил, что я похож на пятнистого удава, который за один прием поглощает столько, чтобы потом уже долго не есть. Вслед за этими словами он сам покрылся пятнами от съеденной им вареной говядины.
Мы выехали из Ярмута в три часа дня, а в Лондон должны были прибыть часов в восемь утра. Стояла середина лета, и вечер был погожий. Когда мы проезжали через какую-нибудь деревню, я мысленно представлял себе, что делается в домах и чем занимаются жители; а когда мальчишки бежали вслед за нами и подвешивались сзади к нашей карете, я задавал себе вопрос, живы ли их отцы и счастливо ли живется им дома. Да, мне было о чем подумать; к тому же мысли мои постоянно обращались к цели моего путешествия – и это были страшные мысли. Помню, несколько раз я принимался думать о родном доме и о Пегготи и смутно, неуверенно пытался восстановить в памяти, что я чувствовал и каким был до того дня, как укусил мистера Мэрдстона; однако я никак не мог прийти к сколько-нибудь удовлетворяющему меня заключению – мне казалось, что укусил я его в давно минувшие времена.
Ночью было не так хорошо, как вечером, потому что похолодало; меня посадили между двумя джентльменами (тем самым, у кого было обветренное лицо, и еще одним), чтобы я не свалился с крыши кареты, и они, засыпая, едва меня не задушили, так как навалились на меня с обеих сторон. По временам они так сильно меня стискивали, что я невольно вскрикивал: «Ох, прошу вас!» – а это им совсем не нравилось, потому что я их будил. Против меня сидела пожилая леди в широкой меховой ротонде, походившая в темноте скорее на стог сена, чем на леди, – так была она укутана. У нее была корзинка, и она долго не знала, что с ней делать, пока не решила подсунуть ее мне под ноги, даром, что ли, они у меня такие короткие? Я больно ударялся об эту корзинку и чувствовал себя совсем несчастным, но стоило мне пошевельнуться, как стакан, находившийся в корзине, обо что-то стукался и дребезжал (иначе и быть не могло), а леди пребольно толкала меня ногой и говорила:
– Да перестань же вертеться! Ведь у тебя-то кости молодые!
Наконец взошло солнце, и мои спутники заснули более спокойным сном. Трудно вообразить себе те мученья, какие они претерпевали всю ночь, давая о них знать самыми устрашающими вздохами и храпеньем. По мере того как солнце все выше поднималось над горизонтом, сон их становился более чутким, и постепенно, один за другим, они стали просыпаться. Помню, меня очень удивило, что каждый притворялся, будто вовсе не спал, и с величайшим негодованием отвергал подобное обвинение. Я и по сей день не перестаю дивиться, неизменно замечая, что люди готовы признаться в любой слабости, свойственной человеческой природе, но всегда отрицают (неведомо почему), что они спали в карете.
Нет нужды пересказывать, каким изумительным местом показался мне Лондон, когда я увидел его издали, и как я воображал, будто здесь вновь и вновь повторяются все приключения всех моих любимых героев, и как я пришел к туманному заключению, что чудес и пророков здесь больше, чем во всех столицах мира. Мы приблизились к городу не сразу и в положенный час подъехали к гостинице в Уайтчепле – к месту нашего назначения. Я забыл, называлась ли гостиница «Синий бык» или «Синий боров»; знаю только, что это было нечто синее, чье изображение было намалевано на задней стенке кареты.
Когда кондуктор спускался с козел, взгляд его упал на меня, и он объявил, заглянув в дверь конторы:
– Кто-нибудь пришел за мальчиком, который значится как Мэрдстон из Бландерстона в Суффолке? Мальчик должен ждать здесь, пока его не затребуют.
Никто не отвечал.
– Будьте добры, сэр, попробуйте назвать Копперфилда, – сказал я, беспомощно посматривая вниз.
– Кто-нибудь пришел за мальчиком, который значится как Мэрдстон из Бландерстона в Суффолке, но откликается на фамилию Копперфилд? Мальчик должен ждать здесь, пока его не затребуют, – повторил кондуктор. – Чего молчите? Пришел кто-нибудь за ним или нет?
Нет. Никто не пришел. Я с тревогой озирался, но вопрос кондуктора не произвел ни малейшего впечатления на присутствующих, если не считать одноглазого человека в гетрах, который посоветовал надеть мне медный ошейник и поставить меня в конюшню.
Принесли лестницу, и я спустился вниз вслед за леди, походившей на стог сена: пока не убрали ее корзинку, я не осмеливался двинуться с места. Пассажиры вышли из кареты, багаж был очень скоро убран, лошадей выпрягли, и конюхи уже откатили карету в сторонку. Но все еще никто не появлялся, чтобы затребовать покрытого пылью мальчика из Бландерстона в Суффолке.
Более одинокий, чем Робинзон Крузо – на того хотя бы никто не смотрел и никто не видел, что он одинок, – я отправился в контору, прошел, по приглашению дежурного клерка, за прилавок и присел на весы, на которых взвешивали багаж. Тут, пока я сидел и смотрел на свертки, тюки и конторские книги и вдыхал запах конюшни (с той поры навеки связанный с этим утром), меня начали осаждать самые мрачные мысли, сменяя одна другую. Если допустить, что никто так и не зайдет за мной, долго ли согласятся держать меня здесь? Может быть, до тех пор, пока я не истрачу свои семь шиллингов? Придется ли мне ночевать в одном из этих деревянных ящиков, вместе с другим багажом, а утром умываться во дворе под насосом? Или меня будут выгонять на ночь, чтобы по утрам, когда открывается контора, я возвращался и ждал, не затребуют ли меня? А если допустить, что никакой ошибки не случилось и мистер Мэрдстон придумал этот план с целью избавиться от меня, что мне тогда делать? Если мне и разрешат оставаться здесь, пока я не истрачу моих семи шиллингов, то ведь у меня нет надежды остаться, когда я начну голодать! Ну да, ведь это будет неудобно и неприятно для посетителей и вдобавок введет в расходы по похоронам этого «Синего быка» или как его там зовут! Если же я немедленно уйду и постараюсь добраться до дому пешком, разве удастся мне найти дорогу, разве есть у меня надежда благополучно проделать такое большое путешествие, а если даже я и вернусь домой, разве я могу положиться на кого-нибудь, кроме Пегготи? Если бы я обратился к надлежащим властям где-нибудь по соседству и выразил бы желание пойти в солдаты или в матросы, то, по всей вероятности, меня бы не приняли – слишком я был еще мал. От этих и сотни других подобных мыслей меня бросило в жар, и голова начала кружиться от страха и тоски. Лихорадка моя была в самом разгаре, когда вошел какой-то человек и шепотом заговорил с клерком, который наклонил весы и подтолкнул меня к нему, словно я был взвешен, куплен, выдан и оплачен.
Когда я выходил из конторы, держась за руку этого нового знакомца, я украдкой посмотрел на него. Это был худощавый, бледный молодой человек со впалыми щеками и подбородком, почти таким же черным, как у мистера Мэрдстона; но на этом сходство и заканчивалось, так как щеки он брил, а волосы у него были не глянцевитые, а сухие и рыжеватые. На нем был черный костюм, также сухой и порыжевший, причем рукава и брюки были слишком коротки, а белый шейный платок не очень чист. Я не предполагал тогда – да и теперь не предполагаю, – что, кроме этого платка, он не носил никакого белья, но только один платок и был виден.
– Вы новый ученик? – спросил он.
– Да, сэр, – сказал я.
Я полагал, что это так. Точно я не знал.
– Я один из учителей Сэлем-Хауса, – сказал он.
Я отвесил ему поклон и почувствовал благоговейный страх. Мне было так неловко сообщать ученому мужу и наставнику из Сэлем-Хауса о таких пустяках, как мой сундучок, что мы уже вышли со двора и прошли некоторое расстояние, прежде чем я собрался с духом и о нем упомянул. Когда я смиренно заикнулся о том, что впоследствии он может мне пригодиться, мы повернули назад, и учитель сказал клерку, что возчик получил приказ заехать за ним в полдень.
– Простите, сэр, это далеко отсюда? – спросил я, когда мы снова прошли примерно тот же путь.
Я отвечал, что он окажет мне большую услугу, выпив эль, но только в том случае, если, по его мнению, это для него безопасно. Признаюсь, когда он запрокинул голову и залпом выпил стакан, я ужасно боялся, что его постигнет судьба злополучного мистера Топсойера и он бездыханный упадет на ковер. Но эль ему не повредил. Наоборот, мне показалось, что он даже повеселел и приободрился.
– Что у нас тут такое? – осведомился он, тыча вилкой в блюдо. – Не котлеты ли?
– Котлеты, – подтвердил я.
– Помилуй Бог! – воскликнул он. – А я и не знал, что это котлеты! Да ведь котлета как раз и нужна, чтобы это пиво не имело дурных последствий! Вот удача!
Одной рукой он взял за косточку котлету, а другой картофелину и уплел их с большим аппетитом, к величайшему моему удовольствию. После этого он взял еще одну котлету и еще одну картофелину, а потом еще котлету и еще картофелину. Покончив с ними, он принес пудинг и, поставив его передо мной, как будто призадумался и несколько минут предавался размышлениям.
– Ну, как пирог? – спросил он, очнувшись.
– Это пудинг, – возразил я.
– Пудинг! – воскликнул он. – Ах, боже мой, и в самом деле. Как? – Он придвинулся ближе. – Неужели вы хотите сказать, что это слоеный пудинг?
– Да, совершенно верно.
– Слоеный пудинг! – повторил он, беря столовую ложку. – Да ведь это мой любимый пудинг! Вот удача! А ну-ка, малыш, посмотрим, кому больше достанется.
Ему, несомненно, досталось больше. Несколько раз он умолял меня приналечь и выйти победителем, но так велика была разница между его столовой ложкой и моей чайной, его быстротой и моей, его аппетитом и моим, что я после первого же глотка остался далеко позади и не имел никаких шансов догнать его. Мне кажется, я не видывал человека, который так наслаждался бы пудингом; а когда с пудингом было покончено, он все еще посмеивался, словно продолжал наслаждаться.
Вот тогда-то, убедившись в его дружелюбии и общительности, я и попросил у него перо, чернила и лист бумаги, чтобы написать Пегготи. Он не только принес все это немедленно, но и был так внимателен, что смотрел через мое плечо, пока я писал. Когда я закончил письмо, он спросил меня, в какую школу я еду.
Я отвечал: «Недалеко от Лондона» – это было все, что я знал.
– Ах, боже мой! – воскликнул он, впадая в уныние. – Вот жалость-то!
– Почему? – спросил я его.
– О господи! – сказал он, покачивая головой. – Это та самая школа, где мальчику сломали ребра… два ребра… Маленькому мальчику. Я думаю, ему было… позвольте-ка, вам примерно сколько лет?
Я отвечал, что мне пошел девятый год.
– Как раз ровесник ему, – сказал он. – Ему было восемь лет и восемь месяцев, когда сломали второе и покончили с ним.
Я не мог скрыть ни от самого себя, ни от лакея, что это весьма неприятное совпадение, и осведомился, как это случилось. Его ответ не улучшил моего расположения духа, ибо состоял из двух мрачных слов: «Его секли».
Звук рожка во дворе раздался как раз вовремя, чтобы отвлечь меня от моих мыслей, я встал и с чувством гордости и смущения от того, что у меня есть кошелек (который я достал из кармана), нерешительно осведомился, нужно ли за что-нибудь платить.
– За лист почтовой бумаги, – ответил лакей. – Вы покупали когда-нибудь лист почтовой бумаги?
Я не мог припомнить такого случая.
– Он стоит дорого из-за налогов, – пояснил лакей. – Три пенса. Вот какими налогами нас обкладывают в этой стране. Больше ничего платить не надо, разве что лакею. О чернилах нечего говорить. На этом теряю я.
– Скажите, пожалуйста, а сколько бы вы… сколько я… сколько следовало бы мне… какую сумму полагается заплатить лакею? – краснея и заикаясь, осведомился я.
– Не будь у меня семьи и не заболей эта семья ветряной оспой, – сказал лакей, – я не взял бы и шести пенсов. Если бы я не содержал престарелой мамаши и хорошенькой сестры, – тут лакей пришел в крайнее волнение, – я не взял бы и фартинга. Если бы я служил на хорошем месте и со мной обращались здесь по-хорошему, я попросил бы сам принять от меня какую-нибудь мелочь, вместо того чтобы брать чаевые. Но я питаюсь объедками и сплю на мешках с углем…
Тут лакей залился слезами.
Я был очень огорчен его невзгодами и почувствовал, что дать ему меньше, чем девять пенсов, было бы поистине жестоко и бессердечно. Поэтому я вручил ему один из моих блестящих шиллингов, который он принял очень смиренно и почтительно и немедленно вслед за этим подбросил монету большим пальцем, чтобы убедиться в ее полноценности.
Когда мне помогли взобраться на заднее сиденье на крыше кареты, я пришел в некоторое замешательство, обнаружив, что меня заподозрили в том, будто я съел весь обед без всякой посторонней помощи. Узнал я об этом, услышав, как леди, высунувшись из окна, сказала кондуктору: «Последи за этим ребенком, Джордж, как бы он не лопнул!» Кроме того, я заметил, что служанки, работавшие в доме, вышли, чтобы похихикать и поглазеть на меня как на юного феномена. Мой несчастный друг, лакей, который уже совсем пришел в себя, не проявляя ни малейших признаков смущения, дивился вместе со всеми. Если бы могли возникнуть у меня какие-нибудь сомнения на его счет, они должны были возникнуть именно тогда, но я склонен думать, что благодаря простодушному доверию ребенка и присущему детям уважению к старшим (качества, которые, к сожалению, у иных детей слишком рано уступают место житейской мудрости) у меня даже в ту минуту не мелькнуло никаких серьезных подозрений.
Признаюсь, мне было совсем несладко, когда я, отнюдь того не заслуживая, стал мишенью шуток, которыми обменивались кучер и кондуктор, утверждая, что карета оседает на задние колеса, – поскольку я сижу сзади, – и что куда правильнее было бы, если бы я путешествовал в фургоне. Весть об обжорстве, в котором меня заподозрили, разнеслась среди наружных пассажиров, и они также стали подсмеиваться надо мной, осведомлялись, будут ли платить за меня в школу вдвойне или втройне, заключен ли особый договор, или же я поступаю на обычных условиях, и задавали другие подобного рода вопросы. Но вот что было хуже всего: я знал, что, когда представится случай, мне стыдно будет есть, и после весьма легкого обеда я обречен страдать от голода всю ночь, так как второпях оставил свои пирожные в гостинице. Мои опасения оправдались. Когда мы сделали остановку, чтобы поужинать, у меня не хватило храбрости принять участие в ужине, хотя я был очень не прочь это сделать, и я уселся у камина и сказал, что ничего не хочу. Это не спасло меня от новых насмешек; джентльмен с хриплым голосом и обветренным лицом, почти всю дорогу жевавший сандвичи, а в промежутках прикладывавшийся к бутылке, заявил, что я похож на пятнистого удава, который за один прием поглощает столько, чтобы потом уже долго не есть. Вслед за этими словами он сам покрылся пятнами от съеденной им вареной говядины.
Мы выехали из Ярмута в три часа дня, а в Лондон должны были прибыть часов в восемь утра. Стояла середина лета, и вечер был погожий. Когда мы проезжали через какую-нибудь деревню, я мысленно представлял себе, что делается в домах и чем занимаются жители; а когда мальчишки бежали вслед за нами и подвешивались сзади к нашей карете, я задавал себе вопрос, живы ли их отцы и счастливо ли живется им дома. Да, мне было о чем подумать; к тому же мысли мои постоянно обращались к цели моего путешествия – и это были страшные мысли. Помню, несколько раз я принимался думать о родном доме и о Пегготи и смутно, неуверенно пытался восстановить в памяти, что я чувствовал и каким был до того дня, как укусил мистера Мэрдстона; однако я никак не мог прийти к сколько-нибудь удовлетворяющему меня заключению – мне казалось, что укусил я его в давно минувшие времена.
Ночью было не так хорошо, как вечером, потому что похолодало; меня посадили между двумя джентльменами (тем самым, у кого было обветренное лицо, и еще одним), чтобы я не свалился с крыши кареты, и они, засыпая, едва меня не задушили, так как навалились на меня с обеих сторон. По временам они так сильно меня стискивали, что я невольно вскрикивал: «Ох, прошу вас!» – а это им совсем не нравилось, потому что я их будил. Против меня сидела пожилая леди в широкой меховой ротонде, походившая в темноте скорее на стог сена, чем на леди, – так была она укутана. У нее была корзинка, и она долго не знала, что с ней делать, пока не решила подсунуть ее мне под ноги, даром, что ли, они у меня такие короткие? Я больно ударялся об эту корзинку и чувствовал себя совсем несчастным, но стоило мне пошевельнуться, как стакан, находившийся в корзине, обо что-то стукался и дребезжал (иначе и быть не могло), а леди пребольно толкала меня ногой и говорила:
– Да перестань же вертеться! Ведь у тебя-то кости молодые!
Наконец взошло солнце, и мои спутники заснули более спокойным сном. Трудно вообразить себе те мученья, какие они претерпевали всю ночь, давая о них знать самыми устрашающими вздохами и храпеньем. По мере того как солнце все выше поднималось над горизонтом, сон их становился более чутким, и постепенно, один за другим, они стали просыпаться. Помню, меня очень удивило, что каждый притворялся, будто вовсе не спал, и с величайшим негодованием отвергал подобное обвинение. Я и по сей день не перестаю дивиться, неизменно замечая, что люди готовы признаться в любой слабости, свойственной человеческой природе, но всегда отрицают (неведомо почему), что они спали в карете.
Нет нужды пересказывать, каким изумительным местом показался мне Лондон, когда я увидел его издали, и как я воображал, будто здесь вновь и вновь повторяются все приключения всех моих любимых героев, и как я пришел к туманному заключению, что чудес и пророков здесь больше, чем во всех столицах мира. Мы приблизились к городу не сразу и в положенный час подъехали к гостинице в Уайтчепле – к месту нашего назначения. Я забыл, называлась ли гостиница «Синий бык» или «Синий боров»; знаю только, что это было нечто синее, чье изображение было намалевано на задней стенке кареты.
Когда кондуктор спускался с козел, взгляд его упал на меня, и он объявил, заглянув в дверь конторы:
– Кто-нибудь пришел за мальчиком, который значится как Мэрдстон из Бландерстона в Суффолке? Мальчик должен ждать здесь, пока его не затребуют.
Никто не отвечал.
– Будьте добры, сэр, попробуйте назвать Копперфилда, – сказал я, беспомощно посматривая вниз.
– Кто-нибудь пришел за мальчиком, который значится как Мэрдстон из Бландерстона в Суффолке, но откликается на фамилию Копперфилд? Мальчик должен ждать здесь, пока его не затребуют, – повторил кондуктор. – Чего молчите? Пришел кто-нибудь за ним или нет?
Нет. Никто не пришел. Я с тревогой озирался, но вопрос кондуктора не произвел ни малейшего впечатления на присутствующих, если не считать одноглазого человека в гетрах, который посоветовал надеть мне медный ошейник и поставить меня в конюшню.
Принесли лестницу, и я спустился вниз вслед за леди, походившей на стог сена: пока не убрали ее корзинку, я не осмеливался двинуться с места. Пассажиры вышли из кареты, багаж был очень скоро убран, лошадей выпрягли, и конюхи уже откатили карету в сторонку. Но все еще никто не появлялся, чтобы затребовать покрытого пылью мальчика из Бландерстона в Суффолке.
Более одинокий, чем Робинзон Крузо – на того хотя бы никто не смотрел и никто не видел, что он одинок, – я отправился в контору, прошел, по приглашению дежурного клерка, за прилавок и присел на весы, на которых взвешивали багаж. Тут, пока я сидел и смотрел на свертки, тюки и конторские книги и вдыхал запах конюшни (с той поры навеки связанный с этим утром), меня начали осаждать самые мрачные мысли, сменяя одна другую. Если допустить, что никто так и не зайдет за мной, долго ли согласятся держать меня здесь? Может быть, до тех пор, пока я не истрачу свои семь шиллингов? Придется ли мне ночевать в одном из этих деревянных ящиков, вместе с другим багажом, а утром умываться во дворе под насосом? Или меня будут выгонять на ночь, чтобы по утрам, когда открывается контора, я возвращался и ждал, не затребуют ли меня? А если допустить, что никакой ошибки не случилось и мистер Мэрдстон придумал этот план с целью избавиться от меня, что мне тогда делать? Если мне и разрешат оставаться здесь, пока я не истрачу моих семи шиллингов, то ведь у меня нет надежды остаться, когда я начну голодать! Ну да, ведь это будет неудобно и неприятно для посетителей и вдобавок введет в расходы по похоронам этого «Синего быка» или как его там зовут! Если же я немедленно уйду и постараюсь добраться до дому пешком, разве удастся мне найти дорогу, разве есть у меня надежда благополучно проделать такое большое путешествие, а если даже я и вернусь домой, разве я могу положиться на кого-нибудь, кроме Пегготи? Если бы я обратился к надлежащим властям где-нибудь по соседству и выразил бы желание пойти в солдаты или в матросы, то, по всей вероятности, меня бы не приняли – слишком я был еще мал. От этих и сотни других подобных мыслей меня бросило в жар, и голова начала кружиться от страха и тоски. Лихорадка моя была в самом разгаре, когда вошел какой-то человек и шепотом заговорил с клерком, который наклонил весы и подтолкнул меня к нему, словно я был взвешен, куплен, выдан и оплачен.
Когда я выходил из конторы, держась за руку этого нового знакомца, я украдкой посмотрел на него. Это был худощавый, бледный молодой человек со впалыми щеками и подбородком, почти таким же черным, как у мистера Мэрдстона; но на этом сходство и заканчивалось, так как щеки он брил, а волосы у него были не глянцевитые, а сухие и рыжеватые. На нем был черный костюм, также сухой и порыжевший, причем рукава и брюки были слишком коротки, а белый шейный платок не очень чист. Я не предполагал тогда – да и теперь не предполагаю, – что, кроме этого платка, он не носил никакого белья, но только один платок и был виден.
– Вы новый ученик? – спросил он.
– Да, сэр, – сказал я.
Я полагал, что это так. Точно я не знал.
– Я один из учителей Сэлем-Хауса, – сказал он.
Я отвесил ему поклон и почувствовал благоговейный страх. Мне было так неловко сообщать ученому мужу и наставнику из Сэлем-Хауса о таких пустяках, как мой сундучок, что мы уже вышли со двора и прошли некоторое расстояние, прежде чем я собрался с духом и о нем упомянул. Когда я смиренно заикнулся о том, что впоследствии он может мне пригодиться, мы повернули назад, и учитель сказал клерку, что возчик получил приказ заехать за ним в полдень.
– Простите, сэр, это далеко отсюда? – спросил я, когда мы снова прошли примерно тот же путь.