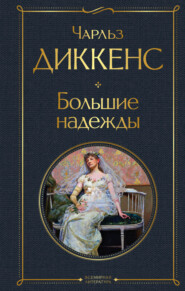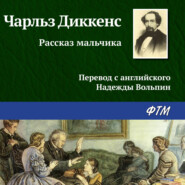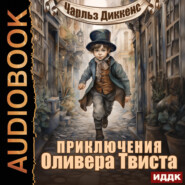По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
История Дэвида Копперфилда
Автор
Жанр
Год написания книги
1850
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я подчиняюсь первому приказу и начинаю сначала, но что касается второго, то тут меня постигает неудача, ибо я ужасный тупица. Я спотыкаюсь еще раньше, чем в первый раз, спотыкаюсь на том самом месте, которое только что благополучно миновал, и замолкаю, чтобы подумать. Но думаю я не об уроке. Я думаю о том, сколько ярдов тюля пошло на чепец мисс Мэрдстон, сколько стоит халат мистера Мэрдстона или о других подобных же нелепых вещах, к которым я не имею никакого отношения и не желаю иметь. Мистер Мэрдстон делает нетерпеливый жест, которого я давно ждал. Так же поступает и мисс Мэрдстон. Моя мать смотрит на них покорно, закрывает книгу и кладет ее возле себя, словно это недоимка, по которой мне придется рассчитаться, когда я покончу с другими уроками.
Количество этих недоимок растет, как снежный ком. Чем больше их становится, тем тупей становлюсь я. Дело безнадежное, я чувствую, что барахтаюсь в трясине чепухи и решительно не могу выкарабкаться, а потому покоряюсь судьбе. Есть нечто глубоко печальное в тех, полных отчаяния, взглядах, какими мы обмениваемся с матерью, когда я делаю все новые и новые ошибки. Но самый страшный момент этих злосчастных уроков наступает тогда, когда мать (полагая, будто ее не слышат) пытается, едва шевеля губами, подсказать мне. В это мгновение мисс Мэрдстон, давно уже подстерегавшая нас, произносит внушительно:
– Клара!
Мать вздрагивает, краснеет и слабо улыбается. Мистер Мэрдстон встает с кресла, хватает книгу и швыряет в меня или дает мне ею подзатыльник, а затем берет за плечи и выталкивает из комнаты.
Даже в том случае, если урок проходит благополучно, меня ждет самое худшее испытание в образе устрашающей арифметической задачи. Она придумана для меня и продиктована мне мистером Мэрдстоном: «Если я зайду в сырную лавку и куплю пять тысяч глостерских сыров по четыре с половиной пенса каждый и заплачу за них наличными деньгами…»
Тут я замечаю, как мисс Мэрдстон втайне ликует. Над этими сырами я ломаю себе голову без всякого толка и превращаюсь наконец в мулата, забив все поры лица грязью с моей грифельной доски; так продолжается до самого обеда, когда мне дают кусок хлеба, чтобы помочь мне справиться с моими сырами, и весь вечер я пребываю в немилости.
Теперь, по прошествии многих лет, мне кажется, будто все эти несчастные уроки обычно кончались именно так. Я готовил бы их превосходно, не будь Мэрдстонов. Но Мэрдстоны зачаровывали меня взглядом, словно две змеи – жалкую птичку. Даже тогда, когда утреннее испытание проходило благополучно, я достигал этим только того, что не оставался без обеда. Мисс Мэрдстон не могла видеть меня свободным от занятий, и как только это случалось, она обращала на меня внимание своего братца и говорила:
– Клара, дорогая, нет ничего лучше работы, задайте вашему сыну какие-нибудь упражнения.
И меня снова засаживали за книгу.
Игр со сверстниками я почти не знал, так как мрачная теология Мэрдстонов превращала всех детей в маленьких ехидн (хотя был в далекие времена некий ребенок, которого окружали ученики!) и внушала, что они портят друг друга.
От такого обращения я через полгода, естественно, стал печален, мрачен и угрюм. Этому способствовало также и то, что я чувствовал, как меня ежедневно отстраняют, оттесняют от матери. И мне кажется, я и в самом деле превратился бы в тупицу, если бы одно обстоятельство этому не помешало.
После моего отца осталось небольшое собрание книг, находившихся в комнате наверху, куда я имел доступ (она примыкала к моей комнате); никто из домашних никогда о них не вспоминал. Из этой драгоценной для меня комнатки вышли Родрик Рэндом, Перигрин Пикль, Хамфри Клинкер, Том Джонс, векфильдский священник, Дон Кихот, Жиль Блаз и Робинзон Крузо – славное воинство, составившее мне компанию. Они не давали потускнеть моей фантазии и моим надеждам на совсем иную жизнь в будущем, где-то в другом месте. Эти книги, так же как и «Тысяча и одна ночь» и «Сказки джиннов», не принесли мне вреда; если некоторые из них и могли причинить какое-то зло, то, во всяком случае, не мне, ибо я его просто не понимал. Теперь я удивляюсь, как ухитрялся я находить время для чтения, несмотря на то что корпел над своими тягостными уроками. Мне кажется странным, как мог я утешаться в своих маленьких горестях (для меня они были большими), воплощаясь в своих любимых героев, а мистера и мисс Мэрдстон превращая во всех злодеев. Я был Томом Джонсом в течение недели (Томом Джонсом в представлении ребенка – самым незлобивым существом) и целый месяц крепко верил в то, что я Родрик Рэндом. Я жадно проглотил стоявшие на полках несколько книг о путешествиях – я забыл, какие это были книги; припоминаю, как в течение нескольких дней я ходил по дому, вооруженный бруском из старой стойки для сапожных колодок, – превосходное подобие капитана королевского британского флота, который окружен дикарями и решил дорого продать свою жизнь. Но капитан никогда не терял своего достоинства, получая подзатыльники латинской грамматикой. Что до меня, то я его терял. Тем не менее капитан оставался капитаном и героем, невзирая на все грамматики всех языков в мире – живых и мертвых.
Эти книги были единственным и неизменным моим утешением. Когда я думаю об этом, передо мной всегда возникает картина летнего вечера, на кладбище играют мальчики, а я сижу у себя на постели и читаю с таким рвением, словно от этого зависит все мое будущее. Каждый амбар по соседству, каждый камень церкви и каждый уголок кладбища были связаны у меня с этими книгами и вызывали в памяти отдельные прославленные сцены. Я видел, как Том Пайпс взбирается на колокольню, я наблюдал, как Стрэп со своим мешком за плечами присаживается на изгородь отдохнуть, и я знаю, что коммодор Траньон встречается с мистером Пиклем в зальце нашего деревенского трактирчика.
Теперь читатель столь же хорошо, как и я, представляет себе, кем я был в ту пору моего детства, к которой я снова возвращаюсь.
Однажды утром, когда я со своими книгами вошел в гостиную, моя мать была чем-то обеспокоена, мисс Мэрдстон казалась особенно твердой, а мистер Мэрдстон что-то привязывал к концу своей трости, – тонкой, гибкой тросточки; когда я вошел, он замахнулся и рассек ею воздух.
– Говорю же вам, Клара, меня самого нередко секли, – произнес мистер Мэрдстон.
– Совершенно верно, – подтвердила мисс Мэрдстон.
– Вполне… возможно, дорогая Джейн, – робко пролепетала моя мать. – Но… вы думаете, это принесло пользу Эдуарду?
– А вы, Клара, думаете, что это принесло Эдуарду вред? – хмуро спросил мистер Мэрдстон.
– Вот-вот, в том-то и дело! – сказала мисс Мэрдстон.
Моя мать промолвила только: «Вы правы, дорогая Джейн», – и умолкла.
Я почувствовал, что этот разговор имеет прямое касательство ко мне, и поймал взгляд мистера Мэрдстона, устремленный на меня.
– Дэвид, сегодня ты должен быть более внимателен, чем всегда, – сказал мистер Мэрдстон, снова метнув в меня взгляд и снова рассекая тросточкой воздух; затем, закончив свои приготовления, положил ее около себя с многозначительным видом и взялся за книжку.
Это было недурное начало и недурное средство подбодрить меня. Я почувствовал, как мой урок улетучивается из головы – не одно слово за другим и не строчка за строчкой, а вся страница сразу, целиком. Я попытался поймать слова, но, казалось, если можно так выразиться, они скользили прочь от меня на коньках, плавно и быстро, и задержать их было невозможно.
Плохое было начало, а дальше пошло еще хуже. Я явился с намерением отличиться, уверенный в том, что сегодня выучил урок превосходно, но, увы, я заблуждался. Груда отложенных в сторону учебников все росла, возвещая о моих ошибках, а мисс Мэрдстон не сводила с нас глаз. И когда в конце концов мы пришли к пяти тысячам сыров (помню, в тот день он заменил их палками), моя мать залилась слезами.
– Клара! – предостерегла мисс Мэрдстон.
– Мне что-то нездоровится, дорогая Джейн, – отозвалась моя мать.
Я увидел, как он важно подмигнул сестре, встал и, взяв трость, сказал:
– Едва ли, Джейн, можно ожидать, что Клара с достойной твердостью вынесет терзания и мучения, которые причинил ей сегодня Дэвид. Это было бы стоицизмом. Клара весьма укрепилась и сделала успехи, но едва ли можно ждать от нее так много. Мы пойдем с тобой наверх, Дэвид.
Когда он уводил меня из комнаты, мать рванулась к нам. Мисс Мэрдстон сказала:
– Клара, вы с ума сошли! – и удержала ее. Мать заткнула уши и заплакала.
Он вел меня наверх в мою комнату медленно и важно – я уверен, ему доставлял удовольствие этот торжественный марш правосудия, – и, когда мы там очутились, внезапно зажал под мышкой мою голову.
– Мистер Мэрдстон! Сэр! – закричал я. – Не надо! Пожалуйста, не бейте меня! Я так старался, сэр! Но я не могу отвечать уроки при вас и мисс Мэрдстон! Не могу!
– Не можешь, Дэвид? Ну, мы попробуем вот это средство.
Он зажимал рукой мою голову, словно в тисках, но я обхватил его обеими руками и помешал ему нанести удар, умоляя его не бить меня. Помешал я только на мгновение, через секунду он больно ударил меня, и в тот же момент я вцепился зубами в руку, которой он держал меня, и прокусил ее. До сих пор меня всего передергивает, когда я вспоминаю об этом.
Он сек меня так, будто хотел засечь до смерти. Несмотря на шум, который мы подняли, я услышал, как кто-то быстро взбежал по лестнице – то были моя мать и Пегготи, и я слышал, как мать закричала. Затем он ушел и запер дверь на ключ. А я лежал на полу, дрожа как в лихорадке, истерзанный, избитый и беспомощный в своем исступлении.
Как ясно помню я, какая странная тишина царила во всем доме, когда постепенно я пришел в себя! Как ясно вспоминаю, каким преступником почувствовал я себя, когда ярость и боль чуть-чуть утихли!
Я сел и долго прислушивался, но не было слышно ни звука. С трудом я поднялся с пола и увидел в зеркале свое лицо, такое красное, опухшее и безобразное, что я ужаснулся. Боль во всем теле, когда я двигался, была мучительна, и я заплакал снова. Но эта боль была ничто по сравнению с сознанием моей вины. Оно тяготило мое сердце больше, чем если бы я был самым страшным преступником.
Начинало темнеть, я закрыл окно (почти все время я лежал, припав головой к подоконнику, то плача, то задремывая или тупо глядя в окно), как вдруг в двери щелкнул ключ, и появилась мисс Мэрдстон с хлебом, молоком и мясом. Молча поставив все это на стол и взглянув на меня с примерной твердостью, она ретировалась, и снова в двери щелкнул ключ.
Долго я сидел после того, как спустились сумерки, и гадал, придет ли кто-нибудь еще. Когда ждать было уже нечего, я разделся и лег в постель; и тут я со страхом подумал о том, что сделают со мной. Является ли преступлением совершенный мной поступок? Арестуют ли меня и заключат ли в тюрьму? Не угрожает ли мне опасность попасть на виселицу?
Никогда не забуду своего пробуждения на следующее утро, бодрого и радостного расположения духа, уже в следующий момент изменившегося под гнетом горестных, тяжелых воспоминаний. Не успел я встать, как появилась мисс Мэрдстон, коротко сказала, что я могу полчаса, но не дольше, походить по саду, и удалилась, не заперев двери, чтобы я мог воспользоваться этим разрешением.
Я так и сделал и поступал так каждое утро в течение пяти дней, пока пребывал в заключении. Если бы я увидел мою мать одну, я бросился бы перед ней на колени, умоляя простить меня, но в течение всего этого времени я не видел никого, кроме мисс Мэрдстон; правда, мисс Мэрдстон приводила меня на вечернюю молитву в гостиную, когда все были уже в сборе, но там я стоял одиноко, как юный изгой, у двери, и мой тюремщик торжественно уводил меня, покуда никто еще не поднимался с колен. Я замечал только, что моя мать стоит как можно дальше от меня и смотрит в другую сторону, так что лица ее я не мог видеть, а у мистера Мэрдстона рука обвязана широким полотняным платком.
Как долго длились эти пять дней, я не могу передать. В моих воспоминаниях они мне кажутся годами. Вот я прислушиваюсь ко всему, что происходит в доме, ко всему, что доносится до меня: позвякивают колокольчики, открываются и закрываются двери, слышатся голоса, шаги на лестнице, смех, посвистывание и пение за окном (они кажутся мне особенно невыносимыми в моем позорном заточении), неуловимое скольжение часов, особенно в темноте, когда, просыпаясь, я принимал вечер за утро, а потом убеждался, что домашние еще не ложились спать и меня еще ждет длинная-длинная ночь, печальные сновидения и кошмары… Снова утро, полдень и вечер, мальчики играют на церковном дворе, а я слежу за ними из комнаты, стараясь не подходить близко к окну, чтобы они не узнали о моем заточении… Непривычное сознание, что я не слышу собственного голоса… Короткие промежутки, когда я почти бодр, – ощущение это приходит за едой, но вот с ней покончено и снова нет бодрости… Дождь однажды вечером, дождь, несущий свежие ароматы; он льет все сильней и сильней, между моим окном и церковью, и, наконец, вместе с наступающей ночью словно обволакивает меня унынием, страхом и раскаянием, – все это, кажется мне, длилось не дни, а годы, так глубоко врезалось оно мне в память.
В последнюю ночь моего заключения меня разбудил шепот – кто-то окликал меня по имени. Я вскочил с постели и, протягивая в темноте руки, сказал:
– Пегготи, это ты?
Ответа не было, но скоро я снова услышал свое имя, произнесенное таким таинственным и страшным шепотом, что со мной сделался бы припадок, если бы у меня не мелькнула догадка – не доносится ли шепот из замочной скважины.
Я пошел ощупью к двери и, приникнув к замочной скважине, прошептал:
– Пегготи, милая, это ты?
– Я, мой дорогой Дэви! Но тише, тише, будьте как мышка, а то кошка услышит! – ответила она.
Она имела в виду мисс Мэрдстон, и я понял, сколь основательны ее опасения: комната мисс Мэрдстон была смежная с моей.
Количество этих недоимок растет, как снежный ком. Чем больше их становится, тем тупей становлюсь я. Дело безнадежное, я чувствую, что барахтаюсь в трясине чепухи и решительно не могу выкарабкаться, а потому покоряюсь судьбе. Есть нечто глубоко печальное в тех, полных отчаяния, взглядах, какими мы обмениваемся с матерью, когда я делаю все новые и новые ошибки. Но самый страшный момент этих злосчастных уроков наступает тогда, когда мать (полагая, будто ее не слышат) пытается, едва шевеля губами, подсказать мне. В это мгновение мисс Мэрдстон, давно уже подстерегавшая нас, произносит внушительно:
– Клара!
Мать вздрагивает, краснеет и слабо улыбается. Мистер Мэрдстон встает с кресла, хватает книгу и швыряет в меня или дает мне ею подзатыльник, а затем берет за плечи и выталкивает из комнаты.
Даже в том случае, если урок проходит благополучно, меня ждет самое худшее испытание в образе устрашающей арифметической задачи. Она придумана для меня и продиктована мне мистером Мэрдстоном: «Если я зайду в сырную лавку и куплю пять тысяч глостерских сыров по четыре с половиной пенса каждый и заплачу за них наличными деньгами…»
Тут я замечаю, как мисс Мэрдстон втайне ликует. Над этими сырами я ломаю себе голову без всякого толка и превращаюсь наконец в мулата, забив все поры лица грязью с моей грифельной доски; так продолжается до самого обеда, когда мне дают кусок хлеба, чтобы помочь мне справиться с моими сырами, и весь вечер я пребываю в немилости.
Теперь, по прошествии многих лет, мне кажется, будто все эти несчастные уроки обычно кончались именно так. Я готовил бы их превосходно, не будь Мэрдстонов. Но Мэрдстоны зачаровывали меня взглядом, словно две змеи – жалкую птичку. Даже тогда, когда утреннее испытание проходило благополучно, я достигал этим только того, что не оставался без обеда. Мисс Мэрдстон не могла видеть меня свободным от занятий, и как только это случалось, она обращала на меня внимание своего братца и говорила:
– Клара, дорогая, нет ничего лучше работы, задайте вашему сыну какие-нибудь упражнения.
И меня снова засаживали за книгу.
Игр со сверстниками я почти не знал, так как мрачная теология Мэрдстонов превращала всех детей в маленьких ехидн (хотя был в далекие времена некий ребенок, которого окружали ученики!) и внушала, что они портят друг друга.
От такого обращения я через полгода, естественно, стал печален, мрачен и угрюм. Этому способствовало также и то, что я чувствовал, как меня ежедневно отстраняют, оттесняют от матери. И мне кажется, я и в самом деле превратился бы в тупицу, если бы одно обстоятельство этому не помешало.
После моего отца осталось небольшое собрание книг, находившихся в комнате наверху, куда я имел доступ (она примыкала к моей комнате); никто из домашних никогда о них не вспоминал. Из этой драгоценной для меня комнатки вышли Родрик Рэндом, Перигрин Пикль, Хамфри Клинкер, Том Джонс, векфильдский священник, Дон Кихот, Жиль Блаз и Робинзон Крузо – славное воинство, составившее мне компанию. Они не давали потускнеть моей фантазии и моим надеждам на совсем иную жизнь в будущем, где-то в другом месте. Эти книги, так же как и «Тысяча и одна ночь» и «Сказки джиннов», не принесли мне вреда; если некоторые из них и могли причинить какое-то зло, то, во всяком случае, не мне, ибо я его просто не понимал. Теперь я удивляюсь, как ухитрялся я находить время для чтения, несмотря на то что корпел над своими тягостными уроками. Мне кажется странным, как мог я утешаться в своих маленьких горестях (для меня они были большими), воплощаясь в своих любимых героев, а мистера и мисс Мэрдстон превращая во всех злодеев. Я был Томом Джонсом в течение недели (Томом Джонсом в представлении ребенка – самым незлобивым существом) и целый месяц крепко верил в то, что я Родрик Рэндом. Я жадно проглотил стоявшие на полках несколько книг о путешествиях – я забыл, какие это были книги; припоминаю, как в течение нескольких дней я ходил по дому, вооруженный бруском из старой стойки для сапожных колодок, – превосходное подобие капитана королевского британского флота, который окружен дикарями и решил дорого продать свою жизнь. Но капитан никогда не терял своего достоинства, получая подзатыльники латинской грамматикой. Что до меня, то я его терял. Тем не менее капитан оставался капитаном и героем, невзирая на все грамматики всех языков в мире – живых и мертвых.
Эти книги были единственным и неизменным моим утешением. Когда я думаю об этом, передо мной всегда возникает картина летнего вечера, на кладбище играют мальчики, а я сижу у себя на постели и читаю с таким рвением, словно от этого зависит все мое будущее. Каждый амбар по соседству, каждый камень церкви и каждый уголок кладбища были связаны у меня с этими книгами и вызывали в памяти отдельные прославленные сцены. Я видел, как Том Пайпс взбирается на колокольню, я наблюдал, как Стрэп со своим мешком за плечами присаживается на изгородь отдохнуть, и я знаю, что коммодор Траньон встречается с мистером Пиклем в зальце нашего деревенского трактирчика.
Теперь читатель столь же хорошо, как и я, представляет себе, кем я был в ту пору моего детства, к которой я снова возвращаюсь.
Однажды утром, когда я со своими книгами вошел в гостиную, моя мать была чем-то обеспокоена, мисс Мэрдстон казалась особенно твердой, а мистер Мэрдстон что-то привязывал к концу своей трости, – тонкой, гибкой тросточки; когда я вошел, он замахнулся и рассек ею воздух.
– Говорю же вам, Клара, меня самого нередко секли, – произнес мистер Мэрдстон.
– Совершенно верно, – подтвердила мисс Мэрдстон.
– Вполне… возможно, дорогая Джейн, – робко пролепетала моя мать. – Но… вы думаете, это принесло пользу Эдуарду?
– А вы, Клара, думаете, что это принесло Эдуарду вред? – хмуро спросил мистер Мэрдстон.
– Вот-вот, в том-то и дело! – сказала мисс Мэрдстон.
Моя мать промолвила только: «Вы правы, дорогая Джейн», – и умолкла.
Я почувствовал, что этот разговор имеет прямое касательство ко мне, и поймал взгляд мистера Мэрдстона, устремленный на меня.
– Дэвид, сегодня ты должен быть более внимателен, чем всегда, – сказал мистер Мэрдстон, снова метнув в меня взгляд и снова рассекая тросточкой воздух; затем, закончив свои приготовления, положил ее около себя с многозначительным видом и взялся за книжку.
Это было недурное начало и недурное средство подбодрить меня. Я почувствовал, как мой урок улетучивается из головы – не одно слово за другим и не строчка за строчкой, а вся страница сразу, целиком. Я попытался поймать слова, но, казалось, если можно так выразиться, они скользили прочь от меня на коньках, плавно и быстро, и задержать их было невозможно.
Плохое было начало, а дальше пошло еще хуже. Я явился с намерением отличиться, уверенный в том, что сегодня выучил урок превосходно, но, увы, я заблуждался. Груда отложенных в сторону учебников все росла, возвещая о моих ошибках, а мисс Мэрдстон не сводила с нас глаз. И когда в конце концов мы пришли к пяти тысячам сыров (помню, в тот день он заменил их палками), моя мать залилась слезами.
– Клара! – предостерегла мисс Мэрдстон.
– Мне что-то нездоровится, дорогая Джейн, – отозвалась моя мать.
Я увидел, как он важно подмигнул сестре, встал и, взяв трость, сказал:
– Едва ли, Джейн, можно ожидать, что Клара с достойной твердостью вынесет терзания и мучения, которые причинил ей сегодня Дэвид. Это было бы стоицизмом. Клара весьма укрепилась и сделала успехи, но едва ли можно ждать от нее так много. Мы пойдем с тобой наверх, Дэвид.
Когда он уводил меня из комнаты, мать рванулась к нам. Мисс Мэрдстон сказала:
– Клара, вы с ума сошли! – и удержала ее. Мать заткнула уши и заплакала.
Он вел меня наверх в мою комнату медленно и важно – я уверен, ему доставлял удовольствие этот торжественный марш правосудия, – и, когда мы там очутились, внезапно зажал под мышкой мою голову.
– Мистер Мэрдстон! Сэр! – закричал я. – Не надо! Пожалуйста, не бейте меня! Я так старался, сэр! Но я не могу отвечать уроки при вас и мисс Мэрдстон! Не могу!
– Не можешь, Дэвид? Ну, мы попробуем вот это средство.
Он зажимал рукой мою голову, словно в тисках, но я обхватил его обеими руками и помешал ему нанести удар, умоляя его не бить меня. Помешал я только на мгновение, через секунду он больно ударил меня, и в тот же момент я вцепился зубами в руку, которой он держал меня, и прокусил ее. До сих пор меня всего передергивает, когда я вспоминаю об этом.
Он сек меня так, будто хотел засечь до смерти. Несмотря на шум, который мы подняли, я услышал, как кто-то быстро взбежал по лестнице – то были моя мать и Пегготи, и я слышал, как мать закричала. Затем он ушел и запер дверь на ключ. А я лежал на полу, дрожа как в лихорадке, истерзанный, избитый и беспомощный в своем исступлении.
Как ясно помню я, какая странная тишина царила во всем доме, когда постепенно я пришел в себя! Как ясно вспоминаю, каким преступником почувствовал я себя, когда ярость и боль чуть-чуть утихли!
Я сел и долго прислушивался, но не было слышно ни звука. С трудом я поднялся с пола и увидел в зеркале свое лицо, такое красное, опухшее и безобразное, что я ужаснулся. Боль во всем теле, когда я двигался, была мучительна, и я заплакал снова. Но эта боль была ничто по сравнению с сознанием моей вины. Оно тяготило мое сердце больше, чем если бы я был самым страшным преступником.
Начинало темнеть, я закрыл окно (почти все время я лежал, припав головой к подоконнику, то плача, то задремывая или тупо глядя в окно), как вдруг в двери щелкнул ключ, и появилась мисс Мэрдстон с хлебом, молоком и мясом. Молча поставив все это на стол и взглянув на меня с примерной твердостью, она ретировалась, и снова в двери щелкнул ключ.
Долго я сидел после того, как спустились сумерки, и гадал, придет ли кто-нибудь еще. Когда ждать было уже нечего, я разделся и лег в постель; и тут я со страхом подумал о том, что сделают со мной. Является ли преступлением совершенный мной поступок? Арестуют ли меня и заключат ли в тюрьму? Не угрожает ли мне опасность попасть на виселицу?
Никогда не забуду своего пробуждения на следующее утро, бодрого и радостного расположения духа, уже в следующий момент изменившегося под гнетом горестных, тяжелых воспоминаний. Не успел я встать, как появилась мисс Мэрдстон, коротко сказала, что я могу полчаса, но не дольше, походить по саду, и удалилась, не заперев двери, чтобы я мог воспользоваться этим разрешением.
Я так и сделал и поступал так каждое утро в течение пяти дней, пока пребывал в заключении. Если бы я увидел мою мать одну, я бросился бы перед ней на колени, умоляя простить меня, но в течение всего этого времени я не видел никого, кроме мисс Мэрдстон; правда, мисс Мэрдстон приводила меня на вечернюю молитву в гостиную, когда все были уже в сборе, но там я стоял одиноко, как юный изгой, у двери, и мой тюремщик торжественно уводил меня, покуда никто еще не поднимался с колен. Я замечал только, что моя мать стоит как можно дальше от меня и смотрит в другую сторону, так что лица ее я не мог видеть, а у мистера Мэрдстона рука обвязана широким полотняным платком.
Как долго длились эти пять дней, я не могу передать. В моих воспоминаниях они мне кажутся годами. Вот я прислушиваюсь ко всему, что происходит в доме, ко всему, что доносится до меня: позвякивают колокольчики, открываются и закрываются двери, слышатся голоса, шаги на лестнице, смех, посвистывание и пение за окном (они кажутся мне особенно невыносимыми в моем позорном заточении), неуловимое скольжение часов, особенно в темноте, когда, просыпаясь, я принимал вечер за утро, а потом убеждался, что домашние еще не ложились спать и меня еще ждет длинная-длинная ночь, печальные сновидения и кошмары… Снова утро, полдень и вечер, мальчики играют на церковном дворе, а я слежу за ними из комнаты, стараясь не подходить близко к окну, чтобы они не узнали о моем заточении… Непривычное сознание, что я не слышу собственного голоса… Короткие промежутки, когда я почти бодр, – ощущение это приходит за едой, но вот с ней покончено и снова нет бодрости… Дождь однажды вечером, дождь, несущий свежие ароматы; он льет все сильней и сильней, между моим окном и церковью, и, наконец, вместе с наступающей ночью словно обволакивает меня унынием, страхом и раскаянием, – все это, кажется мне, длилось не дни, а годы, так глубоко врезалось оно мне в память.
В последнюю ночь моего заключения меня разбудил шепот – кто-то окликал меня по имени. Я вскочил с постели и, протягивая в темноте руки, сказал:
– Пегготи, это ты?
Ответа не было, но скоро я снова услышал свое имя, произнесенное таким таинственным и страшным шепотом, что со мной сделался бы припадок, если бы у меня не мелькнула догадка – не доносится ли шепот из замочной скважины.
Я пошел ощупью к двери и, приникнув к замочной скважине, прошептал:
– Пегготи, милая, это ты?
– Я, мой дорогой Дэви! Но тише, тише, будьте как мышка, а то кошка услышит! – ответила она.
Она имела в виду мисс Мэрдстон, и я понял, сколь основательны ее опасения: комната мисс Мэрдстон была смежная с моей.