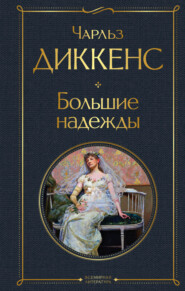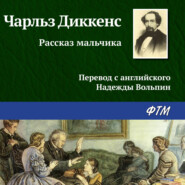По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Колокола
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Колокола
Чарльз Диккенс
Рождественские повести
Чарльз Диккенс
КОЛОКОЛА
Рассказ о Духах церковных часов
Первая четверть
Немного найдется людей, – а поскольку желательно с самого начала устранить возможные недомолвки между рассказчиком и читателем, я прошу отметить, что свое утверждение отношу не только к людям молодым или к малым детям, но ко всем решительно людям, детям и взрослым, старым и молодым, тем, что еще тянутся кверху, и тем, что уже растут книзу, – немного, повторяю, найдется людей, которые согласились бы спать в церкви. Я не говорю – в жаркий летний день, во время проповеди (такое иногда случалось), нет, я имею в виду ночью и в полном одиночестве. Я знаю, что при ярком свете дня такое мнение многим покажется до крайности удивительным. Но оно касается ночи. И обсуждать его следует ночью. И я ручаюсь, что сумею отстоять его в любую ветреную зимнюю ночь, выбранную для этого случая, в споре с любым из множества противников, который захочет встретиться со мною наедине на старом кладбище, у дверей старой церкви, предварительно разрешив мне – если требуется ему лишний довод – запереть его в этой церкви до утра.
Ибо есть у ночного ветра удручающая привычка рыскать вокруг такой церкви, испуская жалобные стоны, и невидимой рукой дергать двери и окна, и выискивать, в какую бы щель пробраться. Проникнув же внутрь и словно не найдя того, что искал, а чего он искал – неведомо, он воет, и причитает, и просится обратно на волю; мало того, что он мечется по приделам, кружит и кружит между колонн, задевает басы органа: нет, он еще взмывает под самую крышу и норовит разнять стропила; потом, отчаявшись, бросается вниз, на каменные плиты пола, и ворча заползает в склепы. И тут же тихонько вылезает оттуда и крадется вдоль стен, точно читая шепотом надписи в память усопших. Прочитав одни, он разражается пронзительным хохотом, над другими горестно стонет и плачет. А послушать его, когда он заберется в алтарь! Так и кажется, что он выводит там заунывную песнь о злодеяниях и убийствах, о ложных богах, которым поклоняются вопреки скрижалям Завета – с виду таким красивым и гладким, а на самом деле поруганным и разбитым. Ох, помилуй нас, господи, мы тут так уютно уселись в кружок у огня. Поистине страшный голос у полночного ветра, поющего в церкви!
А вверху-то, на колокольне! Вот где разбойник ветер ревет и свищет! Вверху, на колокольне, где он волен шнырять туда-сюда в пролеты арок и в амбразуры, завиваться винтом вокруг узкой отвесной лестницы, крутить скрипучую флюгарку и сотрясать всю башню так, что ее дрожь пробирает! Вверху, на колокольне, там, где вышка для звонарей и железные поручни изъедены ржавчиной, а свинцовые листы кровли, покоробившиеся от частой смены жары и холода, гремят и прогибаются, если ступит на них невзначай нога человека; где птицы прилепили свои растрепанные гнезда в углах между старых дубовых брусьев и балок; и пыль состарилась и поседела; и пятнистые пауки, разжиревшие и обленившиеся на покое, мерно покачиваются в воздухе, колеблемом колокольным звоном, и никогда не покидают своих домотканых воздушных замков, не лезут в тревоге вверх, как матросы по вантам, не падают наземь и потом не перебирают проворно десятком ног, спасая одну-единственную жизнь! Вверху на колокольне старой церкви, много выше огней и глухих шумов города и много ниже летящих облаков, бросающих на него свою тень, – вот где уныло и жутко в зимнюю ночь; и там вверху, на колокольне одной старой церкви, жили колокола, о которых я поведу рассказ.
То были очень старые колокола, уж вы мне поверьте. Когда-то давно их крестили епископы[1 - Когда-то давно их крестили епископы… – Обычай давать новым колоколам имена существовал в старину и в России.], – так давно, что свидетельство об их крещении потерялось еще в незапамятные времена и никто не знал, как их нарекли. Были у них крестные отцы и крестные матери (сам я, к слову сказать, скорее отважился бы пойте в крестные отцы к колоколу, нежели к младенцу мужского пола), и, наверно, каждый из них, как полагается, получил в подарок серебряный стаканчик. Но время скосило их восприемников, а Генрих Восьмой переплавил их стаканчики[2 - …Генрих Восьмой переплавил их стаканчики. – При Генрихе VIII (1509—1547) Англия отказалась признавать власть папы римского и король стал официально «главою церкви». В Англии было закрыто несколько сот монастырей и конфисковано несметное количество церковного имущества.]; и теперь они висели на колокольне безыменные и бесстаканные.
Но только не бессловесные. Отнюдь нет. У них были громкие, чистые, заливистые, звонкие голоса, далеко разносившиеся по ветру. Да и не такие робкие это были колокола, чтобы подчиняться прихотям ветра: когда находила на него блажь дуть не в ту сторону, они храбро с ним боролись и все равно по-царски щедро дарили своим радостным звоном каждого, кому хотелось его услышать; известны случаи, когда в бурную ночь они решали во что бы то ни стало достигнуть слуха несчастной матери, склонившейся над больным ребенком, или жены ушедшего в плавание моряка, и тогда им удавалось наголову разбить даже северо-западного буяна, прямо-таки расколошматить его, как выражался Тоби Вэк; ибо, хотя обычно его называли Трухти Вэк, настоящее его имя было Тоби, и никто не мог переименовать его (кроме как в Тобиаса) без особого на то постановления парламента: ведь в свое время над ним, так же как над колоколами, совершили по всем правилам обряд крещения, пусть и не столь торжественно и не при столь громких кликах народного ликования.
Должен признаться, что я лично разделяю суждение Тоби Вэка – уж кто-кто, а он-то имел полную возможность составить себе правильное суждение на этот счет. Что утверждал Тоби Вэк, то утверждаю и я. И я всегда готов постоять за него, хотя стоять-то ему приходилось, да еще целыми днями (и очень тоскливое это было занятие) как раз перед дверью церкви. Дело в том, что Тоби Вэк был рассыльным, и именно здесь он дожидался поручений.
А каково дожидаться в таком месте в зимнее время, когда тебя просвистывает насквозь, и весь покрываешься гусиной кожей, и нос синеет, а глаза краснеют, и стынут ноги, и зуб на зуб не попадает, – это Тоби Вэк знал как нельзя лучше. Ветер – особенно восточный – налетал из-за угла с такой яростью, словно затем только и принесся с того конца света, чтобы поизмываться над Тоби. И нередко казалось, что он сгоряча проскакивал дальше, чем следует, потому что, выметнувшись из-за угла и миновав Тоби, он круто поворачивал обратно, словно восклицая: «Ах, вот он где!» – и тот же час куцый белый фартук Тоби вскидывало ему на голову (так задирают курточку напроказившему мальчишке), жиденькая тросточка начинала беспомощно трепыхаться в его руке, ноги выписывали самые невероятные кренделя, а всего Тоби, накренившегося к земле, крутило то вправо то влево, и так швыряло и било, и трепало и дергало, и мотало и поднимало в воздух, что еще немножко – и показалось бы настоящим чудом, почему он не взлетает под облака – как то бывает иногда со скопищами лягушек, улиток и прочих легковесных тварей – и не проливается дождем, к великому удивлению местных жителей, на какой-нибудь отдаленный уголок земли, где в глаза не видали рассыльных.
Но ветреные дни, хотя Тоби в эти дни и доставалось так немилосердно, все же были для него почти праздниками. Честное слово. Ему казалось, что в такие дни время идет быстрее и не так долго приходится ждать шестипенсовика; когда он бывал голоден и удручен, необходимость бороться с озорной стихией развлекала его и подбадривала. Мороз или, скажем, снег – это тоже было для него развлечение; он даже считал, что они ему на пользу, хотя в каком именно смысле на пользу, это он вряд ли сумел бы объяснить. Но так или иначе, ветер, мороз и снег, да еще, пожалуй, хороший крупный град приятно разнообразили жизнь Тоби Вэка.
Мокреть – вот что было хуже всего, – холодная, липкая мокреть, которая окутывала его, точно отсыревшая шинель, – другой шинели у него и не было, а без этой он предпочел бы обойтись! Мокрые дни, когда с неба неспешно и упорно сеял частый дождь, когда улица, так же как Тоби, давилась и захлебывалась туманом; когда от бесчисленных зонтов валил пар и, сталкиваясь на тесном тротуаре, они кружились, точно волчки, прыская во все стороны ледяными струйками; когда вода бурлила в сточных канавах и шумела в переполненных желобах; когда с карнизов и выступов церкви кап-кап-капало на Тоби и тонкая подстилка из соломы, на которой он стоял, мгновенно превращалась в грязное месиво, – вот это были поистине тяжелые дни. Тогда-то, и только тогда, можно было увидеть, как мрачнело и вытягивалось лицо у Тоби, тревожно выглядывавшего из своего укрытия в уголке церковной стены – укрытия до того жалкого, что тень, которую оно летом отбрасывало на залитую солнцем панель, была не шире тросточки. Но стоило Тоби, отойдя от стены, раз десять протрусить взад-вперед по тротуару, чтобы немножко согреться, как он, даже в такие дни, снова веселел и повеселевший возвращался в свое убежище.
Трухти его прозвали за его любимый аллюр, усвоенный им для большей скорости, хотя и не дававший ее. Шагом он, возможно, передвигался бы быстрее; даже наверно так; но если бы отнять у Тоби его трусцу, он тут же слег бы и умер. Из-за нее он в мокрую погоду бывал весь забрызган грязью; она причиняла ему уйму хлопот; ходить шагом было бы ему несравненно легче; но отчасти поэтому он и трусил рысцой с таким упорством. Щуплый, слабосильный старик, по своим намерениям Тоби был настоящим Геркулесом. Он не любил получать деньги даром. Мысль, что он честно зарабатывает свой хлеб, доставляла ему огромное удовольствие, а отказываться от удовольствий при его бедности было ему не по средствам. Когда в руки ему попадало письмо или пакет, за доставку которого он получал шиллинг, а то и полтора, его мужество, и без того не малое, еще возрастало. Он пускался трусить по улице, покрикивая быстроногим почтальонам, шагавшим впереди, чтобы они посторонились, ибо он свято верил, что непременно, рано или поздно, нагонит их, а потом и обгонит; и столь же твердо было его убеждение – не часто, впрочем, подвергавшееся проверке, – что он может донести любую тяжесть, какую вообще способен поднять человек.
Итак, даже выбираясь из своею уголка, чтобы погреться в дождливый день, Тоби трусил. Своими дырявыми башмаками прокладывая на слякоти ломаную линию мокрых следов; согнув ноги в коленях, засунув тросточку под мышку, дуя на озябшие руки и крепко их потирая, потому что очень уж плохо защищали их от холода поношенные серые шерстяные рукавицы, в которых отдельная комнатка отведена была только большому пальцу, а остальные помешались в общей зале, – Тоби трусил и трусил. И сходя с панели на мостовую, чтобы посмотреть вверх на звонницу, когда заводили свою музыку колокола, Тоби тоже передвигался трусцой.
Последнее из упомянутых передвижений Тоби совершал по нескольку раз на дню: ведь колокола были его друзьями, и когда он слышал их голоса, ему всегда хотелось взглянуть на их жилище и подумать о том, как их там раскачивают и какие по ним бьют языки. Может, они еще потому его так интересовали, что было между ними и им самим много общего. Они висели на своем месте в любую погоду, под дождем и ветром; окружающие церковь дома они видели только снаружи; никогда не приближались к жаркому огню каминов, бросавшему отблески на оконные стекла и клубами дыма вырывавшемуся из труб; и могли только издали поглядывать на разные вкусные вещи, которые хозяева и мальчики из магазинов знай вручали толстым кухаркам то с парадного хода, то во дворике у кухонной двери. В окнах появлялись и снова исчезали лица – иногда красивые лица, молодые, приветливые, иногда наоборот, – но откуда они появляются и куда исчезают, и бывает ли хоть раз в году, чтобы обладатели этих лиц, когда шевелят губами, сказали про него доброе слово, – обо всем этом Тоби (хотя он часто раздумывал о таких пустяках, стоя без дела на улице) знал не больше, чем колокола на своей колокольне.
Тоби не был казуистом – во всяком случае, не знал за собой такого греха, – и я не хочу сказать, что когда он только заинтересовался колоколами и из редких нитей своего первоначального знакомства с ними стал сплетать более прочную и плотную ткань, то перебрал одно за другим все эти соображения или мысленно устроил им торжественный смотр. А хочу я сказать – и сейчас скажу, – что подобно тому как различные части тела Тоби, например, его пищеварительные органы, достигали известной цели самостоятельно, посредством множества действий, о которых он понятия не имел и которые, доведись ему узнать о них, чрезвычайно бы его удивили, – так и мозг Тоби, без его ведома и соучастия, привел в движение все эти пружины и колесики, да еще тысячи других в придачу, и таким образом породил его симпатию к колоколам.
Я мог бы даже сказать – любовь, и это не было бы оговоркой, хотя далеко не точно определяло бы очень сложное чувство Тоби. Ибо он, будучи сам человеком простым, наделял колокола загадочным и суровым нравом. Они были такие таинственные – слышно их часто, а видеть не видно; так высоко было до них, и так далеко, и такие они таили в себе звучные и мощные напевы, что он чувствовал к ним какой-то благоговейный страх; и порой, глядя вверх на темные стрельчатые окна башни, он бывал готов к тому, что его вот-вот поманит оттуда нечто – не колокол, нет, но то, что ему так часто слышалось в колокольном звоне. И, однако же, Тоби с негодованием отвергал вздорный слух, будто на колокольне водятся привидения, – ведь это значило бы, что колокола сродни всякой нечисти. Словом, они очень часто звучали у него в ушах, и очень часто присутствовали в его мыслях, но всегда были у него на хорошем счету; и очень часто, заглядевшись с разинутым ртом на верхушку колокольни, где они висели, он так сворачивал себе шею, что ему приходилось лишний раз протрусить взад-вперед, чтобы вернуть ее в прежнее положение.
Этим-то он и занимался однажды, холодным зимним днем, когда отзвук последнего из ударов, только что возвестивших полдень, сонно гудел под сводами башни как огромный музыкальный шмель.
– Время обедать, – сказал Тоби, труся взад-вперед мимо дверей церкви.
Нос у Тоби был ярко-красный, и веки ярко-красные, а плечи его находились в очень близком соседстве с ушами, а ноги совсем не желали гнуться, и вообще он, видимо, уже давно забыл, когда ему было тепло.
– Время обедать, а? – повторил Тоби, пользуясь своей правой рукавицей в качестве, так сказать, боксерской перчатки и колотя собственную грудь за то, что она озябла. – Нда-а.
После этого он минуты две трусил молча.
– Нет ничего на свете… – заговорил он снова, но тут же остановился как вкопанный и, выразив на лице неподдельный интерес и некоторую тревогу, стал тщательно, снизу доверху, ощупывать свой нос. Нос был пустячный, и, чтобы ощупать его, не потребовалось много времени.
– А я уж думал, он куда девался, – сказал Тоби, вновь пускаясь трусить по панели. – Нет, весь тут, сердешный. Да и вздумай он сбежать, я бы, ей-ей, не стал винить его. Служба у него в холодную погоду трудная, и надеяться особенно не на что – я ведь табак не нюхаю. Ему, бедняге, и во всякую-то погоду приходится несладко: если в кои веки и учует вкусный запах, то скорей всего запах чужого обеда, который несут из пекарни.
Мысль эта напомнила ему про другую, оставшуюся незаконченной.
– Нет ничего на свете, – сказал Тоби, – столь постоянного, как время обеда, и нет ничего на свете столь непостоянного, как обед. В этом и состоит большое различие между тем и другим. Не сразу я до этого додумался. Интересно знать, может быть какой-нибудь джентльмен решил бы, что такое открытие стоит купить для газетной статьи? Или для парламентской речи?
Тоби, конечно, шутил, – он тут же устыдился и с укором покачал головой.
– О, господи, – сказал Тоби, – газеты и без того полным-полны открытий, и парламент тоже. Взять хоть газету от прошлой недели, – он извлек из кармана замызганный листок и поглядел на него, держа в вытянутой руке, – полным-полно открытий! Сплошные открытия! Я, как и всякий человек, люблю узнавать новости, – медленно проговорил Тоби, еще раз перегибая листок пополам и засовывая его обратно в карман, – но последнее время газеты читать – одно расстройство. Даже страх берет. Просто не знаю, до чего мы, бедняки, дойдем. Дай бог, чтобы дошли до чего-нибудь хорошего в новом году, благо он наступает!
– Отец! Да отец же! – произнес ласковый голос у него над ухом.
Тоби ничего не слышал, он продолжал трусить взад-вперед, погруженный в свои мысли и разговаривая сам с собою.
– Выходит, будто мы всегда не правы, и оправдать нас нечем, и исправить нас невозможно, – сказал Тоби. – Сам-то я неученый, где уж мне разобраться, имеем мы право жить на земле или нет. Иней раз думается, что какое-никакое, а все-таки имеем, а иной раз думается, что мы здесь лишние. Бывает, до того запутаешься, что даже не можешь понять, есть в нас хоть что-нибудь хорошее, или мы так и родимся дурными. Выходит, будто мы ведем себя ужасно, будто мы всем доставляем кучу хлопот; вечно на нас жалуются, кого-то от нас предостерегают. Так ли, этак ли, а в газетах только о нас и пишут. Опять же новый год, – сказал Тоби сокрушенно. – Вообще-то я могу перенести любую беду не хуже другого, даже лучше, потому что я сильный как лев, а это не про всякого скажешь, – но что если мы и в самом деле не имеем права на новый год… что если мы и в самом деле лишние…
– Отец! Да отец же! – повторил ласковый голос.
На этот раз Тоби услышал; вздрогнул; остановился; изменил направление своего взгляда, который перед тем был устремлен куда-то вдаль, словно искал ответа в самом сердце наступающего года, – и тогда оказалось, что он стоит лицом к лицу со своей родной дочерью и смотрит ей прямо в глаза.
И какие же ясные это были глаза – просто чудо! Глаза, в которые сколько ни гляди, не измерить их глубины. Темные глаза, которые в ответ на любопытный взгляд не сверкали своенравным огнем, но струили тихое, честное, спокойное, терпеливое сияние – сродни тому свету, которому повелел быть творец. Глаза прекрасные, и правдивые, и полные надежды – надежды столь молодой и невинной, столь бодрой, светлой и крепкой (хотя они двадцать лет видели перед собой только труд и бедность), что для Тоби Вэка они превратились в голос и сказали: «По-моему, какое-никакое, а все-таки право жить на земле мы имеем!»
Тоби поцеловал губы, которые возникли перед ним одновременно с этими глазами, и сжал цветущее личико между ладоней.
– Голубка моя, – сказал Тоби. – Что случилось? Я не думал, что ты сегодня придешь, Мэг.
– Я и сама не думала, что приду, отец, – воскликнула девушка, кивая головкой и улыбаясь. – А вот пришла. Да еще и принесла кое-что.
– Это как же, – начал Тоби, с интересом поглядывая на корзинку с крышкой, которую она держала в руке, – ты хочешь сказать, что ты…
– Понюхай, милый, – сказала Мэг. – Ты только понюхай!
Тоби на радостях уже готов был приподнять крышку, но Мэг проворно отвела его руку.
– Нет, нет, нет, – сказала она, веселясь, как ребенок. – Надо растянуть удовольствие. Я приподниму только краешек, са-амый краешек, – и она так и сделала, очень осторожно, и понизила голос, точно опасаясь, что ее услышат из корзинки. – Вот так. Теперь нюхай. Что это?
Тоби всего разок шмыгнул носом над корзинкой и воскликнул в упоении:
– Да оно горячее!
– Еще какое горячее! – подхватила Мэг. – Ха-ха-ха! С пылу с жару!
– Ха-ха-ха! – покатился Тоби и даже подрыгал ногой. – С пылу с жару!
– Ну, а что это, отец? – спросила Мэг. – Ведь ты еще не угадал, что это. А ты должен угадать. Пока не угадаешь, не дам, и не надейся. Ты не спеши! Погоди минутку! Приоткроем еще немножечко. Ну, угадывай.
Мэг ужасно боялась, как бы он не отгадал слишком быстро; она даже отступила на шаг, протягивая к нему корзинку; и передернула круглыми плечиками; и заткнула пальцами ухо, точно этим могла помешать верному слову сорваться с языка Тоби; и все время тихонько смеялась.
Чарльз Диккенс
Рождественские повести
Чарльз Диккенс
КОЛОКОЛА
Рассказ о Духах церковных часов
Первая четверть
Немного найдется людей, – а поскольку желательно с самого начала устранить возможные недомолвки между рассказчиком и читателем, я прошу отметить, что свое утверждение отношу не только к людям молодым или к малым детям, но ко всем решительно людям, детям и взрослым, старым и молодым, тем, что еще тянутся кверху, и тем, что уже растут книзу, – немного, повторяю, найдется людей, которые согласились бы спать в церкви. Я не говорю – в жаркий летний день, во время проповеди (такое иногда случалось), нет, я имею в виду ночью и в полном одиночестве. Я знаю, что при ярком свете дня такое мнение многим покажется до крайности удивительным. Но оно касается ночи. И обсуждать его следует ночью. И я ручаюсь, что сумею отстоять его в любую ветреную зимнюю ночь, выбранную для этого случая, в споре с любым из множества противников, который захочет встретиться со мною наедине на старом кладбище, у дверей старой церкви, предварительно разрешив мне – если требуется ему лишний довод – запереть его в этой церкви до утра.
Ибо есть у ночного ветра удручающая привычка рыскать вокруг такой церкви, испуская жалобные стоны, и невидимой рукой дергать двери и окна, и выискивать, в какую бы щель пробраться. Проникнув же внутрь и словно не найдя того, что искал, а чего он искал – неведомо, он воет, и причитает, и просится обратно на волю; мало того, что он мечется по приделам, кружит и кружит между колонн, задевает басы органа: нет, он еще взмывает под самую крышу и норовит разнять стропила; потом, отчаявшись, бросается вниз, на каменные плиты пола, и ворча заползает в склепы. И тут же тихонько вылезает оттуда и крадется вдоль стен, точно читая шепотом надписи в память усопших. Прочитав одни, он разражается пронзительным хохотом, над другими горестно стонет и плачет. А послушать его, когда он заберется в алтарь! Так и кажется, что он выводит там заунывную песнь о злодеяниях и убийствах, о ложных богах, которым поклоняются вопреки скрижалям Завета – с виду таким красивым и гладким, а на самом деле поруганным и разбитым. Ох, помилуй нас, господи, мы тут так уютно уселись в кружок у огня. Поистине страшный голос у полночного ветра, поющего в церкви!
А вверху-то, на колокольне! Вот где разбойник ветер ревет и свищет! Вверху, на колокольне, где он волен шнырять туда-сюда в пролеты арок и в амбразуры, завиваться винтом вокруг узкой отвесной лестницы, крутить скрипучую флюгарку и сотрясать всю башню так, что ее дрожь пробирает! Вверху, на колокольне, там, где вышка для звонарей и железные поручни изъедены ржавчиной, а свинцовые листы кровли, покоробившиеся от частой смены жары и холода, гремят и прогибаются, если ступит на них невзначай нога человека; где птицы прилепили свои растрепанные гнезда в углах между старых дубовых брусьев и балок; и пыль состарилась и поседела; и пятнистые пауки, разжиревшие и обленившиеся на покое, мерно покачиваются в воздухе, колеблемом колокольным звоном, и никогда не покидают своих домотканых воздушных замков, не лезут в тревоге вверх, как матросы по вантам, не падают наземь и потом не перебирают проворно десятком ног, спасая одну-единственную жизнь! Вверху на колокольне старой церкви, много выше огней и глухих шумов города и много ниже летящих облаков, бросающих на него свою тень, – вот где уныло и жутко в зимнюю ночь; и там вверху, на колокольне одной старой церкви, жили колокола, о которых я поведу рассказ.
То были очень старые колокола, уж вы мне поверьте. Когда-то давно их крестили епископы[1 - Когда-то давно их крестили епископы… – Обычай давать новым колоколам имена существовал в старину и в России.], – так давно, что свидетельство об их крещении потерялось еще в незапамятные времена и никто не знал, как их нарекли. Были у них крестные отцы и крестные матери (сам я, к слову сказать, скорее отважился бы пойте в крестные отцы к колоколу, нежели к младенцу мужского пола), и, наверно, каждый из них, как полагается, получил в подарок серебряный стаканчик. Но время скосило их восприемников, а Генрих Восьмой переплавил их стаканчики[2 - …Генрих Восьмой переплавил их стаканчики. – При Генрихе VIII (1509—1547) Англия отказалась признавать власть папы римского и король стал официально «главою церкви». В Англии было закрыто несколько сот монастырей и конфисковано несметное количество церковного имущества.]; и теперь они висели на колокольне безыменные и бесстаканные.
Но только не бессловесные. Отнюдь нет. У них были громкие, чистые, заливистые, звонкие голоса, далеко разносившиеся по ветру. Да и не такие робкие это были колокола, чтобы подчиняться прихотям ветра: когда находила на него блажь дуть не в ту сторону, они храбро с ним боролись и все равно по-царски щедро дарили своим радостным звоном каждого, кому хотелось его услышать; известны случаи, когда в бурную ночь они решали во что бы то ни стало достигнуть слуха несчастной матери, склонившейся над больным ребенком, или жены ушедшего в плавание моряка, и тогда им удавалось наголову разбить даже северо-западного буяна, прямо-таки расколошматить его, как выражался Тоби Вэк; ибо, хотя обычно его называли Трухти Вэк, настоящее его имя было Тоби, и никто не мог переименовать его (кроме как в Тобиаса) без особого на то постановления парламента: ведь в свое время над ним, так же как над колоколами, совершили по всем правилам обряд крещения, пусть и не столь торжественно и не при столь громких кликах народного ликования.
Должен признаться, что я лично разделяю суждение Тоби Вэка – уж кто-кто, а он-то имел полную возможность составить себе правильное суждение на этот счет. Что утверждал Тоби Вэк, то утверждаю и я. И я всегда готов постоять за него, хотя стоять-то ему приходилось, да еще целыми днями (и очень тоскливое это было занятие) как раз перед дверью церкви. Дело в том, что Тоби Вэк был рассыльным, и именно здесь он дожидался поручений.
А каково дожидаться в таком месте в зимнее время, когда тебя просвистывает насквозь, и весь покрываешься гусиной кожей, и нос синеет, а глаза краснеют, и стынут ноги, и зуб на зуб не попадает, – это Тоби Вэк знал как нельзя лучше. Ветер – особенно восточный – налетал из-за угла с такой яростью, словно затем только и принесся с того конца света, чтобы поизмываться над Тоби. И нередко казалось, что он сгоряча проскакивал дальше, чем следует, потому что, выметнувшись из-за угла и миновав Тоби, он круто поворачивал обратно, словно восклицая: «Ах, вот он где!» – и тот же час куцый белый фартук Тоби вскидывало ему на голову (так задирают курточку напроказившему мальчишке), жиденькая тросточка начинала беспомощно трепыхаться в его руке, ноги выписывали самые невероятные кренделя, а всего Тоби, накренившегося к земле, крутило то вправо то влево, и так швыряло и било, и трепало и дергало, и мотало и поднимало в воздух, что еще немножко – и показалось бы настоящим чудом, почему он не взлетает под облака – как то бывает иногда со скопищами лягушек, улиток и прочих легковесных тварей – и не проливается дождем, к великому удивлению местных жителей, на какой-нибудь отдаленный уголок земли, где в глаза не видали рассыльных.
Но ветреные дни, хотя Тоби в эти дни и доставалось так немилосердно, все же были для него почти праздниками. Честное слово. Ему казалось, что в такие дни время идет быстрее и не так долго приходится ждать шестипенсовика; когда он бывал голоден и удручен, необходимость бороться с озорной стихией развлекала его и подбадривала. Мороз или, скажем, снег – это тоже было для него развлечение; он даже считал, что они ему на пользу, хотя в каком именно смысле на пользу, это он вряд ли сумел бы объяснить. Но так или иначе, ветер, мороз и снег, да еще, пожалуй, хороший крупный град приятно разнообразили жизнь Тоби Вэка.
Мокреть – вот что было хуже всего, – холодная, липкая мокреть, которая окутывала его, точно отсыревшая шинель, – другой шинели у него и не было, а без этой он предпочел бы обойтись! Мокрые дни, когда с неба неспешно и упорно сеял частый дождь, когда улица, так же как Тоби, давилась и захлебывалась туманом; когда от бесчисленных зонтов валил пар и, сталкиваясь на тесном тротуаре, они кружились, точно волчки, прыская во все стороны ледяными струйками; когда вода бурлила в сточных канавах и шумела в переполненных желобах; когда с карнизов и выступов церкви кап-кап-капало на Тоби и тонкая подстилка из соломы, на которой он стоял, мгновенно превращалась в грязное месиво, – вот это были поистине тяжелые дни. Тогда-то, и только тогда, можно было увидеть, как мрачнело и вытягивалось лицо у Тоби, тревожно выглядывавшего из своего укрытия в уголке церковной стены – укрытия до того жалкого, что тень, которую оно летом отбрасывало на залитую солнцем панель, была не шире тросточки. Но стоило Тоби, отойдя от стены, раз десять протрусить взад-вперед по тротуару, чтобы немножко согреться, как он, даже в такие дни, снова веселел и повеселевший возвращался в свое убежище.
Трухти его прозвали за его любимый аллюр, усвоенный им для большей скорости, хотя и не дававший ее. Шагом он, возможно, передвигался бы быстрее; даже наверно так; но если бы отнять у Тоби его трусцу, он тут же слег бы и умер. Из-за нее он в мокрую погоду бывал весь забрызган грязью; она причиняла ему уйму хлопот; ходить шагом было бы ему несравненно легче; но отчасти поэтому он и трусил рысцой с таким упорством. Щуплый, слабосильный старик, по своим намерениям Тоби был настоящим Геркулесом. Он не любил получать деньги даром. Мысль, что он честно зарабатывает свой хлеб, доставляла ему огромное удовольствие, а отказываться от удовольствий при его бедности было ему не по средствам. Когда в руки ему попадало письмо или пакет, за доставку которого он получал шиллинг, а то и полтора, его мужество, и без того не малое, еще возрастало. Он пускался трусить по улице, покрикивая быстроногим почтальонам, шагавшим впереди, чтобы они посторонились, ибо он свято верил, что непременно, рано или поздно, нагонит их, а потом и обгонит; и столь же твердо было его убеждение – не часто, впрочем, подвергавшееся проверке, – что он может донести любую тяжесть, какую вообще способен поднять человек.
Итак, даже выбираясь из своею уголка, чтобы погреться в дождливый день, Тоби трусил. Своими дырявыми башмаками прокладывая на слякоти ломаную линию мокрых следов; согнув ноги в коленях, засунув тросточку под мышку, дуя на озябшие руки и крепко их потирая, потому что очень уж плохо защищали их от холода поношенные серые шерстяные рукавицы, в которых отдельная комнатка отведена была только большому пальцу, а остальные помешались в общей зале, – Тоби трусил и трусил. И сходя с панели на мостовую, чтобы посмотреть вверх на звонницу, когда заводили свою музыку колокола, Тоби тоже передвигался трусцой.
Последнее из упомянутых передвижений Тоби совершал по нескольку раз на дню: ведь колокола были его друзьями, и когда он слышал их голоса, ему всегда хотелось взглянуть на их жилище и подумать о том, как их там раскачивают и какие по ним бьют языки. Может, они еще потому его так интересовали, что было между ними и им самим много общего. Они висели на своем месте в любую погоду, под дождем и ветром; окружающие церковь дома они видели только снаружи; никогда не приближались к жаркому огню каминов, бросавшему отблески на оконные стекла и клубами дыма вырывавшемуся из труб; и могли только издали поглядывать на разные вкусные вещи, которые хозяева и мальчики из магазинов знай вручали толстым кухаркам то с парадного хода, то во дворике у кухонной двери. В окнах появлялись и снова исчезали лица – иногда красивые лица, молодые, приветливые, иногда наоборот, – но откуда они появляются и куда исчезают, и бывает ли хоть раз в году, чтобы обладатели этих лиц, когда шевелят губами, сказали про него доброе слово, – обо всем этом Тоби (хотя он часто раздумывал о таких пустяках, стоя без дела на улице) знал не больше, чем колокола на своей колокольне.
Тоби не был казуистом – во всяком случае, не знал за собой такого греха, – и я не хочу сказать, что когда он только заинтересовался колоколами и из редких нитей своего первоначального знакомства с ними стал сплетать более прочную и плотную ткань, то перебрал одно за другим все эти соображения или мысленно устроил им торжественный смотр. А хочу я сказать – и сейчас скажу, – что подобно тому как различные части тела Тоби, например, его пищеварительные органы, достигали известной цели самостоятельно, посредством множества действий, о которых он понятия не имел и которые, доведись ему узнать о них, чрезвычайно бы его удивили, – так и мозг Тоби, без его ведома и соучастия, привел в движение все эти пружины и колесики, да еще тысячи других в придачу, и таким образом породил его симпатию к колоколам.
Я мог бы даже сказать – любовь, и это не было бы оговоркой, хотя далеко не точно определяло бы очень сложное чувство Тоби. Ибо он, будучи сам человеком простым, наделял колокола загадочным и суровым нравом. Они были такие таинственные – слышно их часто, а видеть не видно; так высоко было до них, и так далеко, и такие они таили в себе звучные и мощные напевы, что он чувствовал к ним какой-то благоговейный страх; и порой, глядя вверх на темные стрельчатые окна башни, он бывал готов к тому, что его вот-вот поманит оттуда нечто – не колокол, нет, но то, что ему так часто слышалось в колокольном звоне. И, однако же, Тоби с негодованием отвергал вздорный слух, будто на колокольне водятся привидения, – ведь это значило бы, что колокола сродни всякой нечисти. Словом, они очень часто звучали у него в ушах, и очень часто присутствовали в его мыслях, но всегда были у него на хорошем счету; и очень часто, заглядевшись с разинутым ртом на верхушку колокольни, где они висели, он так сворачивал себе шею, что ему приходилось лишний раз протрусить взад-вперед, чтобы вернуть ее в прежнее положение.
Этим-то он и занимался однажды, холодным зимним днем, когда отзвук последнего из ударов, только что возвестивших полдень, сонно гудел под сводами башни как огромный музыкальный шмель.
– Время обедать, – сказал Тоби, труся взад-вперед мимо дверей церкви.
Нос у Тоби был ярко-красный, и веки ярко-красные, а плечи его находились в очень близком соседстве с ушами, а ноги совсем не желали гнуться, и вообще он, видимо, уже давно забыл, когда ему было тепло.
– Время обедать, а? – повторил Тоби, пользуясь своей правой рукавицей в качестве, так сказать, боксерской перчатки и колотя собственную грудь за то, что она озябла. – Нда-а.
После этого он минуты две трусил молча.
– Нет ничего на свете… – заговорил он снова, но тут же остановился как вкопанный и, выразив на лице неподдельный интерес и некоторую тревогу, стал тщательно, снизу доверху, ощупывать свой нос. Нос был пустячный, и, чтобы ощупать его, не потребовалось много времени.
– А я уж думал, он куда девался, – сказал Тоби, вновь пускаясь трусить по панели. – Нет, весь тут, сердешный. Да и вздумай он сбежать, я бы, ей-ей, не стал винить его. Служба у него в холодную погоду трудная, и надеяться особенно не на что – я ведь табак не нюхаю. Ему, бедняге, и во всякую-то погоду приходится несладко: если в кои веки и учует вкусный запах, то скорей всего запах чужого обеда, который несут из пекарни.
Мысль эта напомнила ему про другую, оставшуюся незаконченной.
– Нет ничего на свете, – сказал Тоби, – столь постоянного, как время обеда, и нет ничего на свете столь непостоянного, как обед. В этом и состоит большое различие между тем и другим. Не сразу я до этого додумался. Интересно знать, может быть какой-нибудь джентльмен решил бы, что такое открытие стоит купить для газетной статьи? Или для парламентской речи?
Тоби, конечно, шутил, – он тут же устыдился и с укором покачал головой.
– О, господи, – сказал Тоби, – газеты и без того полным-полны открытий, и парламент тоже. Взять хоть газету от прошлой недели, – он извлек из кармана замызганный листок и поглядел на него, держа в вытянутой руке, – полным-полно открытий! Сплошные открытия! Я, как и всякий человек, люблю узнавать новости, – медленно проговорил Тоби, еще раз перегибая листок пополам и засовывая его обратно в карман, – но последнее время газеты читать – одно расстройство. Даже страх берет. Просто не знаю, до чего мы, бедняки, дойдем. Дай бог, чтобы дошли до чего-нибудь хорошего в новом году, благо он наступает!
– Отец! Да отец же! – произнес ласковый голос у него над ухом.
Тоби ничего не слышал, он продолжал трусить взад-вперед, погруженный в свои мысли и разговаривая сам с собою.
– Выходит, будто мы всегда не правы, и оправдать нас нечем, и исправить нас невозможно, – сказал Тоби. – Сам-то я неученый, где уж мне разобраться, имеем мы право жить на земле или нет. Иней раз думается, что какое-никакое, а все-таки имеем, а иной раз думается, что мы здесь лишние. Бывает, до того запутаешься, что даже не можешь понять, есть в нас хоть что-нибудь хорошее, или мы так и родимся дурными. Выходит, будто мы ведем себя ужасно, будто мы всем доставляем кучу хлопот; вечно на нас жалуются, кого-то от нас предостерегают. Так ли, этак ли, а в газетах только о нас и пишут. Опять же новый год, – сказал Тоби сокрушенно. – Вообще-то я могу перенести любую беду не хуже другого, даже лучше, потому что я сильный как лев, а это не про всякого скажешь, – но что если мы и в самом деле не имеем права на новый год… что если мы и в самом деле лишние…
– Отец! Да отец же! – повторил ласковый голос.
На этот раз Тоби услышал; вздрогнул; остановился; изменил направление своего взгляда, который перед тем был устремлен куда-то вдаль, словно искал ответа в самом сердце наступающего года, – и тогда оказалось, что он стоит лицом к лицу со своей родной дочерью и смотрит ей прямо в глаза.
И какие же ясные это были глаза – просто чудо! Глаза, в которые сколько ни гляди, не измерить их глубины. Темные глаза, которые в ответ на любопытный взгляд не сверкали своенравным огнем, но струили тихое, честное, спокойное, терпеливое сияние – сродни тому свету, которому повелел быть творец. Глаза прекрасные, и правдивые, и полные надежды – надежды столь молодой и невинной, столь бодрой, светлой и крепкой (хотя они двадцать лет видели перед собой только труд и бедность), что для Тоби Вэка они превратились в голос и сказали: «По-моему, какое-никакое, а все-таки право жить на земле мы имеем!»
Тоби поцеловал губы, которые возникли перед ним одновременно с этими глазами, и сжал цветущее личико между ладоней.
– Голубка моя, – сказал Тоби. – Что случилось? Я не думал, что ты сегодня придешь, Мэг.
– Я и сама не думала, что приду, отец, – воскликнула девушка, кивая головкой и улыбаясь. – А вот пришла. Да еще и принесла кое-что.
– Это как же, – начал Тоби, с интересом поглядывая на корзинку с крышкой, которую она держала в руке, – ты хочешь сказать, что ты…
– Понюхай, милый, – сказала Мэг. – Ты только понюхай!
Тоби на радостях уже готов был приподнять крышку, но Мэг проворно отвела его руку.
– Нет, нет, нет, – сказала она, веселясь, как ребенок. – Надо растянуть удовольствие. Я приподниму только краешек, са-амый краешек, – и она так и сделала, очень осторожно, и понизила голос, точно опасаясь, что ее услышат из корзинки. – Вот так. Теперь нюхай. Что это?
Тоби всего разок шмыгнул носом над корзинкой и воскликнул в упоении:
– Да оно горячее!
– Еще какое горячее! – подхватила Мэг. – Ха-ха-ха! С пылу с жару!
– Ха-ха-ха! – покатился Тоби и даже подрыгал ногой. – С пылу с жару!
– Ну, а что это, отец? – спросила Мэг. – Ведь ты еще не угадал, что это. А ты должен угадать. Пока не угадаешь, не дам, и не надейся. Ты не спеши! Погоди минутку! Приоткроем еще немножечко. Ну, угадывай.
Мэг ужасно боялась, как бы он не отгадал слишком быстро; она даже отступила на шаг, протягивая к нему корзинку; и передернула круглыми плечиками; и заткнула пальцами ухо, точно этим могла помешать верному слову сорваться с языка Тоби; и все время тихонько смеялась.