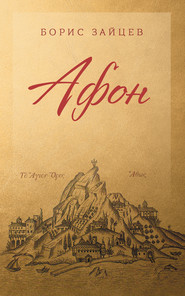По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Далекое
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но вот самое удивительное – в Петербурге: весной его снова посылают в Германию, в Дармштадт с наследником, брак которого со случайно встреченною принцессой Марией уже решен. Жуковский должен обучать ее русскому языку.
Начинаются новые странствия. Его личной воли в собьгаиях мало. Неожиданности так подстраиваются, что всегда приводят ко встречам с Елизаветой: то это болезнь отца ее, то заболевает король прусский, и наследник уезжает к нему в Берлин, а ученица Жуковского в Мюнхен, и ему нечего в Дармштадте делать, он собирается, конечно, в Дюссельдорф к Рейтернам. Едет туда с тем, что это прощание: принцессе Марии теперь уже не до уроков, она занята любовью и предстоящим браком. Двор скоро уезжает.
А две недели у Рейтернов очаровательны. Очарователен и отъезд в одиннадцать вечера с пристани Дюссельдорфа.
Безрукий провожает Жуковского. Прибыли за полчаса до отхода. Луна, тишина, в глади рейнской ни струи. Вдвоем разгуливают они по палубе. Звезды над ними, звезды и в Рейне. Сонные огоньки Дюссельдорфа, старинная романтическая Германия – «Ася» Тургенева.
Безлюдие, одиночество, прелесть природы дали смелость Жуковскому. Вот он обращается к Рейтерну:
– Помнишь ли то, о чем я говорил тебе в Петербурге? Теперь более нежели когда-нибудь почувствовал я всю правду того, что говорил тогда. Я знал бы, где взять счастие жизни, если бы только мог думать, что оно мне дастся. Но хотя я вижу его перед собою, я не могу позволить себе никакой надежды. Остается, полюбовавшись им, как прекрасным видением, отойти от него и пожалеть, что присвоить его невозможно.
К удивлению его, Рейтерн ответил, что вовсе не так невозмолепо. И по собственным наблюдениям, и от жены он знает, что Елизавета чувствует к Жуковскому расположение, и уж давно.
– Этого мне достаточно, с этой минуты я принадлежу ей, если вы согласны, чтобы она была моей.
Тут же пожали они друг другу руки. Жуковский поставил только одно условие: ни отец, ни мать не должны говорить ей ни слова. Все надо предоставить провидению, на Елизавету никак не влиять. Если сердце ее скажет на свободе «да» – тогда и его судьба решится.
Зазвонил колокол, пароходу пора трогаться. Рейтерн с ним распрощался, и теперь одному ему под теми же звездами, пред медленно уходившими огоньками Дюссельдорфа приходилось мерить взад-вперед палубу пароходную. Заснуть трудно! Пароход не торопясь выгребает вверх по течению, проходить ему мимо Кельна старинного с собором о двух башнях, мимо Бонна к Кобленцу, краем замков, холмов, виноградных лоз в тихой июньской ночи. Какой перелом в судьбе! Еще там, в Дюссельдорфе, пока пароход не тронулся, был он одиноким путником, пассажиром парохода без определенной цели. «И вдруг в одно мгновение из чаши судьбы провидение вынуло мне жребий, с которым все, так давно желанное, разом далось мне».
Но волнения не было. Тишина, удивительная ясность, нечто похожее на выздоровление. «Половину этой ночи я не спал, а на другое утро проснулся, как новый человек», – уже в Кобленце.
Теперь оставалось только объясниться с Елизаветой.
Получив разрешение от государя остаться за границей еще на два месяца, он отправился в Дюссельдорф.
Подходил август. Жуковский жил в Дюссельдорфе и все не решался. Страшно было переступить черту. А вдруг чувство ее туманно, недостаточно ярко – более всего смущал собственный возраст: он почти втрое старше ее. И уж лучше тянуть, мечтать…
По утрам они обычно гуляли с Рейтерном, разговаривали все о том же. Жуковскому представлялось: может быть, написать ей? Нерешительность одолевала. Наконец 3 августа, на обычной прогулке, Рейтерн сказал ему, что медлить уж нечего: вчера после ужина Елизавета кинулась на шею матери и почти призналась в любви.
Когда вернулись домой, в прихожей Елизавета с матерью укладывали белье.
– Елизавета, дорогая, принесите мне в кабинет вашу чернильницу и перо.
Через несколько минут она вошла в комнату, робко поставила чернильницу, положила перо. И собиралась уже уходить. Жуковский стоял у стола. В руках у него были небольшие часы. Голосом, слегка глухим от волнения, сказал:
– Подождите, Елизавета, подойдите… Позвольте подарить вам эти часы. Но часы обозначают время, а время есть жизнь. С этими часами я предлагаю вам всю свою жизнь. Принимаете ли вы ее? Не отвечайте мне сейчас же, подумайте хорошенько, но ни с кем не советуйтесь. Отец ваш и мать знают все, но совета они не дадут.
Ответ был краткий, незамедлительный.
– Мне не о чем раздумывать.
И кинулась ему на шею. Оставалось только позвать родителей. Они тут же благословили их.
* * *
До свадьбы, однако, было еще далеко: надо съездить в Россию, устроить дела, лишь тогда окончательно засесть на Западе.
Так Жуковский и поступил. Осенью уехал в Петербург, в январе 41-го года в Москве повидался с родными.
Все теперь несколько менялось. Раньше он мечтал заканчивать дни в недавно купленном имении Мейерсгоф, недалеко от Дерпта, вблизи Мойеров и Екатерины Афанасьевны. Но Мойер вышел в отставку и поселился в Бунине, поместье детей своих, в давних краях Жуковского. Екатерина Афанасьевна там же, с ними. Значит, Мейерсгоф ни с какого конца неинтересен: и самому предстоит жить за границей, и прежние близкие и родные далеко.
Он продал его Зейдлицу. Зейдлиц есть Зейдлиц: дал цену выше того, что имение стоило. Но и Жуковский не изменился: всю вырученную сумму – 115 тысяч – оставил трем дочерям Светланы.
Весной в Петербурге присутствовал на свадьбе ученика своего и воспитанника, цесаревича Александра.
У обоих судьбы оказались сходны. В Дюссельдорфе, в Дармштадте преломились внезапно их жизни.
16 апреля 1841 года Александр был обвенчан с принцессой Марией, дочерью великого герцога Гессен-Дармштадтского. Все прошло пышно и блистательно, уводя навсегда Жуковского от двора и царей. Его очень хорошо обеспечили, за новую свою жизнь он мог быть в отношении средств покоен.
Неизвестно, был ли покоен внутренно. Елизавета прелестна, Рейтерны его обожают, предстоит тихая, нежная пристань. Но и прощание с былым. Былому этому слишком он много отдал в свое время. Разве можно сравнить многолетнюю, как бы священную любовь к Маше, нежность полуотеческую к Светлане с довольно-таки случайною встречей с Елизаветой? Да и тогда была молодость, первая острота чувств, теперь вечно надо оглядываться, что-то объяснять, как бы оправдываться в возрасте своем и друзьям ближайшим, как Зейдлиц, доказывать, что никак прошлому своему он не изменяет и ни от чего не отрекается. Зейдлиц, как и Мойер (до конца дней оставшийся в «протасовской» линии), никак Жуковского не порицал. Но во всей манере Зейдлица говорить о браке Жуковского чувствуешь скрытую горечь. Лучше бы брака этого вовсе и не было.
А сейчас он устраивал все для новой жизни Жуковского. Мало того что купил Мейерсгоф (Элистфер), приобрел еще – очевидно, ценную по воспоминаниям – и всю обстановку. (Но библиотека и картины оставались на хранение в Мраморном дворце, до переезда в Германию.)
В последний день перед отъездом за границу Жуковский обедал у Зейдлица. Зейдлиц отлично его накормил – угостил, между прочим, любимою его «крутой» гречневой кашей. Но Жуковский невесел. Вокруг собственная его же мебель, висят три картины, которые он решил не давать в Мраморный дворец (не везти в Германию).
Одна – портрет Марии Андреевны Мойер, работы Зенфта в Дерпте, две другие – виды могил: дерптской ее же, ливорнской – Светланы.
Обед кончился, Жуковский задумчиво подошел к своему бывшему письменному столу. «Вот место, обожженное свечой, когда я писал пятую главу “Ундины”. Здесь я пролил чернила, именно оканчивая последние слова Леноры: “Терпи, терпи, хоть ноет грудь!” И в его глазах дрожала слеза. Вынув из бокового кармана бумагу, он сказал: “Вот, старый друг, подпиши здесь же, на этом месте, как свидетель моего заявления, что я обязываюсь крестить и воспитывать детей своих в лоне православной церкви. Детей моих! Странно!”»
Пока Зейдлиц подписывал, он все смотрел, опершись на руку, на портрет Маши и виды могил. Вдруг заволновался.
– Нет, я с вами не расстанусь!
Встал, вынул их из рам и велел отнести вниз, в карету. А Зейдлицу подарил собственный портрет, написанный в Риме в 1833 году. Подпись под ним: «Для сердца прошедшее вечно».
Венчание происходило 21 мая 1841 года в посольской русской церкви Штутгарта. Повторено было затем и в лютеранской церкви.
Семья, Гоголь, «Одиссея»
Сообща со старыми Рейтернами наняли дом на окраине Дюссельдорфа, поселились все вместе, просторно: двенадцать комнат. Обставлено изящно. Много книг, картины, скульптура. Светло, с верхнего балкона вид на Рейн. Сад и огород, рядом парк. Весной заливаются в нем соловьи.
По сохранившимся рисункам самого Жуковского – впечатление света и чистоты. Природа как бы входит в этот дом, он с нею связан. Есть даже открытый портик, где обедают в хорошую погоду. Есть беседка в саду, как бы продолжение дома, вся в цветах, там можно проводить целые часы.
Свет, легкость рейнских далей, так в тонких, едва накрапленных рисунках чувствующиеся, идут к закатным дням Жуковского. В больших, светлых комнатах дома дюссельдорфского, рядом с милой Елизаветой окончательно отделывается «Наль и Дамаянти» – прославление верной и преданной женской любви. Тут же, несколько позже, написано и посвящение его великой княжне Александре Николаевне.
В посвящении этом есть тишина вечера и как будто счастие мирной жизни семейной, но и меланхолический налет. Не отходят две любимые тени.
…и слышу голос,
Земные все смиряющий тревоги:
Да не смущается твоя душа,
Он говорит мне, веруй в Бога, веруй
В меня. Мне было суждено своею
Рукой на двух родных, земной судьбиной
Разрозненных могилах те слова
Спасителя святые написать…
В заключительной полосе жизни нечто и завершилось у Жуковского. Раньше были мечтания и томления, разлуки, невозможности. Теперь во сне он видит домик и –
…на пороге
Начинаются новые странствия. Его личной воли в собьгаиях мало. Неожиданности так подстраиваются, что всегда приводят ко встречам с Елизаветой: то это болезнь отца ее, то заболевает король прусский, и наследник уезжает к нему в Берлин, а ученица Жуковского в Мюнхен, и ему нечего в Дармштадте делать, он собирается, конечно, в Дюссельдорф к Рейтернам. Едет туда с тем, что это прощание: принцессе Марии теперь уже не до уроков, она занята любовью и предстоящим браком. Двор скоро уезжает.
А две недели у Рейтернов очаровательны. Очарователен и отъезд в одиннадцать вечера с пристани Дюссельдорфа.
Безрукий провожает Жуковского. Прибыли за полчаса до отхода. Луна, тишина, в глади рейнской ни струи. Вдвоем разгуливают они по палубе. Звезды над ними, звезды и в Рейне. Сонные огоньки Дюссельдорфа, старинная романтическая Германия – «Ася» Тургенева.
Безлюдие, одиночество, прелесть природы дали смелость Жуковскому. Вот он обращается к Рейтерну:
– Помнишь ли то, о чем я говорил тебе в Петербурге? Теперь более нежели когда-нибудь почувствовал я всю правду того, что говорил тогда. Я знал бы, где взять счастие жизни, если бы только мог думать, что оно мне дастся. Но хотя я вижу его перед собою, я не могу позволить себе никакой надежды. Остается, полюбовавшись им, как прекрасным видением, отойти от него и пожалеть, что присвоить его невозможно.
К удивлению его, Рейтерн ответил, что вовсе не так невозмолепо. И по собственным наблюдениям, и от жены он знает, что Елизавета чувствует к Жуковскому расположение, и уж давно.
– Этого мне достаточно, с этой минуты я принадлежу ей, если вы согласны, чтобы она была моей.
Тут же пожали они друг другу руки. Жуковский поставил только одно условие: ни отец, ни мать не должны говорить ей ни слова. Все надо предоставить провидению, на Елизавету никак не влиять. Если сердце ее скажет на свободе «да» – тогда и его судьба решится.
Зазвонил колокол, пароходу пора трогаться. Рейтерн с ним распрощался, и теперь одному ему под теми же звездами, пред медленно уходившими огоньками Дюссельдорфа приходилось мерить взад-вперед палубу пароходную. Заснуть трудно! Пароход не торопясь выгребает вверх по течению, проходить ему мимо Кельна старинного с собором о двух башнях, мимо Бонна к Кобленцу, краем замков, холмов, виноградных лоз в тихой июньской ночи. Какой перелом в судьбе! Еще там, в Дюссельдорфе, пока пароход не тронулся, был он одиноким путником, пассажиром парохода без определенной цели. «И вдруг в одно мгновение из чаши судьбы провидение вынуло мне жребий, с которым все, так давно желанное, разом далось мне».
Но волнения не было. Тишина, удивительная ясность, нечто похожее на выздоровление. «Половину этой ночи я не спал, а на другое утро проснулся, как новый человек», – уже в Кобленце.
Теперь оставалось только объясниться с Елизаветой.
Получив разрешение от государя остаться за границей еще на два месяца, он отправился в Дюссельдорф.
Подходил август. Жуковский жил в Дюссельдорфе и все не решался. Страшно было переступить черту. А вдруг чувство ее туманно, недостаточно ярко – более всего смущал собственный возраст: он почти втрое старше ее. И уж лучше тянуть, мечтать…
По утрам они обычно гуляли с Рейтерном, разговаривали все о том же. Жуковскому представлялось: может быть, написать ей? Нерешительность одолевала. Наконец 3 августа, на обычной прогулке, Рейтерн сказал ему, что медлить уж нечего: вчера после ужина Елизавета кинулась на шею матери и почти призналась в любви.
Когда вернулись домой, в прихожей Елизавета с матерью укладывали белье.
– Елизавета, дорогая, принесите мне в кабинет вашу чернильницу и перо.
Через несколько минут она вошла в комнату, робко поставила чернильницу, положила перо. И собиралась уже уходить. Жуковский стоял у стола. В руках у него были небольшие часы. Голосом, слегка глухим от волнения, сказал:
– Подождите, Елизавета, подойдите… Позвольте подарить вам эти часы. Но часы обозначают время, а время есть жизнь. С этими часами я предлагаю вам всю свою жизнь. Принимаете ли вы ее? Не отвечайте мне сейчас же, подумайте хорошенько, но ни с кем не советуйтесь. Отец ваш и мать знают все, но совета они не дадут.
Ответ был краткий, незамедлительный.
– Мне не о чем раздумывать.
И кинулась ему на шею. Оставалось только позвать родителей. Они тут же благословили их.
* * *
До свадьбы, однако, было еще далеко: надо съездить в Россию, устроить дела, лишь тогда окончательно засесть на Западе.
Так Жуковский и поступил. Осенью уехал в Петербург, в январе 41-го года в Москве повидался с родными.
Все теперь несколько менялось. Раньше он мечтал заканчивать дни в недавно купленном имении Мейерсгоф, недалеко от Дерпта, вблизи Мойеров и Екатерины Афанасьевны. Но Мойер вышел в отставку и поселился в Бунине, поместье детей своих, в давних краях Жуковского. Екатерина Афанасьевна там же, с ними. Значит, Мейерсгоф ни с какого конца неинтересен: и самому предстоит жить за границей, и прежние близкие и родные далеко.
Он продал его Зейдлицу. Зейдлиц есть Зейдлиц: дал цену выше того, что имение стоило. Но и Жуковский не изменился: всю вырученную сумму – 115 тысяч – оставил трем дочерям Светланы.
Весной в Петербурге присутствовал на свадьбе ученика своего и воспитанника, цесаревича Александра.
У обоих судьбы оказались сходны. В Дюссельдорфе, в Дармштадте преломились внезапно их жизни.
16 апреля 1841 года Александр был обвенчан с принцессой Марией, дочерью великого герцога Гессен-Дармштадтского. Все прошло пышно и блистательно, уводя навсегда Жуковского от двора и царей. Его очень хорошо обеспечили, за новую свою жизнь он мог быть в отношении средств покоен.
Неизвестно, был ли покоен внутренно. Елизавета прелестна, Рейтерны его обожают, предстоит тихая, нежная пристань. Но и прощание с былым. Былому этому слишком он много отдал в свое время. Разве можно сравнить многолетнюю, как бы священную любовь к Маше, нежность полуотеческую к Светлане с довольно-таки случайною встречей с Елизаветой? Да и тогда была молодость, первая острота чувств, теперь вечно надо оглядываться, что-то объяснять, как бы оправдываться в возрасте своем и друзьям ближайшим, как Зейдлиц, доказывать, что никак прошлому своему он не изменяет и ни от чего не отрекается. Зейдлиц, как и Мойер (до конца дней оставшийся в «протасовской» линии), никак Жуковского не порицал. Но во всей манере Зейдлица говорить о браке Жуковского чувствуешь скрытую горечь. Лучше бы брака этого вовсе и не было.
А сейчас он устраивал все для новой жизни Жуковского. Мало того что купил Мейерсгоф (Элистфер), приобрел еще – очевидно, ценную по воспоминаниям – и всю обстановку. (Но библиотека и картины оставались на хранение в Мраморном дворце, до переезда в Германию.)
В последний день перед отъездом за границу Жуковский обедал у Зейдлица. Зейдлиц отлично его накормил – угостил, между прочим, любимою его «крутой» гречневой кашей. Но Жуковский невесел. Вокруг собственная его же мебель, висят три картины, которые он решил не давать в Мраморный дворец (не везти в Германию).
Одна – портрет Марии Андреевны Мойер, работы Зенфта в Дерпте, две другие – виды могил: дерптской ее же, ливорнской – Светланы.
Обед кончился, Жуковский задумчиво подошел к своему бывшему письменному столу. «Вот место, обожженное свечой, когда я писал пятую главу “Ундины”. Здесь я пролил чернила, именно оканчивая последние слова Леноры: “Терпи, терпи, хоть ноет грудь!” И в его глазах дрожала слеза. Вынув из бокового кармана бумагу, он сказал: “Вот, старый друг, подпиши здесь же, на этом месте, как свидетель моего заявления, что я обязываюсь крестить и воспитывать детей своих в лоне православной церкви. Детей моих! Странно!”»
Пока Зейдлиц подписывал, он все смотрел, опершись на руку, на портрет Маши и виды могил. Вдруг заволновался.
– Нет, я с вами не расстанусь!
Встал, вынул их из рам и велел отнести вниз, в карету. А Зейдлицу подарил собственный портрет, написанный в Риме в 1833 году. Подпись под ним: «Для сердца прошедшее вечно».
Венчание происходило 21 мая 1841 года в посольской русской церкви Штутгарта. Повторено было затем и в лютеранской церкви.
Семья, Гоголь, «Одиссея»
Сообща со старыми Рейтернами наняли дом на окраине Дюссельдорфа, поселились все вместе, просторно: двенадцать комнат. Обставлено изящно. Много книг, картины, скульптура. Светло, с верхнего балкона вид на Рейн. Сад и огород, рядом парк. Весной заливаются в нем соловьи.
По сохранившимся рисункам самого Жуковского – впечатление света и чистоты. Природа как бы входит в этот дом, он с нею связан. Есть даже открытый портик, где обедают в хорошую погоду. Есть беседка в саду, как бы продолжение дома, вся в цветах, там можно проводить целые часы.
Свет, легкость рейнских далей, так в тонких, едва накрапленных рисунках чувствующиеся, идут к закатным дням Жуковского. В больших, светлых комнатах дома дюссельдорфского, рядом с милой Елизаветой окончательно отделывается «Наль и Дамаянти» – прославление верной и преданной женской любви. Тут же, несколько позже, написано и посвящение его великой княжне Александре Николаевне.
В посвящении этом есть тишина вечера и как будто счастие мирной жизни семейной, но и меланхолический налет. Не отходят две любимые тени.
…и слышу голос,
Земные все смиряющий тревоги:
Да не смущается твоя душа,
Он говорит мне, веруй в Бога, веруй
В меня. Мне было суждено своею
Рукой на двух родных, земной судьбиной
Разрозненных могилах те слова
Спасителя святые написать…
В заключительной полосе жизни нечто и завершилось у Жуковского. Раньше были мечтания и томления, разлуки, невозможности. Теперь во сне он видит домик и –
…на пороге