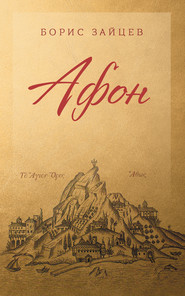По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Далекое
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но это еще не конец. Из Москвы двинулись на юг – Одесса, Крым, земля Войска Донского, опять Москва, и только в начале декабря Царское Село.
Проехали 4500 верст, посетили тридцать губерний, получили в дороге 16 000 просьб (больше всего о деньгах – отсылалось губернаторам и каждому на раздачу по 8 тысяч).
Жуковский находил, что путешествие было слишком быстрым, наследник «успел прочесть только оглавление великой книги», но все-таки определил все это как «обручение его с Россией».
Разумеется, и его самого утомляла пестрота впечатлений, их отрывочность, казенный характер всего. Оценок личных в письмах мало. Но народ («простодушный и умный») понравился ему. Все-таки человек просвещенный и западник чувствуется здесь в Жуковском – невежество русских в искусстве огорчило его (с удовольствием вспоминает только о суздальском купце Киселеве, у которого оказалась большая библиотека и картинная галерея, да и то на киотах аляповатая позолота, по картинам бегали тараканы).
Как бы то ни было, ни раньше, ни позже не была показана ему такая панорама родины. Если для наследника обручение с Россией, то для него самого прощание с ней.
Возвращение вышло странным. Издали, еще от Тосно, в сумраке вечернем завиднелось зарево над Петербургом. Горел Зимний дворец. Там как раз жил сам Жуковский, возвращался теперь на пожарище. Разрушений было много, но его квартира уцелела. Он был смущен и в разговорах как бы извинялся, что не пострадал.
Елизавета Рейтерн
…Отдых в Петербурге получился недолгий. Весной новое странствие, с тем же наследником, теперь по Европе Западной. И вот второй год он в движении – экипажи, гостиницы, дворцы, иностранцы, приемы, разговоры… Побывали в Берлине, жили в Свинемюнде у Балтийского моря, а потом в Швеции – скалы, озера, граниты, замок Грипсхольм со стариной и таинственностью, под стать Жуковскому времен молодости. После Швеции снова Германия, тут наследник заболевает. Ему назначено лечение в Эмсе. Они туда едут.
От Эмса недалеко Дюссельдорф, в Дюссельдорфе же старый приятель Жуковского Рейтерн, память о милой зиме 33-го года. Он к нему отправляется, застает в «кругу семьи». А семья оказалась немалая: к прежним детям прибавилось еще трое. Старшие дочери, Елизавета и Мия, «расцвели, как чистые розы». В Вевэ знал он Елизавету ребенком, теперь это восемнадцатилетняя светловолосая девушка «лорелейского» типа, мечтательная и нервная – поэзия, чистота, скромность…
Он провел у них несколько дней, а потом опять передвижения: все теперь связано со здоровьем великого князя. Едут в Италию, живут в Комо. А там Венеция. Жуковский чувствует себя не особенно важно. Годы, некоторая усталость – меланхолия владеет им. Он в Венеции и совсем загрустил.
Был начат уже тогда перевод «Наля и Дамаянти», но вряд ли ушел далеко. Поэма индийская мало ответствовала тогдашнему его настроению. «Камоэнс» Гальма пришелся как раз по душе. Им он и занялся, выражая свое в чужом, добавляя и убавляя по собственному сердцу.
Батюшкова вдохновлял в свое время Тассо. Жуковского теперь Камоэнс – великий в несчастии своем, непонятый, кончающий дни в каморке лиссабонского лазарета.
Торгаш Квеведо, бывший школьный товарищ его, разбогатевший и самодовольный, приводит к нему сына – тот начинающий поэт, бредит стихами, восторгается Камоэнсом. Квеведо хочет, чтобы пример нищего и одинокого поэта отвратил сына от поэзии: вот ведь куда она приводит!
Старый и молодой поэты вместе. Старый сперва остерегается молодого. Так ли предназначен он для этой доли? Путь тягостен, слава обманчива. Нужно ли брать крест? Но тот энтузиаст:
О Камоэнс! Поэзия небесной
Религии сестра земная: светлый
Маяк, самим Создателем зажженный…
И далее:
Прекрасней лавра, мученик, твой терн.
Тогда Камоэнс меняется: да, если пред ним истинный поэт, то пусть идет со своим словом в страшный мир, тогда все хорошо, даже страдание. Ибо:
Страданием душа поэта зреет,
Страдание – святая благодать.
Квеведо не достиг цели. Камоэнс не отговорил сына его, Васко. Напротив, благословил. В волнении, экстазе он не выдерживает – тело слишком уж истомлено. Предсмертное видение Камоэнса – сияющая дева, все лучшее на земле: Поэзия. Он умирает. Последние его слова:
Поэзия есть Бог в святых мечтах земли.
Все это явилось теперь пред самим Жуковским, написалось во славу и Поэзии, и всего возвышеннейшего, что было в жизни и ушло. Но оно вечно и сопровождает. Поэзия, Религия – это слилось, и живое сердце видения не есть ли давняя, отошедшая любовь?
«Камоэнс» Жуковского мало прославлен. Его мало и знают. Но внутреннего Жуковского он хорошо выражает.
С этим «Камоэнсом», вероятно еще не конченным, попадает он в Рим. Весь январь 39-го года проводит в нем с Гоголем.
Гоголь теперь не тот «малоросс» 30-го года, Гоголёк, что читал приживалкам безвестные писания свои. За ним и «Миргород», и «Тарас Бульба», и «Ревизор». В Риме, на Strada Felice[30 - Улице Счастливой (итал.).], пишет он «Мертвые души» и не знает своей судьбы, но величие ее чувствует, но грозное веянье славы и дорогая цена ее, как и Камоэнсу, – ему принадлежат.
А для Жуковского он свой, почти домашний, три года назад читавший на его субботах в Петербурге «Ревизора», Гоголь, которого год назад он вызволил из денежных затруднений, Гоголь – друг, такой же поэт, как и он сам. Гоголь считал Италию родиною своей (остальное только «приснилось»), Жуковский ее обожал. («Я болен грустью по Италии».)
Их месяц январь 39-го года в Риме был месяцем восторга перед Римом. Для Рима Жуковский забросил даже наследника – гораздо, конечно, ему интереснее и плодоноснее бродить с Гоголем по святым и великим местам, чем быть в условной и докучливой атмосфере двора.
С Гоголем забирались они и в купол св. Петра, и бродили с коровами по Форуму, и выходили за Понте Мильвио созерцать безглагольную Кампанью. Оба при этом рисовали. (Жуковский вообще любил живопись. Считал ее «сестрой поэзии», а сам к этому времени вошел в зрелую, более покойную полосу рисования своего: после смерти Маши весьма склонялся к мистицизму и символизму в рисунке, теперь ближе подходил к жизни. Глаз всегда у него был острый, сейчас особенно привлекала прелесть видимости – пейзаж, бытовая сценка. Сколько же давал ему Рим в этом! Аббат, старуха с козой, вид с террасы виллы Волконской…) Гоголь сам рисовал недурно. В Жуковском удивляло его уменье, быстрота, с которой он действовал. «Он в одну минуту рисует их («лучшие виды Рима») по десяткам, и чрезвычайно верно и хорошо», – Гоголь всегда восторженно преувеличен, но тут в восторженность его веришь: Жуковский – Рим – есть чем зажечься. Вот слово Гоголя: «Рим, прекрасный Рим! Я начинаю теперь вновь чтение Рима, и Боже! Сколько нового для меня… Это чтение теперь имеет двойное наслаждение оттого, что у меня теперь прекрасный товарищ. Мы ездим каждый день с Жуковским, который весь влюбился в него и который, увы, через два дня должен уже оставить его. Пусто мне сделается без него! Это был какой-то небесный посланник ко мне…»
Небесный посланник! Но впервые Жуковского так чувствуют, так понимают общение с ним. («Что за прелесть чертовская его небесная душа» – пушкинские слова. Оба они теперь Пушкина оплакивали.)
Но небесной душе недолго быть в Риме, бродить с Гоголем, рисовать, завтракать по тавернам, запивая жареного козленка и ризотто винцом Castelli romani. Неожиданно глас судьбы – Николая Павловича из Петербурга: наследнику не проводить зиму в Риме, Неаполе, как предполагалось, а ехать к северу. Немедленно.
Тут ничего уж не поделаешь – уехали. А Гоголь вновь осиротел, один остался на своей Strada Felice, где над раскладным столом с «Мертвыми душами» реяло уже бессмертие, и самый дом, в который въехал он из Парижа с двумястами франков, освящался им тоже к славе. (С 1902 года он и украшен памятною доскою: «II grande scrittore russo Nicolo Gogol in questa casa, dove abito 1838–1842, penso e scrisse il suo capolavoro»[31 - «Великий русский писатель Николай Гоголь в этом доме, где он жил в 1838–1842, задумал и написал свой шедевр» (итал.).], улица же называется теперь Via Sistina.)
А Жуковский уезжал навстречу еще новой своей судьбе. Но на земле Италии все вращалось среди поэтов. В чемодане его лежал Камоэнс, в Риме остался Гоголь. «Приехал сонный в Киавари, где увидел Паулуччи и Тютчева» – запись Жуковского: 4/16 февраля 1839-го. Значит, ехали через Сестри, Кави, дальше на Киавари, Нерви и Геную – путем, столь очаровательным (многим странникам русским так с юности близким).
В Генуе был с Федором Ивановичем Тютчевым, дипломатом, секретарем русского посольства в Турине.
Кто знал тогда Тютчева как поэта? Что было напечатано из писаний его? Несколько стихотворений в журнале Пушкина, да и то без настоящей подписи. Но у Жуковского глаз верный. Юного Пушкина назвал же он когда-то – и без оговорок – «гением». Тютчева знал еще юношей. В пушкинский «Современник» Гагарин, сослуживец Тютчева, устроил стихи его через Жуковского. Теперь в Киавари был перед ним тридцатишестилетний человек, недавно потерявший жену. «Судьба, кажется, и с ним не очень ласкова», – говорит Жуковский. А о нем самом: «Необыкновенно гениальный и весьма добродушный человек, мне по сердцу».
* * *
Все дальнейшее, с ним и наследником случившееся, относил Жуковский вполне к делу Промысла. Сам о своем будущем ничего не знает, как и наследник не подозревает ничего. Приказано возвращаться в Германию, они возвращаются. Едут из Рима не так, как теперь бы поехали, а кружным путем через Лигурию – вероятно, боялись Апеннин под Болоньей.
После Вены Мюнхен, Штутгарт, дальше Эмс, Дюссельдорф, а там Гаага, Англия, снова Германия, – вот в Дармштадте наследник знакомится с дочерью великого герцога, а Жуковский вновь попадает в тот замок Виллингсгаузен, где шесть лет назад провел три дня, показавшиеся ему «светлым сном», – на прощание тогда девочка Лиза бросилась ему на шею и поцеловала. Теперь эта Лиза взрослая. Она образованна и скромна, воспитана в семье строгой и религиозной: мать ее, урожденная Шверцель, принадлежит к католическим кругам. Отец благодаря Жуковскому стал живописцем при русском дворе – этим упрочил, конечно, жизненное свое положение. А сейчас они жили в Виллингсгаузене у старого Шверцеля, деда Елизаветы.
Жуковскому и на этот раз недолго удалось пробыть в замке, два дня. Он находился в настроении грусти и некоторого умиления. Трогала нежность и чистота Елизаветы, что-то согревало в нем, может быть и туманно, как сквозь сон, напоминало юную Машу (хотя внешне похожи они не были). Грусть же и в том состояла, что смущал собственный возраст: пятьдесят шесть лет! Все прошло. Жизнь позади – в эти два дня опять играл Жуковский роль из будущих повестей Тургенева.
Вечерами сидели по-семейному, Елизавета с каким-нибудь рукоделием. Жуковский столько видал на своем веку и стран, и людей, столько знал в искусстве, в литературе, сам являя Олимп литературный, – рассказы его пленительны, да особенно еще когда озарены нежностью зрелого человека к юности.
Можно представить себе, как слушала его Елизавета. «И всякий раз, когда ее глаза поднимались на меня от работы (которую она держала на руках), то в этих глазах был взгляд невыразимый, который прямо вливался мне в глубину души, и я бы изъяснил этот взгляд в пользу своего счастия, и он бы тут же решил мою судьбу, если бы только мне можно было позволить себе такого рода надежды».
Расставался он с замком Веллингсгаузеном и семьей Рейтернов в грустной мечтательности. Елизавета казалась ему светлым и мимо пролетевшим ангелом – все это вообще сон: когда могут они вновь увидеться? Через несколько дней, в свите наследника, он садился на пароход в Штеттине – возвращение в Петербург. Был уверен, что в Германию и на Рейн никогда не вернется. Но в сердце увозил нечто. (В Петербург уезжал с ним по делам и Рейтерн: Жуковский называл его «мой Безрукий».)
Сам-то он говорит, что эта встреча с Елизаветою в Виллингсгаузене осталась только прекрасным воспоминанием вроде Италии, Рейна. Однако, по-видимому, преуменьшает. Что-то вошло в сердце, укрепилось в нем. Однажды в Петергофе «воспоминание» дало о себе знать. Он напомнил Безрукому о вечере в Виллингсгаузене.
– Там я видел то, что мне вполне было бы счастием, но увидел это уже поздно, мои лета не позволяют мне ни искать, ни надеяться.
На это Рейтерн ответил, что хоть разница в возрасте велика, но все будет зависеть от Елизаветы.
– Ищи, – прибавил. – Если она сама тебе отдастся, то я наперед на все согласен. Ни от меня, ни от матери она не услышит об этом ни слова.
На том и покончили. Жизненно это ничего не могло значить. Жуковский находился в России и должен наблюдать за учением младших великих князей, кроме того, занят устройством своего «Мейерсгофского приюта» (имение, куда собирался переселиться). Где же тут «искать» любви рейнской Елизаветы?
Но все устраивалось непредвидимо. В рассказе об этом времени он упорно настаивает на провидении, глубоко верит в него и верой своей покоряет. Действительно, получается постановка таинственного режиссера, он же играет свою роль сомнамбулически – не знает сам, что играет.
Осенью, возвращаясь с годичного поминовения Бородина, где когда-то стоял в ополченском резерве, заехал он к своим. «Я увидел опять все родные места; и милые живые, и милые мертвые со мною все повидались разом» – будто между прежнею его жизнью и новой проводилась «живая грань».