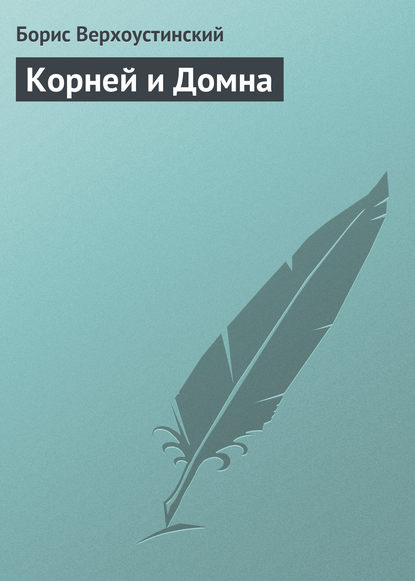По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Корней и Домна
Год написания книги
1913
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он одевается и, не оборачиваясь, уходит из избы. «Ах, ты, стерва какая! – возмущается он про себя: – змея подколодная. Травить вздумала. Хорошо, что углядел».
Злой и пасмурный, он выезжает во леси. Домна же, выждав его отъезда, бежит к Захарьевне за советом.
– И вот, бабонька, дарма деньги тебе подарила. Ты чего же это людей обморачиваешь? Хошь, в суд пожалюсь?
– Да что ты никак ума порешилась?
Захарьевна делает суровое лицо:
– Рассказывай толком.
Домна, волнуясь, повествует, как было дело.
– И не пил?
– И не пил!
– Обнюхал?
– Обнюхал!
– Хитрой же! Головонька твоя бедная, пташенька сизокрылая. А ты возьми-ка иглу, которая потолщее, да как будет дрыхнуть, ты её и всади ему в ухо, из уха-то она в самые то ни на есть мозги уйдёт. А змеиным настоем поила?
– Поила, бабонька, поила, да он стрескал, ровно так и надо. Ещё брюхо гладит, окаянный. Пройдёт, говоришь, игла-то? Чай, лгёшь всё?
Захарьевна обижается:
– С тобой по совести, а ты, голубонька, лаешься.
– Ну, ладно. Прощай же.
Домна уходит обнадёженная: надо попытать, игла есть…. Неужто его и тут не проберёт?
* * *
В воскресенье Корней отправляется к брату, отцу Никитки, и там напивается. Идя домой, он горланит песни, шатается, то вдруг остановится посреди улицы, о чём-то размышляя и бормоча себе под нос нескладные слова, то поскользнётся и рухнет на скользкую дорогу, барахтается, бранится, пытается подняться, а поднявшись – позабывает, о чём думал до падения.
– Погодь, не спеши; слышь, не спеши. Ты да я…
Кто-то вертится перед самым носом и болтает разные пустяки, да такой скороговоркой, что ничего не понять. Не то Никитка, не то братан, не то невесть кто.
И вдруг Корнею становится ужасно горько: – Почему так на свете устроено? Почему не иначе? А-а?
Корней грозит пальцем и, раскачиваясь, с трудом выговаривает:
– Погодь! Тебе говорят, погодь. Слышишь?
Нестерпимая обида западает в Корнееву душу. Он мрачно смотрит по сторонам ничего не понимающими глазами и всё сетует, сетует:
– Ежели так, так почему же этак? У одних, к примеру, земля, а у других – сопля. Ванька-а-а! – кричит он, вспоминая про братана, но ответа нет.
Падая, подымаясь, задевая за косяки, Корней куда-то пролезает и неожиданно попадает в свою избу. Перед ним стоит Домна.
– Христа ради, Домнушка, прости ты меня, грешного! – всхлипывает Корней. – До чего жену родную довёл, травить мужа вздумала. Христа ради, Домнушка! Отпусти ты меня в монастырь, в монахи, к угодничкам. Слышь, Домнушка?
Он брякается на пол и, растянувшись во весь рост, мгновенно засыпает, тяжело дыша, и распуская себе в бороду пьяную слюну.
Домна с ненавистью смотрит на него.
Так, в полушубке, в сапогах и опоясанный, он спит всю ночь; на заре же, когда в окна заглядывает бледно-синий свет, он по привычке просыпается – день буденный, пора въезжать во леси. Хмель за ночь почти весь вылетел, только во рту гнусно, да ноет правая рука: или отлежал, или ею вчера ударился.
И видит Корней – с полатей слезает Домна. По той осторожности, с какою она спускается, он чует недоброе и закрывает глаза, притворяясь спящим, но наблюдая за Домной сквозь чуть несомкнутые веки.
В руках у Домны не то гвоздь, не то длинная игла.
«Нешто глотку проколоть хочет? – думает Корней и озлобляется. – Я те проколю, ведьма!»
Домна подкрадывается к нему, становится на колени и только что собирается вонзить иголку ему в ухо, как Корней схватывает её за руку и открывает глаза.
– Ты что, Домнушка, мужа убить задумала?
Он молчит, потупившись.
Корней поднимается и ударяет её ногой в грудь. Она падает ничком на пол и хотя тотчас же оправляется, но не встаёт с колен.
– Мужа убить вздумала? – свирепо гаркает Корней: – кормильца? Поильца? Стерва поскудная! А… А?
Он схватывает её за косу и бьёт свободной рукой по груди, без слов и с возрастающей яростью.
– Вон, поскуда! – бешено вскрикивает Корней и, схватив её в охапку, с размаху ударяет об окно. Однорядное стекло, звеня, разбивается, трещит крестец рамы. Ахнув, Домна вылетает на улицу и оседает голым телом, прикрытым одной исподницей, в рыхлый снег.
– Тятенька! – испуганно вопит пробудившийся Сенька. Корней озадаченно смотрит на него налившимися кровью глазами, а затем схватывает за ногу и тоже выбрасывает из окна.
– В-вон!
Сенька утыкается в сугроб рядом с матерью. Немного погодя из окна вылетает с пронзительным рёвом и Васятка и тоже обрушивается в сугроб. После того в избе поднимается такой грохот, как будто там справляют свадьбу черти. Горшки, опары, сковородки ударяются об стены и разбиваются; падает поставец с посудой; дребезжат стаканы, блюдечки и чашки. На миг воцаряется тишина, – вероятно, Корней ищет, что бы ещё сокрушить. Потом со стены срывают ходики и гремят о пол тяжёлыми гирями.
– Мамка! Ма-ма-а-мка! – ревут ребятёнки.
– Тише, вы! – огрызается на них Домна и, замирая сердцем, прислушивается. В избе стихает, – видно, больше нечего бить.
Домна берёт плачущих ребятишек за руки и, дрожа от холода, робко входит в избу. Корней сидит на лавке, созерцая труды своего ожесточения. Пол густо завален осколками и черепками, а поваленный поставец словно валяется у Корнея в ногах, вымаливая прощения.
Стоя у порога, Домна просит дрожащим голосом:
– Дозволь обогреться, Корней Петрович, студно ребятёнкам на улице.
Корней сурово отвечает: