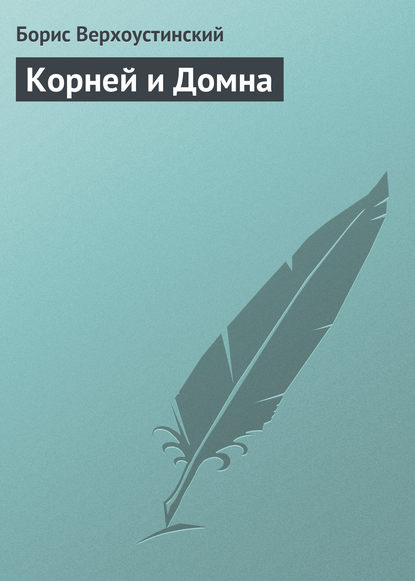По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Корней и Домна
Год написания книги
1913
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Яд, то есть?
– Во!
– Да ты травить, что ли, кого вздумала?
Домна торопливо отвечает:
– Известь мужика мово… Тиранит, тиранит меня, мочи нет. Слёз не вытираю из глазёнок, инда вся, как есть, дотла исходилась с ним. Уж ты будь добра, дай какого ни на есть, хоть плохонького зелья.
– С ума ты сошла! – возмущается учительша. – Как тебе не стыдно? Да разве возможно? Не знаешь, что говоришь. Мужа травить вздумала… Какой бы он ни был, а всё-таки человек.
Домна брезгливо усмехается:
– Че-ло-век!
Учительша кладёт ей на плечо свою руку и урезонивает:
– Не нравится, так уйди; а такое дело разве мыслимо?
– Эх ты, Миколаевна! – освобождается от её руки Домна: – правду молвят в деревне…
Она дерзко взглядывает на гостью:
– Истину молвят, Миколаевна сладка к мужикам, потому нашу сестру, бабу-мытарницу, и не хошь уважить.
Гостья вспыхивает:
– Что? Что ты сказала? К кому сладка?
Домна ехидно прищуривается:
– Уж ладно, даром темнишь, Миколаевна. Не знаю будто, зачем ездишь в Черехово. Хо-хо! Больно пригож тамо псаломщик, что и говорить. Мужичкой побрезгует, а ты в самый раз.
Учительша краснеет, как маков цвет.
– Не хорошо, Домна, людей оговаривать.
Когда она берётся за дверную скобку, её руки дрожат.
Домна язвит ей вслед:
– Уж и обиделась. Я, Миколаевна, что на уме, то и на языке, не как иные. И… и, касатка, кто Богу не грешен, царю не виноват.
Гостья оборачивается, укоризненно смотрит на Домну и уходит.
У Домны всё нутро трепещет от злорадства. Ловко она отчитала её, до праздника не забудет!.. Напялила жакетку, да и думает, будто уж и всамделишная барышня. Как не так – на-ко, выкуси пирога с клюквой! Трудно было уважить, ну, зато и казнись. А зелья достать, чай, можно и от Захарьевны, она на эти затеи дошлая.
Домна обувается в валенки и уходит из избы к знахарке Захарьевне. Ежели у кого порез и хлещет кровь, не переставая, то Захарьевна мигом заговорит – кровь остановится. Тоже развораживает сглазы, гадает на воде, на картах и на бобах, а лечит куда ловчей фельдшера. Порой безмужняя баба нагуляет себе плод – поклонись Захарьевне, потерпи, как примется мучить – и сбудется плод; вернётся муж, чиста баба по-прежнему. Бывает и так – согрешит девка с одним, а помолвится за другого. Тут-то и нет цены Захарьевне: такое смастерит, что все концы в воду.
Избушка Захарьевны с краю деревни – тёмная, низкая, прогнившая. Сама же Захарьевна землиста лицом, раскоса глазами и расплывшаяся, как квашня. Нет работы – Захарьевна побирается по миру: иногда заглянет вдовый мужик – Захарьевна и с него зарабатывает деньгу, гривенник, пятиалтынный, двугривенный… И самой не обидно, и вдовцу полегчает. Голос у Захарьевны с гнусцой, а зубы чёрные, как угли.
– Здравствуй, здравствуй, кормилица. Садись, голубонька, да выкладывай, с чем пришла.
Домна оглядывает грязь избы.
– А и смердит же у тебя, Захарьевна; с чего бы это?
– Такой в стенах дух, Домнушка, да и травы другие вонючие.
Под потолком висят вениками сухие запылённые травы – тут ромашка, тут зверобой, тут вещий папоротник, тут Богородицыны слёзы, мята, иван-чай…
Захарьевна льстиво ухмыляется:
– И ты, касатушка, к сироте заглянула, а то все идут, одной Домнахи нетути. И что же с тобой, голубонька моя сивая, приключилося? Али добрый молодец сердышко иссушил? Али неможется?
– Не! – отвечает Домна: – какой к ляду молодец….Корней извёл, мочи нет. Дай-ко, бабонька, зелья какого супротив.
– Ахти! – удивляется Захаровна. – А я чаяла, Корней тихий мужик, а он эва куда!.. Да он тебя, голубонька моя, обидел-то чем? Бьёт крепко?
– Нелюб горазд! – тихо отвечает Домна, и от этого слова ей становится так горько, что руки, как плети, опускаются на колени. – Сделай милость, а я уж тебя не обижу.
Захарьевна тревожно взглядывает на дверь.
– Ой, родная! А ведь дело-то выходит и вовсе негожее. Дать – дам, а скачурится он, кого к ответу? У кого зелье брала? У Захарьевны. Пошлют сироту за запоры железные.
– Не бойсь. Коли что, одна ответ держать буду, тебя не выдам.
Захарьевна что-то прикидывает в уме.
– Дашь синенькую?
– Ох ты! – пугается Домна. – Да ты больно дорого. Трёшню возьми, а окромя – ни копеечки. Рада бы радёшенька, да нету. Какие наши достатки, одна беда.
– Мало! – качает головой Захарьевна: – тут не что-нибудь, а жизни порешится…
Домна вынимает из кармана трёхрублёвку и, выложив на ладони, гладит её. Мутные и нечистые глазки знахарки разгораются.
– Ты, сладкая, слышь? – она тянется опухшими, лоснящимися пальцами к деньгам. – Знать не знаю, ведать не ведаю – кто ты есть и почему. Кумекаешь?
– Ну?
Захарьевна снимает с печи мешок, долго копается в нём и наконец вынимает две склянки; в одной болтается желтоватая жидкость, в другой лежит чёрный порошок.
Захарьевна ставит склянки на стол и осклабляется:
– Баешь, зелья надобно. И что ты, сердышко, придумала? Да я ни в жисть! Ой-ошеньки! И можно бы то, да воли моей на то нетути. Иди, ясная, к дому, да смотри – не трожь склянки, а то здеся масло купоросное; выпьешь его невзначай, так ноги будто соломинки и срежутся. А здесь отрава из семи змеиных голов, да из папоротника, да из жабьих косточек. Как подсыпешь ненароком в водку али в квас, тут тому и скончание. Иди, иди, пташенька. Эва, что выдумала…
Захарьевна, лукаво ухмыляясь, повёртывается к Домне спиной и шепчет: