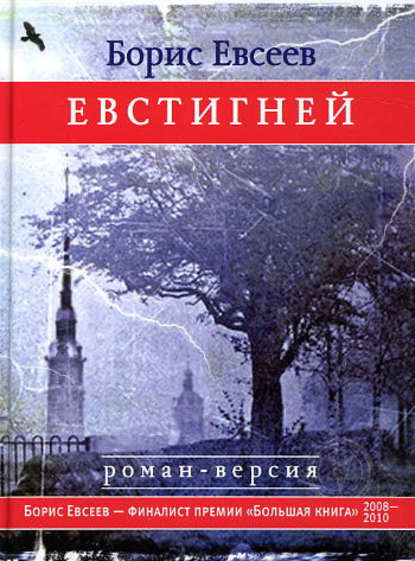По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Евстигней
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Малевать – получалось.
А что малевальную способность обставляла чредой и линеила мерой музыка – того в классах не приметили.
Начинали наставники бодро, с азов.
– Глагол… добро… есть. Живет… како… люди. Мыслете… слово… твердо.
Особенно веселило это самое — «мыслете слово твердо». Потому как был в тех словах, составленных из начальных буквиц, не один только смысл! Был таимый напев.
К «слову» – привешен был колоколец. Рядом с «твердо» – ухал полковой тулумбас. «Мыслете» – летало по Санкт-Питер-Бурху прожорливым ветром, повертывая людские легковерные головы флюгерами всегда в одну и ту же сторону, а затем сии головы обламывая с наскоку!
Слова, составленные из начальных букв, сбившись в стайки, носились в Училище.
Но только днем.
Ночью же дом Воспитательного при Академии художеств училища становился гробоподобен, каменел во гневе, звучал бессловесною скорбной музыкой.
Ночного дома новый воспитанник пугался насмерть. Однако пугливость свою наружу не выставлял. Да и кому об ней скажешь?
Наставники строги, громогласны. Говорят все больше не по-русски, а чтоб лучше их понимали – дерут за уши, руганью хлещут.
– Ля петит кошон… Ассейву, мизерабль…
Ну и в ответ им конечно:
– Же пердю?..
– Как-с? У-у, гранд кошон! – И уж дальше по-русски: – Стоять столбом!
Затрещина что от соотечественников, что от мусью и мадам – пудовая. Перед глазами, конечно, искорки россыпью. За искорками – сутемь.
– Коман сава?
И ведь не поймешь, кого спрашивают. Его самого? Соседа по лавке?
Подсказки летят, как те летние осы, со всех сторон, кучей, разом:
– Комси комсой!
– Яко сиски… Яко сиски…
– Комси комсаем, тебя дурака спасаем…
Да только одними подсказками сыт не будешь. Хочется слова французские уразуметь. А неможно! Потому как слова те ни к музыке, ни к рисунку никак не приладишь, никакого облика или хотя б начертанья в них не заметно.
А значит – молчок.
За молчание – указкой по пальцам.
Эх! В полковую слободу бы сейчас. К матери, к вотчиму. Свиной кожи нюхнуть, а ежели кишки запоют, грызануть сухую корку. Тут ведь, в Училище, в неурочный час еды не дождешься. Учись, мучайся, покуда не околеешь!
Только и отдохновения, что в рисовальных классах.
По рукам наставник не бьет (пальцы в рисовании – первое дело). Да и не говорит ничего вовсе. Ясное дело: не француз, немец, немой, стало быть. Зато, как надобно малевать, немец ловко показывает. Круг, кружок, завиток. Хвост, четыре палки да шерстки клок – и побежала собачонка по Питеру! Хоть кривонога, да не голодна: круглая, сытая.
Друг Стягин – тот малевать не умеет. И учиться не хочет. Ему б только насвистывать. Он и Евсигнеюшку свистать обучил.
– Не деньгу учись просвистывать, – наставлял старший двумя годами Стягин. – Фасону учись задавать.
Что такое «задавать фасону» – Еську неведомо.
Неясного и в учении, и после него – вообще немало. Многое и вовсе до ума не доходит. Многое затверждается без должного разумения: шевелением нескончаемо повторяющих одно и то же губ.
Однако и на месте ученье не стоит: сперва тяжко-медленно, потом – шустрей, веселей оно идет. Идет, погромыхивая льдинами, а то и неслышно: как летняя Нева.
Случались в ученье и казусы.
Все никак не мог Есёк выучиться аккуратному письму. Буквы вихлялись, наскакивали одна на другую, чернила кляксали крупно, дерзко.
Уроки чистописания – сплошная мука.
Не раз и не два, сидя над новенькой кляксой, Есёк раскидывал умом: как сие пятно от наставника скрыть? Рукавом прикрыть – заметит. Ладошкой? Ладошку отвести заставит. Самому разве глаза закрыть? Тогда и пятна чернильные сгинут.
Закрыл, и представилось: шагает он, Евсигней, по чистому, не измеряемому ни вдоль, ни поперек листу. И с того листа всякий письменный сор и, главное, мелкие чернильные озерца сам же веничком смахивает. Сор чернильный летит в стороны, исчезает, а сам Есёк ни следочка обувкой своей на листе не оставляет!
Тут, ясное дело, затрещина. И вслед за ней перед глазами все тот же плоский лист. Только уж не громадный, обычный. Наставник каплет на тот лист чернилами, воспитанники смеются, тошнота от чернил пролитых аж к самому горлу подступает.
А наставник Бизяев – хвать за вихор!
– Пиши чисто! Мысли гладко! А штоб запомнил – лижи чернила языком, неуч!
Стал лизать. Чернила пришлись по вкусу.
– Будешь цельный год у меня с языком синим ходить! Еще и уши, и физию тебе вымажу. Не отмоешь!
А того и не знает Бизяев: с того самого дня и письмо, и чернила для Еська всё приятней, всё слаще делаются. Выучится он писать чисто, еще как выучится!..
Тремя годами ранее – в 1764-м – императрица Екатерина Академию «трех знатнейших художеств» переустроила. С того времени порядок обучения в названном учебном заведении был таков.
Перво-наперво был объявлен пятнадцатилетний курс. Курс, в свой черед, разбили на пять «возрастов». В каждом из этих «возрастов» воспитанники обучались по три года. В первых трех «возрастах» – детском, отроческом и юношеском – воспитанники училища обязаны были пройти науки для образования общего. В последние три года – из девяти начальных – определено им было заниматься основами своего будущего ремесла. Но при том – и уж это непременно – заниматься архитектурой.
Архитектура в Академии «трех знатнейших художеств» главной наукой в те годы и была. А уж рядом с ней – не дойдя до архитектуры порядочно – вытягивались в струнку живопись, скульптура и прочие второстепенные художества.
Строить намеревались много. Лепить – тож. Ну а где дворцы с лепными фигурами, там отчего ж и картину в позлащенной раме не вывесить?..
После девятилетнего «усвоенья основ» воспитанники Училища попадали прямиком в Академию. И уж там, в оставшиеся шесть лет, полностью отдавали себя выбранному делу: готовились стать мастерами, ваятелями, зодчими, да такими, каковым не стыдно поручить и постройку царских палат! Также – театров, верфей, цейхгаузов, пристаней и прочего.
Матушка Екатерина знала, что и как переустраивать! Многое учла, многое предусмотрела. Вот только про музыку отчего-то в трудах своих позабыла.