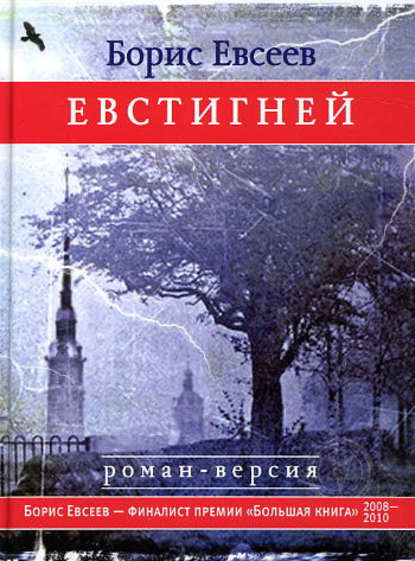По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Евстигней
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Было и еще одно виденье. Только раз мелькнуло, а запомнилось на всю жизнь.
Явился одного разу Евсигнеюшке Новый Век.
Курносый, как гаубица! С вылупленными глазами! С мордой юродской, перекривляканной и в прошитом золотыми нитями нерусском мундире.
Короткий Век явился, не длинный!
Явившись – рявкнул:
– Я Короткий Век! А ты мокредь серая. Слушать меня! Молчать, не дышать! Град Петров есть Сизифов труд! И тебе, мокрице, тем Сизифовым трудом в граде Петровом до смерти труждаться…
– Не верю я про град Петров… – шепнул сам себе, а получилось – Короткому Веку Евсигнеюшка.
– Не веришь? Ах, бестолочь! Ничего, подрастешь – поверишь. А только знай: настанет мой черед, настанет и твой. Приду я – уйдешь ты! Слышишь? Пушки палят! Города по равнинам скачут! Море на берег выходит, и птица дерзкая в небе кружит: твоих потрохов ищет! Слышишь? Видишь? Обоняешь? А тогда, при моем всамделишнем приближении, глаза твои станут – стекло, и нюх твой станет – вонь! Слух разорвется на части, а частей-то и не собрать! Даром слух острить будешь! Дар-р-ром!
Тут Евсигнеюшка от страху с койки и сверзился.
Не зашибся, не помер, стал видение про Короткий Век малевать эскизно.
Малевал, малевал, бросил.
Млея от робости, в первый раз за годы учения решился подойти к наставнику, решился спросить у Евстафия Григорьевича Сечкарева:
– Кто есть Сизиф? И в чем труд его состоит?
Сечкарев был прославлен пением. Особенно сладко пел он – так передавали – в некой постанове на древний сюжет, называемой чудно и приманчиво: «Цефала и Прокрис».
– Сизиф есть греческий герой из греческой же старинной сказки. Однако сказка ложь, да в ней намек, молодому дарованью всегда и во всем урок. Трудись, да не перетруждайся. Так-то, друг лубезный! – Стареющий Сечкарев слабо хихикнул, сморщенным кулачком ткнул Евсигнея в плечо.
Не умея разгадать связь Сизифа с Новым Веком, ждал с той поры Евсигнеюшка и бессонных ночей, и Нового Короткого Века с тревожным трепетом. Но и с дерзким нетерпеньем ждал!..
Ученье – шло себе и шло. Однако мало-помалу делалось слабо ощутимым, мертвоватым. Нового отмеряли по крохам. Талдычили азы, повторяли пройденное.
Начальные годы можно было бы уподобить солдатам на плацу: прошагали ровно, без зуботычин и фухтелей, без поощрений и мучения с парадными мундирами, – и славно!
Да только воспитанникам, уже кое в чем поднаторевшим, хотелось большего. Жаждали перехода к делу настоящему: жаждали перехода в саму Академию. Еще жаждали перемен жизни и отличий в учебе.
Перемены и отличия явились.
Первая и важнейшая жизненная перемена была такой: пропала ненавистная манная каша. За кашей истаяли в воздухе затрещины и оплеухи. Из сыроватых туманов, из мышиных углов, стало выступать непреложное: ученье – не тьма водяная, не гора ледяная, не волна верченая, сине-черная! Ученье – как ни крути – свет, свет!
Дана была внезапно тому ученью-свету и новая озвучка, а уж из звука выломился новый, отличный от прежнего смысл: Есёк услыхал скрыпку! Не то чтобы раньше он ее не слыхал. Слыхал, но издалека, неотчетливо. А тут…
Одного вечера заиграли за стеной. В голову мигом вступило: играют на человечьих, сперва вымотанных из его, Евстигнеева, нутра, а затем туго натянутых жилах!
Слышимый звук и название музыкального снаряда разнились.
Еще года два назад, услыхав сие название, – застыл в недоумении. Потом обиделся: скрыпка? Никакого скрыпу сей музыкальный снаряд не издавал. А вот жилы на скрыпице и впрямь были: серые, воловьи, туго верченые. Сама ж скрыпица – ежели стоймя ее поставить – походила на карлицу-арапку, запримеченную минувшим летом в саду на прогулке. Те ж завитки над тонюсенькой шеей, те же выпуклости повыше и пониже, те же проделки: визги и подхихикиванья, а после – слезы, а после – плач…
Скрыпица смолкла. Миновали минуты, потом, пожалуй, и получас…
Выглянул – никого. Тихо прокравшись к оставленной в пустой каморке без присмотру скрыпице, Есёк попробовал играть: с ходу, с налету!
Тут дикий скрып по пустым коридорам и разнесся.
Млея от стыда, стал просить вернувшегося и тут же вознамерившегося скрыпицу свою отобрать воспитанника Козлова: научи!
Просил-молил неотступно. Козлов отпихивался ногой. Есёк – чего с ним отродясь не бывало – наседал и наседал.
Сию потешную, но и грустноватую сцену заметил сквозь приоткрытую дверь проходивший мимо наставник юношества и артист оркестра Ключ-Соль, прозванный так за клонимую набок острозатылочную голову, громадное пузо и соломенные брыкливые ножки. Этот самый Ключ-Соль, то бишь Ключ Скрипичный, и стал вечерами, на свой кошт и без уведомления начальства, учить Еська на скрыпке.
Через шесть месяцев Ключ-Соль – наставник и оркестрант – выразился так:
– Кабы ты, Евсигней, двумя-тремя годами ранее стал на скрыпке учиться – вышел бы из тебя скрыпач первостатейный… А так… Пальцы негибки, кисть руки вихляется слабо. Год тебе сколько?
– Одиннадцатый минул…
– Ну так вот чего я тебе скажу. Для себя играть – будешь. Для публики, тем паче для двора – и не суйся. Проворонил ты время, друг ситный, поздно спохватился. Разве кого из наших из русских скрыпалей просить руку тебе поставить? Господина Хандошкина разве… Он, бают, скоро у нас в Академии профессорствовать станет.
«Сам себе руку поставлю. Смогу. Сумею, – решил Есёк. – Опротивело мученье архитектурное. Не по мне оно нынче…»
С той поры и на долгие годы скрыпка стала главною мукой, но и тайной усладой: поздно взялся, да ухватил крепко!
Глава пятая
Перед Академией
В понедельник – я банюшку топил.
А во вторник – я в ту баньку ходил.
Во середу – в угаре пролежал.
А в четверг – буйну голову чесал.
А в пятницу – добры люди не пряли.
А в субботу – родителей поминали.
Днем воскресным – на свадебке гуляли…
Так, ища воли в словах, припевали-приговаривали когда-то в полковой слободе и в полку. Приговаривали, маршируя и заряжая, готовясь к войне или к плац-параду. Легче от тех приговорок не становилось, но перед глазами чуть светлело.
Здесь, в Воспитательном училище, глядеть окрест было не так тошно, как в полку. Мир окольный при входе в Училище менялся, становился вроде бы не всамделишним и оттого нестрашным.
Семь лет прошелестели подобно семи дням недели. Схлынули, как весенняя вода в Малую Невку. Перемены за семь лет – немалые. И вокруг Евсигнеюшки, и у него внутри.
Отлетела навсегда чертежная горячка. Напрочь пропала архитектурная охота. Даже петь не так уж сильно хотелось. Верней, хотелось, но по-иному, чем в детстве.
Хотелось петь и сопровождать свое пение игрой на каком-либо инструменте: подобно греческому Орфею, о котором в последнее время нередко – и едва ли не с умыслом тайным – толковали наставники.
Скрыпка для такого сопровождения не годилась. Годились клавикорды.
Однако нестерпимей желания сопровождать собственное пенье игрой на клавикордах, было желание заставить других играть и петь по-своему. Не палкой, не шпицрутенами! Мелодией небывалой заставить. Хорошо б еще и растолковать каждому, что да как. А растолковав – расписать (не торопясь и той неторопливостью наслаждаясь) на ноты…
Явился одного разу Евсигнеюшке Новый Век.
Курносый, как гаубица! С вылупленными глазами! С мордой юродской, перекривляканной и в прошитом золотыми нитями нерусском мундире.
Короткий Век явился, не длинный!
Явившись – рявкнул:
– Я Короткий Век! А ты мокредь серая. Слушать меня! Молчать, не дышать! Град Петров есть Сизифов труд! И тебе, мокрице, тем Сизифовым трудом в граде Петровом до смерти труждаться…
– Не верю я про град Петров… – шепнул сам себе, а получилось – Короткому Веку Евсигнеюшка.
– Не веришь? Ах, бестолочь! Ничего, подрастешь – поверишь. А только знай: настанет мой черед, настанет и твой. Приду я – уйдешь ты! Слышишь? Пушки палят! Города по равнинам скачут! Море на берег выходит, и птица дерзкая в небе кружит: твоих потрохов ищет! Слышишь? Видишь? Обоняешь? А тогда, при моем всамделишнем приближении, глаза твои станут – стекло, и нюх твой станет – вонь! Слух разорвется на части, а частей-то и не собрать! Даром слух острить будешь! Дар-р-ром!
Тут Евсигнеюшка от страху с койки и сверзился.
Не зашибся, не помер, стал видение про Короткий Век малевать эскизно.
Малевал, малевал, бросил.
Млея от робости, в первый раз за годы учения решился подойти к наставнику, решился спросить у Евстафия Григорьевича Сечкарева:
– Кто есть Сизиф? И в чем труд его состоит?
Сечкарев был прославлен пением. Особенно сладко пел он – так передавали – в некой постанове на древний сюжет, называемой чудно и приманчиво: «Цефала и Прокрис».
– Сизиф есть греческий герой из греческой же старинной сказки. Однако сказка ложь, да в ней намек, молодому дарованью всегда и во всем урок. Трудись, да не перетруждайся. Так-то, друг лубезный! – Стареющий Сечкарев слабо хихикнул, сморщенным кулачком ткнул Евсигнея в плечо.
Не умея разгадать связь Сизифа с Новым Веком, ждал с той поры Евсигнеюшка и бессонных ночей, и Нового Короткого Века с тревожным трепетом. Но и с дерзким нетерпеньем ждал!..
Ученье – шло себе и шло. Однако мало-помалу делалось слабо ощутимым, мертвоватым. Нового отмеряли по крохам. Талдычили азы, повторяли пройденное.
Начальные годы можно было бы уподобить солдатам на плацу: прошагали ровно, без зуботычин и фухтелей, без поощрений и мучения с парадными мундирами, – и славно!
Да только воспитанникам, уже кое в чем поднаторевшим, хотелось большего. Жаждали перехода к делу настоящему: жаждали перехода в саму Академию. Еще жаждали перемен жизни и отличий в учебе.
Перемены и отличия явились.
Первая и важнейшая жизненная перемена была такой: пропала ненавистная манная каша. За кашей истаяли в воздухе затрещины и оплеухи. Из сыроватых туманов, из мышиных углов, стало выступать непреложное: ученье – не тьма водяная, не гора ледяная, не волна верченая, сине-черная! Ученье – как ни крути – свет, свет!
Дана была внезапно тому ученью-свету и новая озвучка, а уж из звука выломился новый, отличный от прежнего смысл: Есёк услыхал скрыпку! Не то чтобы раньше он ее не слыхал. Слыхал, но издалека, неотчетливо. А тут…
Одного вечера заиграли за стеной. В голову мигом вступило: играют на человечьих, сперва вымотанных из его, Евстигнеева, нутра, а затем туго натянутых жилах!
Слышимый звук и название музыкального снаряда разнились.
Еще года два назад, услыхав сие название, – застыл в недоумении. Потом обиделся: скрыпка? Никакого скрыпу сей музыкальный снаряд не издавал. А вот жилы на скрыпице и впрямь были: серые, воловьи, туго верченые. Сама ж скрыпица – ежели стоймя ее поставить – походила на карлицу-арапку, запримеченную минувшим летом в саду на прогулке. Те ж завитки над тонюсенькой шеей, те же выпуклости повыше и пониже, те же проделки: визги и подхихикиванья, а после – слезы, а после – плач…
Скрыпица смолкла. Миновали минуты, потом, пожалуй, и получас…
Выглянул – никого. Тихо прокравшись к оставленной в пустой каморке без присмотру скрыпице, Есёк попробовал играть: с ходу, с налету!
Тут дикий скрып по пустым коридорам и разнесся.
Млея от стыда, стал просить вернувшегося и тут же вознамерившегося скрыпицу свою отобрать воспитанника Козлова: научи!
Просил-молил неотступно. Козлов отпихивался ногой. Есёк – чего с ним отродясь не бывало – наседал и наседал.
Сию потешную, но и грустноватую сцену заметил сквозь приоткрытую дверь проходивший мимо наставник юношества и артист оркестра Ключ-Соль, прозванный так за клонимую набок острозатылочную голову, громадное пузо и соломенные брыкливые ножки. Этот самый Ключ-Соль, то бишь Ключ Скрипичный, и стал вечерами, на свой кошт и без уведомления начальства, учить Еська на скрыпке.
Через шесть месяцев Ключ-Соль – наставник и оркестрант – выразился так:
– Кабы ты, Евсигней, двумя-тремя годами ранее стал на скрыпке учиться – вышел бы из тебя скрыпач первостатейный… А так… Пальцы негибки, кисть руки вихляется слабо. Год тебе сколько?
– Одиннадцатый минул…
– Ну так вот чего я тебе скажу. Для себя играть – будешь. Для публики, тем паче для двора – и не суйся. Проворонил ты время, друг ситный, поздно спохватился. Разве кого из наших из русских скрыпалей просить руку тебе поставить? Господина Хандошкина разве… Он, бают, скоро у нас в Академии профессорствовать станет.
«Сам себе руку поставлю. Смогу. Сумею, – решил Есёк. – Опротивело мученье архитектурное. Не по мне оно нынче…»
С той поры и на долгие годы скрыпка стала главною мукой, но и тайной усладой: поздно взялся, да ухватил крепко!
Глава пятая
Перед Академией
В понедельник – я банюшку топил.
А во вторник – я в ту баньку ходил.
Во середу – в угаре пролежал.
А в четверг – буйну голову чесал.
А в пятницу – добры люди не пряли.
А в субботу – родителей поминали.
Днем воскресным – на свадебке гуляли…
Так, ища воли в словах, припевали-приговаривали когда-то в полковой слободе и в полку. Приговаривали, маршируя и заряжая, готовясь к войне или к плац-параду. Легче от тех приговорок не становилось, но перед глазами чуть светлело.
Здесь, в Воспитательном училище, глядеть окрест было не так тошно, как в полку. Мир окольный при входе в Училище менялся, становился вроде бы не всамделишним и оттого нестрашным.
Семь лет прошелестели подобно семи дням недели. Схлынули, как весенняя вода в Малую Невку. Перемены за семь лет – немалые. И вокруг Евсигнеюшки, и у него внутри.
Отлетела навсегда чертежная горячка. Напрочь пропала архитектурная охота. Даже петь не так уж сильно хотелось. Верней, хотелось, но по-иному, чем в детстве.
Хотелось петь и сопровождать свое пение игрой на каком-либо инструменте: подобно греческому Орфею, о котором в последнее время нередко – и едва ли не с умыслом тайным – толковали наставники.
Скрыпка для такого сопровождения не годилась. Годились клавикорды.
Однако нестерпимей желания сопровождать собственное пенье игрой на клавикордах, было желание заставить других играть и петь по-своему. Не палкой, не шпицрутенами! Мелодией небывалой заставить. Хорошо б еще и растолковать каждому, что да как. А растолковав – расписать (не торопясь и той неторопливостью наслаждаясь) на ноты…