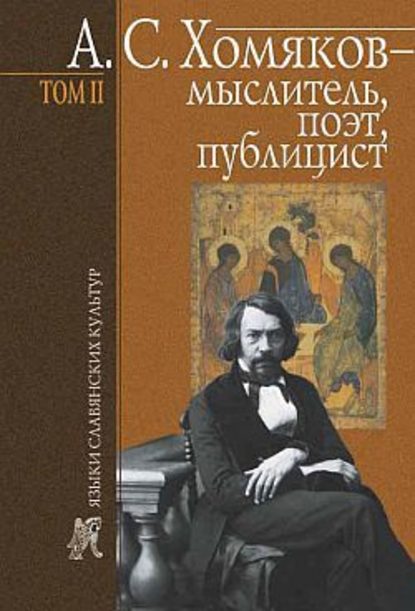По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Л. Е. Шапошников
Историософия А. С. Хомякова
Определяющим признаком славянофильской историософии, то есть религиозно-теистического варианта философии истории, является тезис о русском мессианизме как об особой исторической роли народа, порождаемой двумя факторами – Православием и общинностью. При этом Православие не случайно поставлено на первое место, ибо через призму религии славянофильство рассматривает все важнейшие проблемы как индивидуальной, так и социальной жизни, именно религиозный фактор определяет «ход истории».
Исходной посылкой философии истории А. С. Хомякова выступает оценка, процесс уяснения этапов религиозного развития человечества, ибо «тот не понимает настоящего, кто не знает прошедшего»[87 - Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1900. Т. 5. С. 21.]. В «Записках о всемирной истории» главный идеолог славянофильства делит все религии на две основные группы: иранскую и кушитскую, – а коренное их различие определяется, по его мнению, не числом богов и не обрядами, но категориями свободы и необходимости, которые «составляют то тайное начало», около которого в разных образах сосредоточиваются все мысли человека. Кушитство строится на началах необходимости, обрекая людей на бездумное подчинение, превращая их в простых исполнителей чужой воли. Напротив, иранство – это религия свободы, она обращается к внутреннему миру человека, требует от него сознательного выбора между добром и злом. Наиболее полно сущность иранства выразило христианство, но после его раскола «начала свободы» не принадлежат уже всей Церкви. Возникает проблема оценки различных направлений христианства. Важнейшим критерием при этом становится принцип гармоничного сочетания «свободы и необходимости», или индивидуальных религиозных представлений и обязательных для всех церковных догматов. При решении этих задач и было выработано славянофильское учение о соборности.
Русский мыслитель вопрос об истинной вере сводит к уяснению того, какое направление христианства – православие, католицизм или протестантизм – наиболее адекватно выражает сущность евангельской религии. Вот почему А. С. Хомяков так много места в своих работах отводит рассмотрению основных направлений христианства. Сложность оценки того или иного вероисповедания, по его мнению, заключается в том, что религиозное учение познается не рассудочно, а жизненно. Благодаря этому и проявляется вера, которая знаменует «присутствие Духа истины в нас самих». Этот подход неизбежно сопровождается признанием решающего значения «мистических озарений» в религиозном познании, что порождает опасность субъективного истолкования христианства. Низведение же религиозных убеждений на ступень субъективных воззрений приводит не просто к игнорированию, а к самому «радикальному отрицанию Откровения». Для того чтобы преодолеть эту опасность, необходима гармонизация «единого» церковного начала с индивидуальной религиозностью членов церковного организма.
Католики, как считали славянофилы, «гармонизацию единства и множественности» свели к безусловному авторитету «единства». Власть папы сделалась «последним основанием веры», и рядовые члены Церкви, т. е. народ, «не должен был мыслить, не должен был даже читать Божественного Писания»[88 - Киреевский И. В. Полн. собр. соч. М., 1911. Т. 1. С. 229.]. В силу этого в католицизме сложилось нетерпимое отношение к «самостоятельному человеческому мышлению». Почти все выдающиеся мыслители в той или иной форме преследовались католической церковью. Узурпация власти римским папой привела также и к извращению символа веры. «Вселенская непогрешимость», основанная на решениях первых всехристианских соборов, отвергается введением новых догматов. Тем самым нарушается критерий «религиозной истинности», ибо новые положения вероучения не вытекают «органически» из Священного Писания и церковного предания.
Закономерной реакцией на отсутствие в католицизме «церковной свободы» является, по мнению славянофилов, появление протестантизма. Главным объектом критики со стороны протестантов становится католическое понимание единства. Отвергая власть папы, подавляющую индивидуальную религиозность, реформаторы христианства впадают в другую крайность, выдвигая на первый план внутреннее проявление религиозных чувств. Протестантизм, как отмечает А. С. Хомяков, «держится такой свободы, при которой совершенно исчезает единство Церкви»[89 - Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1900. Т. 2. С. 112.]. Индивидуализация христианства так же неизбежно ведет к извращению вероучения, «к отрицанию догмата как живого предания». Вместо авторитета церкви у протестантов появляется авторитет разума, начинает господствовать философский рационализм. Несмотря на формальное различие между католицизмом и протестантизмом, в них много общего. Прежде всего их сближает поиск внешних критериев истинности религии: у одних это папа, у других – собственный разум. Отсюда господство утилитарных начал в западных вероисповеданиях, их направленность к «земным целям». Все это приводит к тому, что католики и протестанты «судят о вещах небесных как о вещах земных»[90 - Там же. С. 108.]. Подвергнув критике католицизм и протестантизм, А. С. Хомяков обосновывает тезис о том, что только православие гармонизирует церковные и индивидуальные начала. Главным достоинством православной церкви, по его убеждению, является сохранение в «чистоте христианского вероучения». Только православный Восток исповедует символ Никее-Константинопольский, из которого истинная Церковь «ничего исключить и к которому ничего прибавить не позволяет»[91 - Там же. С. 9–10.]. Для выработки гармоничного сочетания индивидуального и церковного необходимо обратиться к учению о соборности.
Соборность является одной из характеристик Церкви, включенных в православный символ веры, девятый член которого формулируется следующим образом: «Верую во единую, святую, соборную и апостольскую Церковь». Хомяков особо подчеркивает, что учители православные остановились при переводе символа веры на славянский язык «на слове соборный». Это был принцип церковной и социальной жизни, который оказывал существенное влияние на формирование отечественной духовной традиции. Однако понимание соборности долгое время не имело адекватной философской формы выражения.
Наиболее полно учение о соборности было раскрыто в работах А. С. Хомякова. В противовес католицизму и протестантизму он считает неприемлемым рассмотрение Церкви как союза мирян и клира, основанного на «внешнем авторитете», ибо сама экклесия не может рассматриваться как «множество лиц в их личной отдельности»[92 - Там же. С. 3.]. Церковное единение предполагает качественные характеристики и не должно ограничиваться количественными показателями. Важнейшей чертой жизни церковной общины выступает «углубленность ее членов в истину».
Для славянофилов принципиально важны два момента: во-первых, истина не принадлежит избранным, она достояние всех тех, кто «вошел в церковную ограду»; во-вторых, приобщение к истине не может быть насильственным, так как «всякое верование <…> есть акт свободы»[93 - Там же. С. 43.]. Отвергая принуждение как путь к единству, славянофилы ищут более эффективное средство, способное сплотить Церковь. Таким средством, по их мнению, может быть только любовь, характеризуемая не только как этическая категория, но и как сущностная сила, обеспечивающая «за людьми познание безусловной истины»[94 - Там же. С. 108.]. По мнению А. С. Хомякова, наиболее адекватно выразить сочетание имманентного единства, основанного на свободе и любви, может только слово «соборный». Оно выражает «идею собрания», притом не только видимого, но и «существующего потенциально без внешнего соединения. Это единство во множестве»[95 - Хомяков А. С. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1994. С. 242.].
Анализируя церковные критерии соборности, А. С. Хомяков приходит к выводу, что они проистекают от «духа Божия», живущего в Церкви и «умудряющего ее» и выступающего «в писании, в предании и в деле». Следовательно, соборность представляет собой «дар благодати, даруемый свыше», отсюда внутреннее основание «непогрешимости соборного сознания». Внешним же критерием соборности выступает принятие тех или иных религиозных положений «всем церковным народом». Ярким примером подобного одобрения религиозных истин были Вселенские соборы, выработавшие христианские догматы и каноны. Согласно взглядам Хомякова, соборное сознание не может рассматриваться как статичное образование. Например, «нет пределов писанию», ибо «всякое писание, которое Церковь признает своим, есть Священное Писание»[96 - Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 8.]. Следовательно, по мере одобрения «всей полнотой Церкви» тех или иных религиозных положений они приобретают статус «соборных решений».
Изложенное понимание христианских истин критиковалось православными богословами прежде всего за «преувеличение значения человеческих начал в жизни Церкви». Однако нельзя упрекать Хомякова в абсолютизации внешних критериев соборности. Для него «церковный народ», то есть видимая церковь, живет по христианским принципам лишь постольку, поскольку подчиняется Церкви невидимой, небесной и «соглашается служить ее проявлениям». Поэтому внутренний критерий соборности, связанный с Духом Святым, и внешний ее критерий, опирающийся на «единомыслие церковных чад», не противостоят, а взаимодополняют друг друга.
Понятно, что Церковь мистическая и историческая связаны между собой. Реальная церковная практика никогда полностью не воплощает идеалов Церкви небесной, но именно в силу этой взаимосвязи христианское учение «становится жизненным». Оно изменяет не только душу индивида, но и его отношения с другими людьми, то есть социальную сферу, так как «благодать веры неотделима от святости жизни». В связи с этим представляется спорной позиция С. С. Хоружия. Известный философ считает, что учение Хомякова о соборности «оказалось по существу раскрытием одного главного вывода, вывода о благодатной и сверхэмпирической природе Соборного Единства», в нем идет речь о «Церкви мистической и невидимой»[97 - Хоружий С. С. После перерыва: Пути русской философии. СПб., 1994. С. 23.]. Однако нет непроходимой границы между Церковью мистической и земной, и А. С. Хомяков был убежден, что соединение человека со Христом «тогда лишь получает свой венец, когда оно осуществляется в реальном мире, в принципе общежития»[98 - Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 225.].
«Единство во множестве» выступает определяющим признаком соборности, позволяющим выделить этот феномен из мира других духовных образований. В свою очередь, соборность становится у славянофилов критерием правильности религиозной веры и основанной на ней церковной жизни, имеющей в их концепции определяющее значение для всех других сфер человеческой деятельности.
Исходя из общих установок учения о соборности, А. С. Хомяков анализировал и исторический процесс. Он справедливо отмечал, что у многих историографов прошлое «превратилось в бесконечное множество подробностей», и за этим обилием фактического материала «пропало всякое единство»[99 - Там же. Т. 5. С. 42.]. Подлинным же предметом истории является «отыскание общих начал», ибо все мелкие явления получают свой «характер и окраску от целого». Какие же общие начала детерминируют «неотвратимую логику истории»? Будучи глубоко верующим человеком, русский мыслитель не мог отказаться от одного из основных положений христианского вероучения – провиденциализма. В своих работах он неоднократно подчерчивал, что «нельзя по справедливости не признать путей промысла в общем ходе истории»[100 - Там же. Т. 2. С. 42.]. Именно «дух Божий, живущий в совокупности церковной», и направляет общественное развитие. Но сам этот дух, по принципу соборности, «проявляется во множестве», т. е. в действиях отдельных людей.
Идея «соборности», как считал философ, дает ему возможность совместить провиденциализм с активностью человека. Он утверждал, что «неразумно <…> брать на себя угадывание “минут” непосредственного действия воли Божией на дела человеческие». Подобное «угадывание» связывает надежды на лучшее будущее лишь с Господом, оборачиваясь «преступным пренебрежением к человеческим способностям». Человек – существо деятельное, поэтому он должен «напрягать все Богом данные силы, не требуя от него чудес и исключений из общих законов»[101 - Там же. М., 1904. Т. 8. С. 136.]. Реальный исторический процесс – это всегда совокупность «действий свободы человеческой и воли всемирной». При таком понимании «божественная воля» выступает в виде объективных законов развития общества, которые проявляются через деятельность людей. Сами же чудеса трактуются не как «нарушение общих законов», а как «проявление силы, о которой вы еще не имеете полного знания»[102 - Там же. С. 339]. Поэтому исследователь, для того чтобы понять ход истории, не должен ограничиваться ссылками на божественную волю, а обязан изучать деятельность людей. Для славянофилов именно «народ является единственным и постоянным действователем истории». Поэтому А. С. Хомяков выступал с критикой исторических работ Н. М. Карамзина и С. М. Соловьева, которые воспринимали народ как «пассивный человеческий материал». Тем более для него были неприемлемы господствовавшие церковные взгляды на роль народных масс в истории. Он справедливо отмечал, что призывы Церкви «смиренно ждать милостей божьих» во многом объясняются позицией правительства, которое хорошо понимает «практическую выгоду религии <…> в особенности по отношению к низшим слоям народа»[103 - Там же. Т. 2. С. 141.].
В работах славянофилов часто встречаются термины «народ» и «народность». Вообще тема «славянофилы и народ» – одна из центральных при оценке этого течения. При этом славянофильская трактовка народа получает полярные оценки. Если для одних она пример «разнузданного патриотизма», ведущего страну к гибели, то для других, напротив – проявление движения к «приобретению мировой роли, мирового значения России». А. С. Хомяков хорошо понимал значение правильного раскрытия понятия «русский народ», но однозначного его понимания у славянофилов не было. Н. А. Бердяев отмечал, что «Хомяков в своем учении о национальном призвании постоянно смешивает точку зрения религиозно-мистическую с точкой зрения научно-исторической»[104 - Бердяев Н. А. Алексей Степанович Хомяков. М., 1912. С. 210.]. Действительно, с одной стороны, славянофилы как бы абстрагируются от исторических реалий, рассматривая народ как некий постоянный «набор идеальных качеств», выделяя некую неизменную «духовную сущность», субстанцией которой выступает православие и общинность. С другой стороны, у русских мыслителей много места занимает анализ конкретного, современного им русского народа, основой которого выступает крестьянство, – не случайно славянофилы так резко выступали против попыток представить «русского крестьянина каким-то бессмысленным и почти бессловесным животным». Более того, ощущение реальной связи с народом для каждого человека, если он «не хочет создать вокруг себя пустыню», совершенно обязательно. Для Хомякова народ – «не условное» понятие, ибо речь идет о народе, «создавшем страну», с которым «срослась вся моя жизнь, все мое духовное существование, вся целостность моей человеческой деятельности». Можно согласиться с Н. И. Казаковым, отметившим, что «если ученые и писатели 30-х годов XIX в. были увлечены идеей народности в ее, так сказать, абстрактно-философском аспекте, то славянофилы перенесли это увлечение на живых носителей идей народности, на простой народ, и в особенности русское крестьянство»[105 - Казаков Н. И. Об одной идеологической формуле николаевской эпохи // Контекст. М., 1989. С. 13.]. Первыми же в советской литературе, отметившими связь славянофильского понимания народности с «трудящимся населением страны», были А. А. Галактионов и П. Ф. Никандров[106 - См.: Галактионов А. А., Никандров П. Ф. Славянофильство, его национальные истоки и место в истории русской мысли // Вопросы философии. 1966. № 6. С. 125.].
Ведущие идеологи славянофильского течения принадлежали к дворянской элите России, но на этом основании нельзя делать вывод, что «в славянофильстве прозвучал голос именно “интеллигенции” и никак не голос “народа”»[107 - Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 253.]. Конечно, А. С. Хомяков и его единомышленники были интеллигентами, прошедшими «через искус и соблазн европеизма», усвоившими многие культурные ценности, недоступные народу. Однако понимая всю трагичность разрыва между культурным слоем и народом, они пытались выступить своеобразной синтезирующей силой между этими полюсами. Славянофилы ощущали себя именно представителями народа, своеобразным «народным гласом» в образованном обществе, и у них было искреннее желание «послужить народным интересам».
В связи с решающей ролью соборного сознания в истории А. С. Хомяков рассматривает и деятельность великих личностей. По его мнению, развитие общества нельзя сводить к деятельности одного человека, хотя бы и гения. Ни одна личность, как бы велика она ни была, не может быть «полным представителем своего народа» и выражать все его чаяния и стремления. Значение «исторического деятеля» зависит от того, «какие потребности народа и насколько полно он восполнил». Именно в этом совпадении деятельности великих людей с народными стремлениями и содержится «возможность дальнейшего развития истории».
Такое понимание роли личности в истории приводит Хомякова к своеобразной трактовке самодержавия. Он считал, что монархия – лучшая форма правления для России. В то же время, по его мнению, царь получает свою власть не от Бога, а от народа «путем избрания на царство». Например, первый представитель династии Романовых, отмечает философ, не отличался какими-то особыми способностями, но в Михаиле Россия «видела <…> человека, которого избрала сама, с полным сознанием и волею»[108 - Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1911. Т. 1. С. 55.]. Поэтому самодержец, для того чтобы оправдать свое предназначение, должен «действовать в интересах всей русской земли». Однако «государь, как и всякий человек, может впасть в заблуждение»[109 - Там же. Т. 2. С. 38.], тогда политика монарха расходится с народными чаяниями. Подобная ситуация наступает в том случае, когда «не все сословия в равной степени пользуются его покровительством». Высшие слои общества, преследуя свои корыстные интересы, ставят крестьянство «вне закона». В России произошла деформация самодержавного принципа, ибо «дворянство разлучило простой народ с царем». Выявляя особенности славянофильской трактовки самодержавия, Н. А. Бердяев делает вывод о том, что она выступает «своеобразной формой отрицания государства»[110 - Бердяев Н. А. Судьба России. М., 1918. С. 4.], содержит определенный анархический элемент. Однако в действительности славянофилы не были сторонниками анархии, их концепция органического развития общества предполагает опору на базисные основания, среди которых одним из главных является государство. Анархия, как и любая революция, есть не что иное, как «голое отрицание, дающее отрицательную свободу, но не вносящее никакого нового содержания»[111 - Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 51.].
Органическое развитие, реализуя внутренние потенции социума, которые соответствуют его «коренным началам», вообще должно избегать крайностей. А. С. Хомяков в письме к Ю. Ф. Самарину, формулируя эту программу, отмечает, что надо показать суть принципов, которые «так же далеки от консерватизма в его нелепой односторонности, как и от революционности в ее безнравственной и страстной самоуверенности». Этим крайностям Алексей Степанович противопоставляет «начало прогресса разумного, а не бестолкового брожения»[112 - Там же. Т. 8. С. 240.]. При этом «разумный прогресс» отличается от прогресса рационального, ибо первый опирается на цельное познание, в которое с необходимостью входит вера, а второй – на человеческий рассудок, который, как правило, приводит к «односторонним отрицательным результатам», яркий пример – развитие западноевропейской цивилизации.
Анализ русской истории приводит мыслителя к выводу о ее принципиальном отличии от западной цивилизации. Эта позиция по форме схожа с тезисом П. Я. Чаадаева, однако выводы этих различных доктрин диаметрально противоположны. Если для первого это источник всех русских бед, то для А. С. Хомякова своеобразие отечественного прошлого – не недостаток, а благо. Все дело в том, что извратив символ веры, западное христианство тем самым предало забвению «соборные начала». Отсюда все пороки капиталистического общества, все недостатки европейской культуры, и прежде всего распадение социума на эгоистических индивидов. Отдельная же личность всегда является как «совершенное бессилие и внутренний разлад». Мерилом людей в капиталистическом обществе выступает «вещный элемент», поэтому главное стремление человека есть «стремление к прибыли». Подобные целевые установки разрушают нравственность и «не допускают ничего истинно общего»[113 - См. более подробно об отличиях Запада и России в воззрениях славянофилов: Шапошников Л. Е. Очерки русской историософии XIX—XX вв. Н. Новгород, 2002. С. 50–54.].
Россия, в отличие от переживающего кризис Запада, опираясь на «православную духовную основу», идет своим путем, который должен привести ее к мировому лидерству. Это высокое предназначение России необходимо осознать ее гражданам, ибо «право, данное историей народу, есть обязанность, налагаемая на каждого из ее членов». Обращаясь к отечественной истории, Хомяков стремится доказать «всесторонность и полноту ее начал», которые обусловлены не только религиозными, но и социальными факторами. Все дело в том, что Православие породило специфическую социальную организацию – сельскую общину. А. С. Хомяков в 1849 году в заметках «О сельской общине» изложил основные славянофильские тезисы по этому вопросу, подводя своеобразный итог разработке темы.
Сельская община, по его мнению, сочетает в себе два начала – хозяйственное и нравственное. В хозяйственной.области община, или «мир», выступает главным организатором сельскохозяйственного труда: каждому «предоставляют работу по душе». «Мир» решает вопросы вознаграждения за работу, заключает сделки с помещиком, несет ответственность за исполнение государственных повинностей. В изображении славянофилов экономическая.деятельность общины предстает как гармоническое сочетание личных и общественных интересов, а все члены общины выступают по отношению друг к другу как «товарищи и пайщики». Будучи крупными помещиками, они сами вынуждены были признать, что при устройстве общины проявляется «зависимость бедных от богатых», к тому.же крепостные крестьяне находились в полной зависимости от произвола помещика.
При рассмотрении нравственного значения сельской общины главный идеолог славянофильства признает также разрыв между «возможностью и действительностью». «Мир» содержит потенции, которые могут формировать у его членов потребность в общественной деятельности, готовность постоять за общие интересы, патриотизм, честность. Происходит это не сознательно, а «инстинктивно», путем следования древним религиозным обычаям и традициям. Подобное усвоение правил общежития является показателем жизненности общества, его крепости и здоровья. В концепции славянофилов нравственный соборный климат общины противостоит антагонизму «личного и общественного» в буржуазных странах. Однако российская действительность заставила А. С. Хомякова признать, что и общинное устройство никоим образом не устраняет аморализм, народные бедствия, различные злоупотребления.
Эти противоречия, как он считает, проистекают от деятельности государства. Хотя внутренние мероприятия правительства и не смогли полностью ликвидировать общину и она «есть одно уцелевшее гражданское учреждение всей Русской истории», все же бюрократизм во многом подорвал ее жизнеспособность. Особенно много вреда принесли общинному устройству реформы Петра I, который не понимал, что русский быт «органически возникает из местных потребностей и характера народного», и поэтому пытался его разрушить. Перенесение на русскую почву иностранных порядков привело к расколу общества на антагонистические группы, оторвало привилегированные слои от народа. По мнению Хомякова, необходимо возродить «коренные начала русской жизни». Однако он стремится доказать, что отнюдь не предлагает простую реставрацию допетровских порядков. Русский мыслитель в письме к А. И. Кошелеву предупреждал: «Отстрани всякую мысль о том, будто возвращение к старине сделалось нашей мечтою»[114 - Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1914. Т. 3. С. 462.]. С его точки зрения, необходимо при проведении социального переустройства учитывать и современные достижения в области науки, промышленности, образования, они не должны извращать «органических начал в обществе». Если Петр I «захотел втолкнуть Русь на путь Запада», то славянофилы выступали за восстановление русского «образа жизни», который неизбежно связан с традиционным бытом и историей. В славянофильском социальном идеале соединяются «элементы старины» и новейшие достижения в сфере «благоустройства земной жизни».
Исходя из принципиальной установки, что община в социальной жизни выступает как «истинное начало», которому уже «не предстоит найти нечто себя высшее», славянофилы требовали сделать «общинный принцип всеобъемлющим» и для этой цели создать общины в промышленности. Земледельческая и промышленная общины «находятся во взаимном согласии», ибо одна без другой не могут успешно развиваться. Общинное устройство, как считал Хомяков, должно быть также положено в основу государственной жизни, оно заменит собою «мерзость административности в России». По мере распространения «общинного принципа» в обществе все более будет господствовать «дух соборности». Ведущим принципом социальных отношений станет «самоотречение каждого в пользу всех». Благодаря этому в «единый поток сольются» религиозные и социальные устремления людей. В результате будет выполнена «задача нашей внутренней истории», определяемая славянофилами «как просветление народного общинного начала общинным церковным». В этой социальной программе нет места революционным выступлениям – вовлечение русского мужика в социальные конфликты считалось недопустимым. В одном из писем А. С. Хомяков отмечал: «У меня всегда была <…> против тех же революций ненависть нравственная»[115 - Там же. Т. 8. С. 203.]. Социальное переустройство должно проходить «медленно и едва заметно». Никакие реформы не могут насадить «дух любви к ближнему» без внутреннего перерождения человека. Положительные же изменения в душе человека возможны только на путях усвоения православных истин, и главная надежда Хомякова на лучшее будущее «заключается в одном слове: Христианство»[116 - Там же. Т. 5. С. 335.].
Взгляды А. С. Хомякова на исторический процесс обычно характеризуются как своеобразный вариант утопизма. Достаточно вспомнить известную работу польского философа А. Валицкого «В кругу консервативной утопии» или монографию украинского ученого Ю. Янковского «Патриархально-дворянская утопия», чтобы это подтвердить. А. Валицкий считает утопизм общей характеристикой русской мысли середины XIX века, ибо именно он «определял уровень сближения обоих типов мировоззрения», то есть славянофильства и западничества[117 - Walicki A. W kregu konserwatywnej utopii. Warszawa, 1964. S. 363.]. Можно согласиться с тезисом: и западничество, и славянофильство содержали элементы утопизма, однако он их отнюдь не сближал – его направленность в обоих течениях была различна.
Если утопизм западничества сводился к трансляции западноевропейских ценностей, которые сами по себе должны были разрешить все отечественные проблемы, то славянофильский был направлен прежде всего на поиски альтернатив западному пути развития. Наряду с несбыточными идеями во взглядах славянофилов была представлена реальная программа, осуществление которой способствовало бы органическому развитию России.
Действительно, вместо буржуазного парламентаризма предлагалась иерархия самоуправляемых общин – от сельского мира до земского собора. При этом сохранялись и принципы единоначалия и учета общественного мнения: «Государству – неограниченное право действия и закона, Земле (общинам. – Л. Ш.)– полное право мнения и слова»[118 - Аксаков К. С. Полн. собр. соч. М., 1861. Т. 1. С. 296.]. Вместо пролетаризации населения, свободного от всякой собственности, славянофилы предлагали создать условия для сохранения собственности у крестьян и артельщиков. При этом государство должно проводить активную кредитную политику, направленную на поддержку мелкого частника. Наконец, секуляризации западного общества, господству в нем вещных интересов противопоставляется социум, в котором преобладают духовные ценности, при этом православные начала органически соединяются с просвещением и гражданскими свободами личности.
Самобытное, органическое развитие России не понималось славянофилами как путь восстановления «архаических порядков». Напротив, опираясь на традицию, они предлагали реальную модернизацию нашего Отечества.
М. Ф. Маливанов
Историософия П. Я. Чаадаева и А. С. Хомякова в ее отношении к высшим целям человеческого разума (И. Кант и русская самобытность)
* * *
«Печальным представляется мне упорное нежелание русской интеллигенции познакомиться с зачатками русской философии – после первой русской революции, когда западничество уже продемонстрировало свои цели в России, – писал в 1909 году в сборнике „Вехи“ Николай Бердяев. – Эти зачатки можно найти уже у Хомякова <…>. Русская философия таит в себе религиозный интерес и примиряет знание и веру <…> в ней жив еще дух Платона и классического германского идеализма. <…> Русская философия в основной своей тенденции пpoдoлжaeт великиe традиции прошлого, греческие и германские»[119 - Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 26.]. Мечта Бердяева сбылась. Сегодня Алексей Степанович Хомяков достиг официального признания, и представление о самобытной философии славянофилов имеет, наверное, каждый студент гуманитарного факультета.
Считается, что импульс к развитию славянофильских идей дал П. Я. Чаадаев. Как философ, он начинает с историзации всей реальности, с сакрализации историй Запада и с принципа провиденциализма – базовой идеи Просвещения. Им была открыта «антиномия» между военно-стратегическим могуществом России и ee идейно-теоретической немощью: «Опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию», после 1812 года совершив «триумфальное шествие по самым просвещенным странам мира», в 1829 году «на Босфоре и Евфрате прогремел гром наших пушек», Россия в то же время «совсем не имеет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние идеи выметаются новыми, потому что последние не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда». «Кто из нас когда-нибудь думал? <…> Глядя на нас, можно сказать, что по отношению к нам всеобщий закон человечества сведен на нет»[120 - Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма: В 2 т. Т. 1. М., 1991. С. 320–339.]. «Истории (идей) мы не имеем. Мы должны привыкнуть обходиться без нее, а не побивать камнями тех, кто первый это подметил»[121 - Там же. С. 528.].
С точки зрения западного Просвещения, вся русская жизнь была сплошным парадоксом и не имела смысла. Авторитеты Запада не объясняли административно-сырьевого величия и мощи России. Если бы Россия 1829 года была политически слабой и отсталой страной, то «антитезу» «Философических писем» можно было бы решить просто: завести у нас европейскую науку, соответствующее образование в школах, обычаи и порядки, как в начале царствования Петра I. Чтобы стать объяснимой частью цивилизации, России понадобилось бы только в ускоренном темпе и сознательно повторить у себя дома все этапы, пройденные Европой в ходе ее исторического развития. Тогда бы еще в школе Чаадаеву рассказали, почему наша страна так слаба и неразвита: ведь раньше-то ничего западного в ней не было! Однако в первой половине XIX века Россия являла собой поистине географическое зрелище, разительно отличающееся от того, что наблюдаем сегодня… В идеальном случае, конечно, было бы желательно, чтобы не мы, а Запад в ускоренном темпе прошел все этапы российского становления: нашествие орд, тотальную войну на своей территории, Смуту, Петра – и тогда бы понял все и сам снял все противоречия теории. Но на это у Чаадаева надежд, видимо, не было никаких, поэтому он замыслил переворот почище петровского.
После его «Писем» русской общественной мысли оставались два пути: либо способствовать отказу России от территориального и политического величия и так привести ее в соответствие с мировым «интеллектуальным порядком», либо опрокинуть этот порядок и «выразить» Россию, обосновав теоретически ее самостоятельность. Для этого России нужна была собственная философия.
Герцен, когда писал, что славянофилы и западники были как «двуликий Янус» и что «сердце у них билось одно»[122 - Герцен А. И. Былое и думы. Л., 1947. С. 304.], прав был только диалектически. С точки зрения общей логики, если прислушаться внимательно, эти сердца стучали совершенно по-разному. Вопрос уже нельзя было свести к безобидным тактическим разногласиям, речь шла о том, что продолжит свое существование на шестой части суши: то, что все-таки стало великой Россией, или то, что превратится в нечто, наподобие маленькой «милой Франции», доброй Германии» или «Польши». Речь шла о русской свободе.
Российская историография переполнена опытами диалектического синтезирования славянофильства и западничества, неизбежно сводящими оба течения к двум разновидностям одного и того же западничества. При этом, как правило, подразумевается, что никакой особенной русской философии не может быть, а славянофил философствующий – уже западник, и дважды западник потому, что он еще и историк. Спор славянофилов и западников оказывается по существу всего лишь очередной домашней дискуссией по поводу двух программ завоевания России: кого на этот раз станем грабить – «славян» или «общечеловеков», и каким именно образом – по-немецки или по-русски? Здесь лежит фундаментальное противоречие отечественного славянофиловедения, рассматривающего предмет в русле рационалистической платоновской традиции и гегельянства и утверждающего при этом, что именно с рационализмом славянофилы каким-то образом боролись. Из бодрой славянофильской мысли делают смесь синкретизма и эклектики, выливающуюся затем в некое вялое и покорное судьбе квазитеологическое мировоззрение, каковых и на Западе было предостаточно. Это в свою очередь крайне затрудняет преподавание и изучение действительно своеобразного явления в русском обществе.
К счастью, окончательно сузить философский горизонт не дают фигуры вроде Чаадаева, свидетельствующие о том, что о России не просто надо думать другое, но и думать-то о ней надо по-другому. Его блестящие парадоксы, наблюдения некоторых «самобытных», «случайных» приключений и качеств русского народа не исчерпываются категориями диалектики и не укладываются в традиционную западную философию истории или во что-либо на нее похожее. Эта ситуация была зафиксирована также и Хомяковым, и Константином Аксаковым, безуспешно пытавшимся «натянуть» гегелевские схемы на русскую историю, и другими славянофилами. К сожалению, в огромном количестве посвященных этой теме работ двоякая идея России как явления и как «вещи в себе» понимается только в качестве мифа, который даже его создатель Чаадаев не смог объяснить «нормальными законами нашего ума» и в который поэтому можно «только верить», что само по себе звучит простовато. Позиция самого Чаадаева расценивается как позиция «последовательного западника, еще до того как славянофильство отчетливо осознало себя <…> начавшего борьбу с ним»; западничество же одевается в «позитивную национальную форму», в которой Россия уже ничем по существу не отличается от Европы и (всего лишь!) должна осуществить одну из ее идей[123 - См.: Рудницкая Е. Л. Поиск пути. Русская мысль после 14 декабря 1825 г. М., 1999. С. 172; В раздумьях о России / Под ред. Е. Л. Рудницкой. М., 1996.]. При этом остается принципиально непонятным, как, пользуясь одними «нормальными законами своего ума», он смог хотя бы различить в России то, чего не заметили другие, пользовавшиеся теми же «нормальными» гегелевскими понятиями?
Если, наконец, перестать смотреть диалектически на борьбу западников и славянофилов и продумать «скорбную» антитезу Чаадаева, все же отделяя значения от значений, то славянофильство отличится от западничества гораздо глубже, нежели это описано в большинстве исторических монографий. Уже сам Чаадаев, наблюдая формирование славянофильского направления, писал в «Апологии сумасшедшего»: «<…> у нас совершается настоящий переворот в национальной мысли, страстная реакция против Просвещения, против идей Запада»[124 - Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма. Т. 1. С. 530.]. Это была естественная реакция «фанатичных славян»[125 - Там же. С. 528.], осознавших, что чужое просвещение не допустимо ни при каких обстоятельствах, даже при том, что завести собственную философию некоторым народам труднее, чем завести собственную армию. Славянофилы осознали первое условие возможности русской философии: «просвещаясь», не выразить интересы чужой идеологии и не потерять фиксированного значения русской мысли. Поэтому их конечной целью могло быть лишь создание независимой и самодостаточной, архитектонически устойчивой и понятной всякому русскому системы суждений, позволяющей видеть и оценивать как факты сегодняшнего дня, так и виртуальные реконструкции прошедшего. Хотя вместо того, чтобы лишить Петра Яковлевича именно философской почвы, славянофилы в ответ на его обвинение («Истории мы не имеем») первоначально занялись той же самой историей. «У нас есть история», – таков в самых общих чертах был их ответ. Оставалось только уточнить, какая история у нас есть? К сожалению, мыслители славянофильского круга, насколько это известно, не задавались вопросами, что есть история, чья это идея и действительно ли она так необходима России? Как и европейцы, они были захвачены общим движением к историзации всего сущего, когда большинство наук так или иначе начинали становиться историями или обзаводились самостоятельными историческими разделами. Хомяков заявил, что наше прошлое разрушалось «образованным обществом» намеренно, это Петр организовал разрушение исторических воспоминаний и нужно восстановить национальную память. Ту же академическую историографию, которая возникла в России благодаря реформам Петра I, Хомяков, видимо, не причислял к «национальным воспоминаниям». Ведь это немцы первыми обратили внимание русских на их собственные летописи («Нате, дурни, почитайте!»). Именно немецкие профессора Петербурга, которых один Ломоносов от отчаянья порою бил палкой по голове, подняли из небытия, перевели и издали тот корпус исторических документов, который и по сей день является главным источником для наших ученых и во многом предопределяет содержание их трудов, а в конечном счете и наше представление о самих себе.
Получается, Чаадаев действительно спровоцировал рождение славянофильства. Он славянофилов, так сказать, «спугнул» и «погнал на номера». Он русское прошлое обругал – они воспели и опоэтизировали, что само по себе отдаленно напоминает спор отца Федора с Кисой Воробьяниновым. Кажется, что сердце у них и в самом деле «билось одно». Вопрос лишь в том, что это было за сердце? На возмущенные реплики Чаадаева, зачем они сразу извлекли из истории «старые идеи» и «старые антипатии», славянофилы по существу ответили, что, мол, мы так хотим, и хотим именно этого, а не «светлых католических идеалов», которые тот в свою очередь точно так же извлек из идейного богатства очерченного Гегелем конечного и европоцентричного исторического процесса. Здесь «бежать на номера» пришла очередь Чаадаева: «В наши дни плохие писатели, неумелые антикварии и несколько неудавшихся поэтов <…> самоуверенно рисуют и воскрешают времена и нравы, которых уже никто у нас не помнит и не любит»[126 - Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма: В 2 т. Т. 2. М., 1991. С. 225]. В этой фразе отчетливо слышен окрик аристократа, и это, конечно, его поражение. Ореол диссидента и ненавистника России над ним окончательно так и не развеялся. Заметим, что в этом историческом споре наука историософия играет глубоко случайную роль. Речь с таким же успехом и общественным резонансом могла идти и о целесообразности прокладки какого-нибудь водного канала или о способах ведения войны. Вообще славянофильство – мерцающее учение. Чем более грозные тучи сгущаются над русским славянством, тем ярче вспыхивает оно, потом затухая и вырождаясь. Формы его могут быть самыми paзными – от узко историографических и историософских построений, имеющих целью повернуть общественное сознание в направлении того или иного проекта освобождения крестьян, до борьбы против поворота северных рек или чего-нибудь в этом роде. Поэтому историософия – не определяющий, собственный или родовой, а случайный признак славянофильства, всецело зависимый от всегда одной и той же сути дела, защищаемого этим вспыхивающим учением. В центре же его неизменно находятся вопросы истины, справедливости и свободы, проблематика самоидентификации русских, взаимоотношения народа и власти, славянства и его соседей.
* * *
Сегодня историософию определяют как интуитивное переживание судеб народов, эстетическое и этическое осмысление основ их бытия, отыскание «корней» и прозрение будущей «судьбы». Н. А. Нарочницкая в монографии «Россия и русские в мировой истории» определяет «историософский подход в рассмотрении исторических событий» как «имеющий своим объектом и события, и самосознание, то есть мотивации к совершению исторического акта»[127 - Нарочницкая Н. А. Россия и русские в мировой истории. М., 2003. С. 16.]. Надо заметить, что в обоих этих весьма характерных для нашего времени определениях, наиболее мучительные и далекие от разрешения философские проблемы считаются как бы уже решенными, и о философии в самом широком ее понимании речи не ведется. История здесь полагается в качестве науки, давно покинувшей свою колыбель и самой превратившейся в целую философию, ревниво оберегающую свои пределы. В понятии «философия истории» история традиционно занимает главенствующее и первое место (отсюда и название «историософия»), философия – место только служебное (место «служанки истории») и в лучшем случае является, так сказать, «историчествующей философией», а чаще «философствующей историей». «Философской истории» в России, по-видимому, сегодня нет. Этим и объясняются многочисленные усилия историков отыскать ее в прошлом, чтобы заполнить зияющие пробелы в своих знаниях о человеческом обществе.
Одной из важнейших задач философии истории Л. П. Карсавин считал «конкретное познание исторического процесса в свете наивысших метафизических идей»[128 - Карсавин Л. П. Философия истории. СПб., 1993. С. 15.]. Таковых идей Иммануил Кант насчитывал только три: это – Бог, Свобода и Бессмертие. Он полагал, что все они, за исключением Свободы, должны рассматриваться только как «идеалы», то есть благие пожелания стремящегося к безусловному разума, ибо в человеческой реальности им ничто не соответствует и соответствовать не может. То, что нет идеи Бога и поэтому абсурдно доказывать его существование исходя из его идеи, было показано еще епископом Беркли[129 - Беркли Д. Соч. М., 1978. С. 46–48.]. Но это обстоятельство никак не может помешать нам верить в Него или, подобно Канту, следовать метафизическим идеям в качестве целей («как если бы они существовали на самом деле»), помня, однако, что это есть дело добровольное и принуждать кого-либо именем означенных виртуальных идей нельзя. Тем не менее в истории, особенно после секуляризации церковного знания, многое совершалось как раз «именем Революции», «именем Науки», «Культуры», «Цивилизации». Да и сама «История» («Традиция») в этом перечне продолжает занимать не последнее место. Отсюда понятно, что существование на положении страдающих и послушных рабов исторического процесса не может быть причислено к высшим целям человеческого разума и «свет метафизических идей» не должен отвлекать, например, от борьбы за справедливость. Вообще знание – это благо (Сократ). Достоверное и доказывающее знание – еще большая ценность, но не самоцель. Стремиться к нему и к точной ориентации в мире явлений следует ради каких-то действительно высших целей, ведь оно всегда ограничено. Поэтому представления о «смысле истории» или о «тенденциях и векторе исторического процесса» могут быть лишь ориентиром, дополнительным средством, но не программой безошибочных действий. (Мало ли куда надумает идти «История»!) Равно как тот или иной объем или степень наших исторических познаний не могут ни ослабить, ни увеличить человеческое в нас и не должны решающим образом влиять на наш выбор, который находится вне зависимости от уровня образованности общества или отдельного человека и от количества исторических сочинений, сохраняемых обществом. Ведь существовали народы и страны, мало интересовавшиеся всемирной историей, но не лишенные способности принимать разумные решения. В связи с этим хочется привести слова П. Я. Чаадаева, ясно поставившего еще одну задачу философии истории: «Пopa бросить ясный взгляд на наше прошлое затем, чтобы извлечь из него старые идеи, поглощенные временем, старые антипатии, с которыми давно покончил здравый смысл наших государей и самого народа, но для того, чтобы узнать, как мы должны относиться к нашему прошлому»[130 - Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма. Т. 1. С. 226.]. Таким образом, ни «идейное богатство» прошедшего, ни даже идеалы и антипатии усопших людей, ни сама История как метафизическая идея (а она именно метафизическая, т. к. физически посетить прошлое еще никому не удавалось) не должны волновать исследователя. Что же остается от «философии истории»? Да одна философия и остается, зыбкая территория, «наука о самом главном» (Кант).
Склонность к историзации жизни, которую Давид Юм называл «привычкой» и которая заключается в переносе прошлого опыта на будущее либо имеет далеко впереди лежащую и еще никем не осознанную цель, либо, что на сегодняшний день наиболее вероятно, коренится в желании человека все предусмотреть. Для этого отыскиваем «закономерности» и «тенденции» исторического развития иногда даже там, где они, возможно, еще не сложились, и стараются в полном соответствии с ними выстроить жизнь сколь возможно комфортно. Для того прошлое и объявлено познаваемым и изучается неустанно, чтобы, становясь все более известным, укрепляло в надежде на то, что все так будет продолжаться и впредь. Однако появление неизвестного из неизвестного имеет место не только в астрономии, физике макропроцессов и квантовой физике, где предполагаются скорости, превышающие скорость света, и наблюдатель сначала фиксирует следствие, а лишь спустя некоторое время может «визуально» столкнуться с причиной. Так, выпущенная со сверхсветовой скоростью пуля сначала убивает утку, и только потом мы видим вспышку и слышим грохот выстрела. «Исторически» выстрел выступает здесь в качестве следствия гибели утки. В общественной жизни нечто подобное существует в поистине глобальных масштабах.
Если в исторических и диалектических построениях неизвестное в результате синтеза появляется из уже известного, то в действительности неизвестное довольно часто и появляется из неизвестности. Человек застигается врасплох последствиями неких тайных процессов, и уже в таком положении вынуждает себя догадываться об их причинах в прошедшем, как бы прокручивая время в обратном направлении. Это и обусловливает преимущественно ретроспективный, историчный характер нашего мышления, то, что в России весьма двусмысленно называется «задним умом». Это же порождает и две наиболее распространенные ошибки в умозаключениях. Первую можно условно назвать «ошибкой Гегеля», когда путь развития самой действительности прямо отождествляется с путем познания ее разумом, в результате чего, по критическому замечанию А. С. Хомякова, «Пруссия становится действительной причиной Египетской или Германской истории, и – вовсе не в смысле телеологическом»[131 - Хомяков А. С. О современных явлениях в области философии. Письмо к Ю. Ф. Самарину // Благова Т. И. Родоначальники славянофильства. А. С. Хомяков и И. В. Киреевский. М., 1995. С. 251–252.]. Вторая – «ошибка Хомякова»: «Пути понятия и реальности действительно тождественны, но только в обратном направлении, как лестница одна и та же для восходящего и нисходящего. <…> Для понятия вещь сознается, и потому она есть или может быть; в реальности же она есть, и потому она сознается или может быть сознана»[132 - Там же.].
Общее у Хомякова и Гегеля – то, что сам факт наличия сознания уже является для них достаточным основанием для отождествления его с действительностью (здесь неважно, в каком направлении) и для производства индукции. Но тогда непонятно, зачем вообще эта последняя людям нужна? Ведь если разум тождествен природе, значит, он сразу способен знать ее целое, и ему вовсе не нужно от общего мучительно идти к особенному, а от него – к единичному; не нужно эмпирические данные подводить под понятия, а поступки – под нравственные заповеди. Перед нами кредо «интуитивного рассудка»: если я все существую и существую, стало быть, мыслю правильно.
Если Гегель злоупотреблял своими «представлениями о целом» Пруссии в ущерб представлениям о случайности составивших ее частей, то Хомяков рисковал впасть в крайность отождествления причинной и временной последовательности явлений. В этом также можно усмотреть отличие Хомякова от Гегеля. В логике ошибка Хомякова имеет специальное наименование «post hoc, ergo propter hoc» («после этого – значит, по причине этого») и может быть проиллюстрирована не только такой явной глупостью, как та, что день является причиной ночи, но глупостью более утонченной и распространенной: предшествовавшая история России является причиной ее настоящего положения.
Историософия А. С. Хомякова
Определяющим признаком славянофильской историософии, то есть религиозно-теистического варианта философии истории, является тезис о русском мессианизме как об особой исторической роли народа, порождаемой двумя факторами – Православием и общинностью. При этом Православие не случайно поставлено на первое место, ибо через призму религии славянофильство рассматривает все важнейшие проблемы как индивидуальной, так и социальной жизни, именно религиозный фактор определяет «ход истории».
Исходной посылкой философии истории А. С. Хомякова выступает оценка, процесс уяснения этапов религиозного развития человечества, ибо «тот не понимает настоящего, кто не знает прошедшего»[87 - Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1900. Т. 5. С. 21.]. В «Записках о всемирной истории» главный идеолог славянофильства делит все религии на две основные группы: иранскую и кушитскую, – а коренное их различие определяется, по его мнению, не числом богов и не обрядами, но категориями свободы и необходимости, которые «составляют то тайное начало», около которого в разных образах сосредоточиваются все мысли человека. Кушитство строится на началах необходимости, обрекая людей на бездумное подчинение, превращая их в простых исполнителей чужой воли. Напротив, иранство – это религия свободы, она обращается к внутреннему миру человека, требует от него сознательного выбора между добром и злом. Наиболее полно сущность иранства выразило христианство, но после его раскола «начала свободы» не принадлежат уже всей Церкви. Возникает проблема оценки различных направлений христианства. Важнейшим критерием при этом становится принцип гармоничного сочетания «свободы и необходимости», или индивидуальных религиозных представлений и обязательных для всех церковных догматов. При решении этих задач и было выработано славянофильское учение о соборности.
Русский мыслитель вопрос об истинной вере сводит к уяснению того, какое направление христианства – православие, католицизм или протестантизм – наиболее адекватно выражает сущность евангельской религии. Вот почему А. С. Хомяков так много места в своих работах отводит рассмотрению основных направлений христианства. Сложность оценки того или иного вероисповедания, по его мнению, заключается в том, что религиозное учение познается не рассудочно, а жизненно. Благодаря этому и проявляется вера, которая знаменует «присутствие Духа истины в нас самих». Этот подход неизбежно сопровождается признанием решающего значения «мистических озарений» в религиозном познании, что порождает опасность субъективного истолкования христианства. Низведение же религиозных убеждений на ступень субъективных воззрений приводит не просто к игнорированию, а к самому «радикальному отрицанию Откровения». Для того чтобы преодолеть эту опасность, необходима гармонизация «единого» церковного начала с индивидуальной религиозностью членов церковного организма.
Католики, как считали славянофилы, «гармонизацию единства и множественности» свели к безусловному авторитету «единства». Власть папы сделалась «последним основанием веры», и рядовые члены Церкви, т. е. народ, «не должен был мыслить, не должен был даже читать Божественного Писания»[88 - Киреевский И. В. Полн. собр. соч. М., 1911. Т. 1. С. 229.]. В силу этого в католицизме сложилось нетерпимое отношение к «самостоятельному человеческому мышлению». Почти все выдающиеся мыслители в той или иной форме преследовались католической церковью. Узурпация власти римским папой привела также и к извращению символа веры. «Вселенская непогрешимость», основанная на решениях первых всехристианских соборов, отвергается введением новых догматов. Тем самым нарушается критерий «религиозной истинности», ибо новые положения вероучения не вытекают «органически» из Священного Писания и церковного предания.
Закономерной реакцией на отсутствие в католицизме «церковной свободы» является, по мнению славянофилов, появление протестантизма. Главным объектом критики со стороны протестантов становится католическое понимание единства. Отвергая власть папы, подавляющую индивидуальную религиозность, реформаторы христианства впадают в другую крайность, выдвигая на первый план внутреннее проявление религиозных чувств. Протестантизм, как отмечает А. С. Хомяков, «держится такой свободы, при которой совершенно исчезает единство Церкви»[89 - Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1900. Т. 2. С. 112.]. Индивидуализация христианства так же неизбежно ведет к извращению вероучения, «к отрицанию догмата как живого предания». Вместо авторитета церкви у протестантов появляется авторитет разума, начинает господствовать философский рационализм. Несмотря на формальное различие между католицизмом и протестантизмом, в них много общего. Прежде всего их сближает поиск внешних критериев истинности религии: у одних это папа, у других – собственный разум. Отсюда господство утилитарных начал в западных вероисповеданиях, их направленность к «земным целям». Все это приводит к тому, что католики и протестанты «судят о вещах небесных как о вещах земных»[90 - Там же. С. 108.]. Подвергнув критике католицизм и протестантизм, А. С. Хомяков обосновывает тезис о том, что только православие гармонизирует церковные и индивидуальные начала. Главным достоинством православной церкви, по его убеждению, является сохранение в «чистоте христианского вероучения». Только православный Восток исповедует символ Никее-Константинопольский, из которого истинная Церковь «ничего исключить и к которому ничего прибавить не позволяет»[91 - Там же. С. 9–10.]. Для выработки гармоничного сочетания индивидуального и церковного необходимо обратиться к учению о соборности.
Соборность является одной из характеристик Церкви, включенных в православный символ веры, девятый член которого формулируется следующим образом: «Верую во единую, святую, соборную и апостольскую Церковь». Хомяков особо подчеркивает, что учители православные остановились при переводе символа веры на славянский язык «на слове соборный». Это был принцип церковной и социальной жизни, который оказывал существенное влияние на формирование отечественной духовной традиции. Однако понимание соборности долгое время не имело адекватной философской формы выражения.
Наиболее полно учение о соборности было раскрыто в работах А. С. Хомякова. В противовес католицизму и протестантизму он считает неприемлемым рассмотрение Церкви как союза мирян и клира, основанного на «внешнем авторитете», ибо сама экклесия не может рассматриваться как «множество лиц в их личной отдельности»[92 - Там же. С. 3.]. Церковное единение предполагает качественные характеристики и не должно ограничиваться количественными показателями. Важнейшей чертой жизни церковной общины выступает «углубленность ее членов в истину».
Для славянофилов принципиально важны два момента: во-первых, истина не принадлежит избранным, она достояние всех тех, кто «вошел в церковную ограду»; во-вторых, приобщение к истине не может быть насильственным, так как «всякое верование <…> есть акт свободы»[93 - Там же. С. 43.]. Отвергая принуждение как путь к единству, славянофилы ищут более эффективное средство, способное сплотить Церковь. Таким средством, по их мнению, может быть только любовь, характеризуемая не только как этическая категория, но и как сущностная сила, обеспечивающая «за людьми познание безусловной истины»[94 - Там же. С. 108.]. По мнению А. С. Хомякова, наиболее адекватно выразить сочетание имманентного единства, основанного на свободе и любви, может только слово «соборный». Оно выражает «идею собрания», притом не только видимого, но и «существующего потенциально без внешнего соединения. Это единство во множестве»[95 - Хомяков А. С. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1994. С. 242.].
Анализируя церковные критерии соборности, А. С. Хомяков приходит к выводу, что они проистекают от «духа Божия», живущего в Церкви и «умудряющего ее» и выступающего «в писании, в предании и в деле». Следовательно, соборность представляет собой «дар благодати, даруемый свыше», отсюда внутреннее основание «непогрешимости соборного сознания». Внешним же критерием соборности выступает принятие тех или иных религиозных положений «всем церковным народом». Ярким примером подобного одобрения религиозных истин были Вселенские соборы, выработавшие христианские догматы и каноны. Согласно взглядам Хомякова, соборное сознание не может рассматриваться как статичное образование. Например, «нет пределов писанию», ибо «всякое писание, которое Церковь признает своим, есть Священное Писание»[96 - Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 8.]. Следовательно, по мере одобрения «всей полнотой Церкви» тех или иных религиозных положений они приобретают статус «соборных решений».
Изложенное понимание христианских истин критиковалось православными богословами прежде всего за «преувеличение значения человеческих начал в жизни Церкви». Однако нельзя упрекать Хомякова в абсолютизации внешних критериев соборности. Для него «церковный народ», то есть видимая церковь, живет по христианским принципам лишь постольку, поскольку подчиняется Церкви невидимой, небесной и «соглашается служить ее проявлениям». Поэтому внутренний критерий соборности, связанный с Духом Святым, и внешний ее критерий, опирающийся на «единомыслие церковных чад», не противостоят, а взаимодополняют друг друга.
Понятно, что Церковь мистическая и историческая связаны между собой. Реальная церковная практика никогда полностью не воплощает идеалов Церкви небесной, но именно в силу этой взаимосвязи христианское учение «становится жизненным». Оно изменяет не только душу индивида, но и его отношения с другими людьми, то есть социальную сферу, так как «благодать веры неотделима от святости жизни». В связи с этим представляется спорной позиция С. С. Хоружия. Известный философ считает, что учение Хомякова о соборности «оказалось по существу раскрытием одного главного вывода, вывода о благодатной и сверхэмпирической природе Соборного Единства», в нем идет речь о «Церкви мистической и невидимой»[97 - Хоружий С. С. После перерыва: Пути русской философии. СПб., 1994. С. 23.]. Однако нет непроходимой границы между Церковью мистической и земной, и А. С. Хомяков был убежден, что соединение человека со Христом «тогда лишь получает свой венец, когда оно осуществляется в реальном мире, в принципе общежития»[98 - Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 225.].
«Единство во множестве» выступает определяющим признаком соборности, позволяющим выделить этот феномен из мира других духовных образований. В свою очередь, соборность становится у славянофилов критерием правильности религиозной веры и основанной на ней церковной жизни, имеющей в их концепции определяющее значение для всех других сфер человеческой деятельности.
Исходя из общих установок учения о соборности, А. С. Хомяков анализировал и исторический процесс. Он справедливо отмечал, что у многих историографов прошлое «превратилось в бесконечное множество подробностей», и за этим обилием фактического материала «пропало всякое единство»[99 - Там же. Т. 5. С. 42.]. Подлинным же предметом истории является «отыскание общих начал», ибо все мелкие явления получают свой «характер и окраску от целого». Какие же общие начала детерминируют «неотвратимую логику истории»? Будучи глубоко верующим человеком, русский мыслитель не мог отказаться от одного из основных положений христианского вероучения – провиденциализма. В своих работах он неоднократно подчерчивал, что «нельзя по справедливости не признать путей промысла в общем ходе истории»[100 - Там же. Т. 2. С. 42.]. Именно «дух Божий, живущий в совокупности церковной», и направляет общественное развитие. Но сам этот дух, по принципу соборности, «проявляется во множестве», т. е. в действиях отдельных людей.
Идея «соборности», как считал философ, дает ему возможность совместить провиденциализм с активностью человека. Он утверждал, что «неразумно <…> брать на себя угадывание “минут” непосредственного действия воли Божией на дела человеческие». Подобное «угадывание» связывает надежды на лучшее будущее лишь с Господом, оборачиваясь «преступным пренебрежением к человеческим способностям». Человек – существо деятельное, поэтому он должен «напрягать все Богом данные силы, не требуя от него чудес и исключений из общих законов»[101 - Там же. М., 1904. Т. 8. С. 136.]. Реальный исторический процесс – это всегда совокупность «действий свободы человеческой и воли всемирной». При таком понимании «божественная воля» выступает в виде объективных законов развития общества, которые проявляются через деятельность людей. Сами же чудеса трактуются не как «нарушение общих законов», а как «проявление силы, о которой вы еще не имеете полного знания»[102 - Там же. С. 339]. Поэтому исследователь, для того чтобы понять ход истории, не должен ограничиваться ссылками на божественную волю, а обязан изучать деятельность людей. Для славянофилов именно «народ является единственным и постоянным действователем истории». Поэтому А. С. Хомяков выступал с критикой исторических работ Н. М. Карамзина и С. М. Соловьева, которые воспринимали народ как «пассивный человеческий материал». Тем более для него были неприемлемы господствовавшие церковные взгляды на роль народных масс в истории. Он справедливо отмечал, что призывы Церкви «смиренно ждать милостей божьих» во многом объясняются позицией правительства, которое хорошо понимает «практическую выгоду религии <…> в особенности по отношению к низшим слоям народа»[103 - Там же. Т. 2. С. 141.].
В работах славянофилов часто встречаются термины «народ» и «народность». Вообще тема «славянофилы и народ» – одна из центральных при оценке этого течения. При этом славянофильская трактовка народа получает полярные оценки. Если для одних она пример «разнузданного патриотизма», ведущего страну к гибели, то для других, напротив – проявление движения к «приобретению мировой роли, мирового значения России». А. С. Хомяков хорошо понимал значение правильного раскрытия понятия «русский народ», но однозначного его понимания у славянофилов не было. Н. А. Бердяев отмечал, что «Хомяков в своем учении о национальном призвании постоянно смешивает точку зрения религиозно-мистическую с точкой зрения научно-исторической»[104 - Бердяев Н. А. Алексей Степанович Хомяков. М., 1912. С. 210.]. Действительно, с одной стороны, славянофилы как бы абстрагируются от исторических реалий, рассматривая народ как некий постоянный «набор идеальных качеств», выделяя некую неизменную «духовную сущность», субстанцией которой выступает православие и общинность. С другой стороны, у русских мыслителей много места занимает анализ конкретного, современного им русского народа, основой которого выступает крестьянство, – не случайно славянофилы так резко выступали против попыток представить «русского крестьянина каким-то бессмысленным и почти бессловесным животным». Более того, ощущение реальной связи с народом для каждого человека, если он «не хочет создать вокруг себя пустыню», совершенно обязательно. Для Хомякова народ – «не условное» понятие, ибо речь идет о народе, «создавшем страну», с которым «срослась вся моя жизнь, все мое духовное существование, вся целостность моей человеческой деятельности». Можно согласиться с Н. И. Казаковым, отметившим, что «если ученые и писатели 30-х годов XIX в. были увлечены идеей народности в ее, так сказать, абстрактно-философском аспекте, то славянофилы перенесли это увлечение на живых носителей идей народности, на простой народ, и в особенности русское крестьянство»[105 - Казаков Н. И. Об одной идеологической формуле николаевской эпохи // Контекст. М., 1989. С. 13.]. Первыми же в советской литературе, отметившими связь славянофильского понимания народности с «трудящимся населением страны», были А. А. Галактионов и П. Ф. Никандров[106 - См.: Галактионов А. А., Никандров П. Ф. Славянофильство, его национальные истоки и место в истории русской мысли // Вопросы философии. 1966. № 6. С. 125.].
Ведущие идеологи славянофильского течения принадлежали к дворянской элите России, но на этом основании нельзя делать вывод, что «в славянофильстве прозвучал голос именно “интеллигенции” и никак не голос “народа”»[107 - Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 253.]. Конечно, А. С. Хомяков и его единомышленники были интеллигентами, прошедшими «через искус и соблазн европеизма», усвоившими многие культурные ценности, недоступные народу. Однако понимая всю трагичность разрыва между культурным слоем и народом, они пытались выступить своеобразной синтезирующей силой между этими полюсами. Славянофилы ощущали себя именно представителями народа, своеобразным «народным гласом» в образованном обществе, и у них было искреннее желание «послужить народным интересам».
В связи с решающей ролью соборного сознания в истории А. С. Хомяков рассматривает и деятельность великих личностей. По его мнению, развитие общества нельзя сводить к деятельности одного человека, хотя бы и гения. Ни одна личность, как бы велика она ни была, не может быть «полным представителем своего народа» и выражать все его чаяния и стремления. Значение «исторического деятеля» зависит от того, «какие потребности народа и насколько полно он восполнил». Именно в этом совпадении деятельности великих людей с народными стремлениями и содержится «возможность дальнейшего развития истории».
Такое понимание роли личности в истории приводит Хомякова к своеобразной трактовке самодержавия. Он считал, что монархия – лучшая форма правления для России. В то же время, по его мнению, царь получает свою власть не от Бога, а от народа «путем избрания на царство». Например, первый представитель династии Романовых, отмечает философ, не отличался какими-то особыми способностями, но в Михаиле Россия «видела <…> человека, которого избрала сама, с полным сознанием и волею»[108 - Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1911. Т. 1. С. 55.]. Поэтому самодержец, для того чтобы оправдать свое предназначение, должен «действовать в интересах всей русской земли». Однако «государь, как и всякий человек, может впасть в заблуждение»[109 - Там же. Т. 2. С. 38.], тогда политика монарха расходится с народными чаяниями. Подобная ситуация наступает в том случае, когда «не все сословия в равной степени пользуются его покровительством». Высшие слои общества, преследуя свои корыстные интересы, ставят крестьянство «вне закона». В России произошла деформация самодержавного принципа, ибо «дворянство разлучило простой народ с царем». Выявляя особенности славянофильской трактовки самодержавия, Н. А. Бердяев делает вывод о том, что она выступает «своеобразной формой отрицания государства»[110 - Бердяев Н. А. Судьба России. М., 1918. С. 4.], содержит определенный анархический элемент. Однако в действительности славянофилы не были сторонниками анархии, их концепция органического развития общества предполагает опору на базисные основания, среди которых одним из главных является государство. Анархия, как и любая революция, есть не что иное, как «голое отрицание, дающее отрицательную свободу, но не вносящее никакого нового содержания»[111 - Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 51.].
Органическое развитие, реализуя внутренние потенции социума, которые соответствуют его «коренным началам», вообще должно избегать крайностей. А. С. Хомяков в письме к Ю. Ф. Самарину, формулируя эту программу, отмечает, что надо показать суть принципов, которые «так же далеки от консерватизма в его нелепой односторонности, как и от революционности в ее безнравственной и страстной самоуверенности». Этим крайностям Алексей Степанович противопоставляет «начало прогресса разумного, а не бестолкового брожения»[112 - Там же. Т. 8. С. 240.]. При этом «разумный прогресс» отличается от прогресса рационального, ибо первый опирается на цельное познание, в которое с необходимостью входит вера, а второй – на человеческий рассудок, который, как правило, приводит к «односторонним отрицательным результатам», яркий пример – развитие западноевропейской цивилизации.
Анализ русской истории приводит мыслителя к выводу о ее принципиальном отличии от западной цивилизации. Эта позиция по форме схожа с тезисом П. Я. Чаадаева, однако выводы этих различных доктрин диаметрально противоположны. Если для первого это источник всех русских бед, то для А. С. Хомякова своеобразие отечественного прошлого – не недостаток, а благо. Все дело в том, что извратив символ веры, западное христианство тем самым предало забвению «соборные начала». Отсюда все пороки капиталистического общества, все недостатки европейской культуры, и прежде всего распадение социума на эгоистических индивидов. Отдельная же личность всегда является как «совершенное бессилие и внутренний разлад». Мерилом людей в капиталистическом обществе выступает «вещный элемент», поэтому главное стремление человека есть «стремление к прибыли». Подобные целевые установки разрушают нравственность и «не допускают ничего истинно общего»[113 - См. более подробно об отличиях Запада и России в воззрениях славянофилов: Шапошников Л. Е. Очерки русской историософии XIX—XX вв. Н. Новгород, 2002. С. 50–54.].
Россия, в отличие от переживающего кризис Запада, опираясь на «православную духовную основу», идет своим путем, который должен привести ее к мировому лидерству. Это высокое предназначение России необходимо осознать ее гражданам, ибо «право, данное историей народу, есть обязанность, налагаемая на каждого из ее членов». Обращаясь к отечественной истории, Хомяков стремится доказать «всесторонность и полноту ее начал», которые обусловлены не только религиозными, но и социальными факторами. Все дело в том, что Православие породило специфическую социальную организацию – сельскую общину. А. С. Хомяков в 1849 году в заметках «О сельской общине» изложил основные славянофильские тезисы по этому вопросу, подводя своеобразный итог разработке темы.
Сельская община, по его мнению, сочетает в себе два начала – хозяйственное и нравственное. В хозяйственной.области община, или «мир», выступает главным организатором сельскохозяйственного труда: каждому «предоставляют работу по душе». «Мир» решает вопросы вознаграждения за работу, заключает сделки с помещиком, несет ответственность за исполнение государственных повинностей. В изображении славянофилов экономическая.деятельность общины предстает как гармоническое сочетание личных и общественных интересов, а все члены общины выступают по отношению друг к другу как «товарищи и пайщики». Будучи крупными помещиками, они сами вынуждены были признать, что при устройстве общины проявляется «зависимость бедных от богатых», к тому.же крепостные крестьяне находились в полной зависимости от произвола помещика.
При рассмотрении нравственного значения сельской общины главный идеолог славянофильства признает также разрыв между «возможностью и действительностью». «Мир» содержит потенции, которые могут формировать у его членов потребность в общественной деятельности, готовность постоять за общие интересы, патриотизм, честность. Происходит это не сознательно, а «инстинктивно», путем следования древним религиозным обычаям и традициям. Подобное усвоение правил общежития является показателем жизненности общества, его крепости и здоровья. В концепции славянофилов нравственный соборный климат общины противостоит антагонизму «личного и общественного» в буржуазных странах. Однако российская действительность заставила А. С. Хомякова признать, что и общинное устройство никоим образом не устраняет аморализм, народные бедствия, различные злоупотребления.
Эти противоречия, как он считает, проистекают от деятельности государства. Хотя внутренние мероприятия правительства и не смогли полностью ликвидировать общину и она «есть одно уцелевшее гражданское учреждение всей Русской истории», все же бюрократизм во многом подорвал ее жизнеспособность. Особенно много вреда принесли общинному устройству реформы Петра I, который не понимал, что русский быт «органически возникает из местных потребностей и характера народного», и поэтому пытался его разрушить. Перенесение на русскую почву иностранных порядков привело к расколу общества на антагонистические группы, оторвало привилегированные слои от народа. По мнению Хомякова, необходимо возродить «коренные начала русской жизни». Однако он стремится доказать, что отнюдь не предлагает простую реставрацию допетровских порядков. Русский мыслитель в письме к А. И. Кошелеву предупреждал: «Отстрани всякую мысль о том, будто возвращение к старине сделалось нашей мечтою»[114 - Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1914. Т. 3. С. 462.]. С его точки зрения, необходимо при проведении социального переустройства учитывать и современные достижения в области науки, промышленности, образования, они не должны извращать «органических начал в обществе». Если Петр I «захотел втолкнуть Русь на путь Запада», то славянофилы выступали за восстановление русского «образа жизни», который неизбежно связан с традиционным бытом и историей. В славянофильском социальном идеале соединяются «элементы старины» и новейшие достижения в сфере «благоустройства земной жизни».
Исходя из принципиальной установки, что община в социальной жизни выступает как «истинное начало», которому уже «не предстоит найти нечто себя высшее», славянофилы требовали сделать «общинный принцип всеобъемлющим» и для этой цели создать общины в промышленности. Земледельческая и промышленная общины «находятся во взаимном согласии», ибо одна без другой не могут успешно развиваться. Общинное устройство, как считал Хомяков, должно быть также положено в основу государственной жизни, оно заменит собою «мерзость административности в России». По мере распространения «общинного принципа» в обществе все более будет господствовать «дух соборности». Ведущим принципом социальных отношений станет «самоотречение каждого в пользу всех». Благодаря этому в «единый поток сольются» религиозные и социальные устремления людей. В результате будет выполнена «задача нашей внутренней истории», определяемая славянофилами «как просветление народного общинного начала общинным церковным». В этой социальной программе нет места революционным выступлениям – вовлечение русского мужика в социальные конфликты считалось недопустимым. В одном из писем А. С. Хомяков отмечал: «У меня всегда была <…> против тех же революций ненависть нравственная»[115 - Там же. Т. 8. С. 203.]. Социальное переустройство должно проходить «медленно и едва заметно». Никакие реформы не могут насадить «дух любви к ближнему» без внутреннего перерождения человека. Положительные же изменения в душе человека возможны только на путях усвоения православных истин, и главная надежда Хомякова на лучшее будущее «заключается в одном слове: Христианство»[116 - Там же. Т. 5. С. 335.].
Взгляды А. С. Хомякова на исторический процесс обычно характеризуются как своеобразный вариант утопизма. Достаточно вспомнить известную работу польского философа А. Валицкого «В кругу консервативной утопии» или монографию украинского ученого Ю. Янковского «Патриархально-дворянская утопия», чтобы это подтвердить. А. Валицкий считает утопизм общей характеристикой русской мысли середины XIX века, ибо именно он «определял уровень сближения обоих типов мировоззрения», то есть славянофильства и западничества[117 - Walicki A. W kregu konserwatywnej utopii. Warszawa, 1964. S. 363.]. Можно согласиться с тезисом: и западничество, и славянофильство содержали элементы утопизма, однако он их отнюдь не сближал – его направленность в обоих течениях была различна.
Если утопизм западничества сводился к трансляции западноевропейских ценностей, которые сами по себе должны были разрешить все отечественные проблемы, то славянофильский был направлен прежде всего на поиски альтернатив западному пути развития. Наряду с несбыточными идеями во взглядах славянофилов была представлена реальная программа, осуществление которой способствовало бы органическому развитию России.
Действительно, вместо буржуазного парламентаризма предлагалась иерархия самоуправляемых общин – от сельского мира до земского собора. При этом сохранялись и принципы единоначалия и учета общественного мнения: «Государству – неограниченное право действия и закона, Земле (общинам. – Л. Ш.)– полное право мнения и слова»[118 - Аксаков К. С. Полн. собр. соч. М., 1861. Т. 1. С. 296.]. Вместо пролетаризации населения, свободного от всякой собственности, славянофилы предлагали создать условия для сохранения собственности у крестьян и артельщиков. При этом государство должно проводить активную кредитную политику, направленную на поддержку мелкого частника. Наконец, секуляризации западного общества, господству в нем вещных интересов противопоставляется социум, в котором преобладают духовные ценности, при этом православные начала органически соединяются с просвещением и гражданскими свободами личности.
Самобытное, органическое развитие России не понималось славянофилами как путь восстановления «архаических порядков». Напротив, опираясь на традицию, они предлагали реальную модернизацию нашего Отечества.
М. Ф. Маливанов
Историософия П. Я. Чаадаева и А. С. Хомякова в ее отношении к высшим целям человеческого разума (И. Кант и русская самобытность)
* * *
«Печальным представляется мне упорное нежелание русской интеллигенции познакомиться с зачатками русской философии – после первой русской революции, когда западничество уже продемонстрировало свои цели в России, – писал в 1909 году в сборнике „Вехи“ Николай Бердяев. – Эти зачатки можно найти уже у Хомякова <…>. Русская философия таит в себе религиозный интерес и примиряет знание и веру <…> в ней жив еще дух Платона и классического германского идеализма. <…> Русская философия в основной своей тенденции пpoдoлжaeт великиe традиции прошлого, греческие и германские»[119 - Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 26.]. Мечта Бердяева сбылась. Сегодня Алексей Степанович Хомяков достиг официального признания, и представление о самобытной философии славянофилов имеет, наверное, каждый студент гуманитарного факультета.
Считается, что импульс к развитию славянофильских идей дал П. Я. Чаадаев. Как философ, он начинает с историзации всей реальности, с сакрализации историй Запада и с принципа провиденциализма – базовой идеи Просвещения. Им была открыта «антиномия» между военно-стратегическим могуществом России и ee идейно-теоретической немощью: «Опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию», после 1812 года совершив «триумфальное шествие по самым просвещенным странам мира», в 1829 году «на Босфоре и Евфрате прогремел гром наших пушек», Россия в то же время «совсем не имеет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние идеи выметаются новыми, потому что последние не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда». «Кто из нас когда-нибудь думал? <…> Глядя на нас, можно сказать, что по отношению к нам всеобщий закон человечества сведен на нет»[120 - Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма: В 2 т. Т. 1. М., 1991. С. 320–339.]. «Истории (идей) мы не имеем. Мы должны привыкнуть обходиться без нее, а не побивать камнями тех, кто первый это подметил»[121 - Там же. С. 528.].
С точки зрения западного Просвещения, вся русская жизнь была сплошным парадоксом и не имела смысла. Авторитеты Запада не объясняли административно-сырьевого величия и мощи России. Если бы Россия 1829 года была политически слабой и отсталой страной, то «антитезу» «Философических писем» можно было бы решить просто: завести у нас европейскую науку, соответствующее образование в школах, обычаи и порядки, как в начале царствования Петра I. Чтобы стать объяснимой частью цивилизации, России понадобилось бы только в ускоренном темпе и сознательно повторить у себя дома все этапы, пройденные Европой в ходе ее исторического развития. Тогда бы еще в школе Чаадаеву рассказали, почему наша страна так слаба и неразвита: ведь раньше-то ничего западного в ней не было! Однако в первой половине XIX века Россия являла собой поистине географическое зрелище, разительно отличающееся от того, что наблюдаем сегодня… В идеальном случае, конечно, было бы желательно, чтобы не мы, а Запад в ускоренном темпе прошел все этапы российского становления: нашествие орд, тотальную войну на своей территории, Смуту, Петра – и тогда бы понял все и сам снял все противоречия теории. Но на это у Чаадаева надежд, видимо, не было никаких, поэтому он замыслил переворот почище петровского.
После его «Писем» русской общественной мысли оставались два пути: либо способствовать отказу России от территориального и политического величия и так привести ее в соответствие с мировым «интеллектуальным порядком», либо опрокинуть этот порядок и «выразить» Россию, обосновав теоретически ее самостоятельность. Для этого России нужна была собственная философия.
Герцен, когда писал, что славянофилы и западники были как «двуликий Янус» и что «сердце у них билось одно»[122 - Герцен А. И. Былое и думы. Л., 1947. С. 304.], прав был только диалектически. С точки зрения общей логики, если прислушаться внимательно, эти сердца стучали совершенно по-разному. Вопрос уже нельзя было свести к безобидным тактическим разногласиям, речь шла о том, что продолжит свое существование на шестой части суши: то, что все-таки стало великой Россией, или то, что превратится в нечто, наподобие маленькой «милой Франции», доброй Германии» или «Польши». Речь шла о русской свободе.
Российская историография переполнена опытами диалектического синтезирования славянофильства и западничества, неизбежно сводящими оба течения к двум разновидностям одного и того же западничества. При этом, как правило, подразумевается, что никакой особенной русской философии не может быть, а славянофил философствующий – уже западник, и дважды западник потому, что он еще и историк. Спор славянофилов и западников оказывается по существу всего лишь очередной домашней дискуссией по поводу двух программ завоевания России: кого на этот раз станем грабить – «славян» или «общечеловеков», и каким именно образом – по-немецки или по-русски? Здесь лежит фундаментальное противоречие отечественного славянофиловедения, рассматривающего предмет в русле рационалистической платоновской традиции и гегельянства и утверждающего при этом, что именно с рационализмом славянофилы каким-то образом боролись. Из бодрой славянофильской мысли делают смесь синкретизма и эклектики, выливающуюся затем в некое вялое и покорное судьбе квазитеологическое мировоззрение, каковых и на Западе было предостаточно. Это в свою очередь крайне затрудняет преподавание и изучение действительно своеобразного явления в русском обществе.
К счастью, окончательно сузить философский горизонт не дают фигуры вроде Чаадаева, свидетельствующие о том, что о России не просто надо думать другое, но и думать-то о ней надо по-другому. Его блестящие парадоксы, наблюдения некоторых «самобытных», «случайных» приключений и качеств русского народа не исчерпываются категориями диалектики и не укладываются в традиционную западную философию истории или во что-либо на нее похожее. Эта ситуация была зафиксирована также и Хомяковым, и Константином Аксаковым, безуспешно пытавшимся «натянуть» гегелевские схемы на русскую историю, и другими славянофилами. К сожалению, в огромном количестве посвященных этой теме работ двоякая идея России как явления и как «вещи в себе» понимается только в качестве мифа, который даже его создатель Чаадаев не смог объяснить «нормальными законами нашего ума» и в который поэтому можно «только верить», что само по себе звучит простовато. Позиция самого Чаадаева расценивается как позиция «последовательного западника, еще до того как славянофильство отчетливо осознало себя <…> начавшего борьбу с ним»; западничество же одевается в «позитивную национальную форму», в которой Россия уже ничем по существу не отличается от Европы и (всего лишь!) должна осуществить одну из ее идей[123 - См.: Рудницкая Е. Л. Поиск пути. Русская мысль после 14 декабря 1825 г. М., 1999. С. 172; В раздумьях о России / Под ред. Е. Л. Рудницкой. М., 1996.]. При этом остается принципиально непонятным, как, пользуясь одними «нормальными законами своего ума», он смог хотя бы различить в России то, чего не заметили другие, пользовавшиеся теми же «нормальными» гегелевскими понятиями?
Если, наконец, перестать смотреть диалектически на борьбу западников и славянофилов и продумать «скорбную» антитезу Чаадаева, все же отделяя значения от значений, то славянофильство отличится от западничества гораздо глубже, нежели это описано в большинстве исторических монографий. Уже сам Чаадаев, наблюдая формирование славянофильского направления, писал в «Апологии сумасшедшего»: «<…> у нас совершается настоящий переворот в национальной мысли, страстная реакция против Просвещения, против идей Запада»[124 - Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма. Т. 1. С. 530.]. Это была естественная реакция «фанатичных славян»[125 - Там же. С. 528.], осознавших, что чужое просвещение не допустимо ни при каких обстоятельствах, даже при том, что завести собственную философию некоторым народам труднее, чем завести собственную армию. Славянофилы осознали первое условие возможности русской философии: «просвещаясь», не выразить интересы чужой идеологии и не потерять фиксированного значения русской мысли. Поэтому их конечной целью могло быть лишь создание независимой и самодостаточной, архитектонически устойчивой и понятной всякому русскому системы суждений, позволяющей видеть и оценивать как факты сегодняшнего дня, так и виртуальные реконструкции прошедшего. Хотя вместо того, чтобы лишить Петра Яковлевича именно философской почвы, славянофилы в ответ на его обвинение («Истории мы не имеем») первоначально занялись той же самой историей. «У нас есть история», – таков в самых общих чертах был их ответ. Оставалось только уточнить, какая история у нас есть? К сожалению, мыслители славянофильского круга, насколько это известно, не задавались вопросами, что есть история, чья это идея и действительно ли она так необходима России? Как и европейцы, они были захвачены общим движением к историзации всего сущего, когда большинство наук так или иначе начинали становиться историями или обзаводились самостоятельными историческими разделами. Хомяков заявил, что наше прошлое разрушалось «образованным обществом» намеренно, это Петр организовал разрушение исторических воспоминаний и нужно восстановить национальную память. Ту же академическую историографию, которая возникла в России благодаря реформам Петра I, Хомяков, видимо, не причислял к «национальным воспоминаниям». Ведь это немцы первыми обратили внимание русских на их собственные летописи («Нате, дурни, почитайте!»). Именно немецкие профессора Петербурга, которых один Ломоносов от отчаянья порою бил палкой по голове, подняли из небытия, перевели и издали тот корпус исторических документов, который и по сей день является главным источником для наших ученых и во многом предопределяет содержание их трудов, а в конечном счете и наше представление о самих себе.
Получается, Чаадаев действительно спровоцировал рождение славянофильства. Он славянофилов, так сказать, «спугнул» и «погнал на номера». Он русское прошлое обругал – они воспели и опоэтизировали, что само по себе отдаленно напоминает спор отца Федора с Кисой Воробьяниновым. Кажется, что сердце у них и в самом деле «билось одно». Вопрос лишь в том, что это было за сердце? На возмущенные реплики Чаадаева, зачем они сразу извлекли из истории «старые идеи» и «старые антипатии», славянофилы по существу ответили, что, мол, мы так хотим, и хотим именно этого, а не «светлых католических идеалов», которые тот в свою очередь точно так же извлек из идейного богатства очерченного Гегелем конечного и европоцентричного исторического процесса. Здесь «бежать на номера» пришла очередь Чаадаева: «В наши дни плохие писатели, неумелые антикварии и несколько неудавшихся поэтов <…> самоуверенно рисуют и воскрешают времена и нравы, которых уже никто у нас не помнит и не любит»[126 - Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма: В 2 т. Т. 2. М., 1991. С. 225]. В этой фразе отчетливо слышен окрик аристократа, и это, конечно, его поражение. Ореол диссидента и ненавистника России над ним окончательно так и не развеялся. Заметим, что в этом историческом споре наука историософия играет глубоко случайную роль. Речь с таким же успехом и общественным резонансом могла идти и о целесообразности прокладки какого-нибудь водного канала или о способах ведения войны. Вообще славянофильство – мерцающее учение. Чем более грозные тучи сгущаются над русским славянством, тем ярче вспыхивает оно, потом затухая и вырождаясь. Формы его могут быть самыми paзными – от узко историографических и историософских построений, имеющих целью повернуть общественное сознание в направлении того или иного проекта освобождения крестьян, до борьбы против поворота северных рек или чего-нибудь в этом роде. Поэтому историософия – не определяющий, собственный или родовой, а случайный признак славянофильства, всецело зависимый от всегда одной и той же сути дела, защищаемого этим вспыхивающим учением. В центре же его неизменно находятся вопросы истины, справедливости и свободы, проблематика самоидентификации русских, взаимоотношения народа и власти, славянства и его соседей.
* * *
Сегодня историософию определяют как интуитивное переживание судеб народов, эстетическое и этическое осмысление основ их бытия, отыскание «корней» и прозрение будущей «судьбы». Н. А. Нарочницкая в монографии «Россия и русские в мировой истории» определяет «историософский подход в рассмотрении исторических событий» как «имеющий своим объектом и события, и самосознание, то есть мотивации к совершению исторического акта»[127 - Нарочницкая Н. А. Россия и русские в мировой истории. М., 2003. С. 16.]. Надо заметить, что в обоих этих весьма характерных для нашего времени определениях, наиболее мучительные и далекие от разрешения философские проблемы считаются как бы уже решенными, и о философии в самом широком ее понимании речи не ведется. История здесь полагается в качестве науки, давно покинувшей свою колыбель и самой превратившейся в целую философию, ревниво оберегающую свои пределы. В понятии «философия истории» история традиционно занимает главенствующее и первое место (отсюда и название «историософия»), философия – место только служебное (место «служанки истории») и в лучшем случае является, так сказать, «историчествующей философией», а чаще «философствующей историей». «Философской истории» в России, по-видимому, сегодня нет. Этим и объясняются многочисленные усилия историков отыскать ее в прошлом, чтобы заполнить зияющие пробелы в своих знаниях о человеческом обществе.
Одной из важнейших задач философии истории Л. П. Карсавин считал «конкретное познание исторического процесса в свете наивысших метафизических идей»[128 - Карсавин Л. П. Философия истории. СПб., 1993. С. 15.]. Таковых идей Иммануил Кант насчитывал только три: это – Бог, Свобода и Бессмертие. Он полагал, что все они, за исключением Свободы, должны рассматриваться только как «идеалы», то есть благие пожелания стремящегося к безусловному разума, ибо в человеческой реальности им ничто не соответствует и соответствовать не может. То, что нет идеи Бога и поэтому абсурдно доказывать его существование исходя из его идеи, было показано еще епископом Беркли[129 - Беркли Д. Соч. М., 1978. С. 46–48.]. Но это обстоятельство никак не может помешать нам верить в Него или, подобно Канту, следовать метафизическим идеям в качестве целей («как если бы они существовали на самом деле»), помня, однако, что это есть дело добровольное и принуждать кого-либо именем означенных виртуальных идей нельзя. Тем не менее в истории, особенно после секуляризации церковного знания, многое совершалось как раз «именем Революции», «именем Науки», «Культуры», «Цивилизации». Да и сама «История» («Традиция») в этом перечне продолжает занимать не последнее место. Отсюда понятно, что существование на положении страдающих и послушных рабов исторического процесса не может быть причислено к высшим целям человеческого разума и «свет метафизических идей» не должен отвлекать, например, от борьбы за справедливость. Вообще знание – это благо (Сократ). Достоверное и доказывающее знание – еще большая ценность, но не самоцель. Стремиться к нему и к точной ориентации в мире явлений следует ради каких-то действительно высших целей, ведь оно всегда ограничено. Поэтому представления о «смысле истории» или о «тенденциях и векторе исторического процесса» могут быть лишь ориентиром, дополнительным средством, но не программой безошибочных действий. (Мало ли куда надумает идти «История»!) Равно как тот или иной объем или степень наших исторических познаний не могут ни ослабить, ни увеличить человеческое в нас и не должны решающим образом влиять на наш выбор, который находится вне зависимости от уровня образованности общества или отдельного человека и от количества исторических сочинений, сохраняемых обществом. Ведь существовали народы и страны, мало интересовавшиеся всемирной историей, но не лишенные способности принимать разумные решения. В связи с этим хочется привести слова П. Я. Чаадаева, ясно поставившего еще одну задачу философии истории: «Пopa бросить ясный взгляд на наше прошлое затем, чтобы извлечь из него старые идеи, поглощенные временем, старые антипатии, с которыми давно покончил здравый смысл наших государей и самого народа, но для того, чтобы узнать, как мы должны относиться к нашему прошлому»[130 - Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма. Т. 1. С. 226.]. Таким образом, ни «идейное богатство» прошедшего, ни даже идеалы и антипатии усопших людей, ни сама История как метафизическая идея (а она именно метафизическая, т. к. физически посетить прошлое еще никому не удавалось) не должны волновать исследователя. Что же остается от «философии истории»? Да одна философия и остается, зыбкая территория, «наука о самом главном» (Кант).
Склонность к историзации жизни, которую Давид Юм называл «привычкой» и которая заключается в переносе прошлого опыта на будущее либо имеет далеко впереди лежащую и еще никем не осознанную цель, либо, что на сегодняшний день наиболее вероятно, коренится в желании человека все предусмотреть. Для этого отыскиваем «закономерности» и «тенденции» исторического развития иногда даже там, где они, возможно, еще не сложились, и стараются в полном соответствии с ними выстроить жизнь сколь возможно комфортно. Для того прошлое и объявлено познаваемым и изучается неустанно, чтобы, становясь все более известным, укрепляло в надежде на то, что все так будет продолжаться и впредь. Однако появление неизвестного из неизвестного имеет место не только в астрономии, физике макропроцессов и квантовой физике, где предполагаются скорости, превышающие скорость света, и наблюдатель сначала фиксирует следствие, а лишь спустя некоторое время может «визуально» столкнуться с причиной. Так, выпущенная со сверхсветовой скоростью пуля сначала убивает утку, и только потом мы видим вспышку и слышим грохот выстрела. «Исторически» выстрел выступает здесь в качестве следствия гибели утки. В общественной жизни нечто подобное существует в поистине глобальных масштабах.
Если в исторических и диалектических построениях неизвестное в результате синтеза появляется из уже известного, то в действительности неизвестное довольно часто и появляется из неизвестности. Человек застигается врасплох последствиями неких тайных процессов, и уже в таком положении вынуждает себя догадываться об их причинах в прошедшем, как бы прокручивая время в обратном направлении. Это и обусловливает преимущественно ретроспективный, историчный характер нашего мышления, то, что в России весьма двусмысленно называется «задним умом». Это же порождает и две наиболее распространенные ошибки в умозаключениях. Первую можно условно назвать «ошибкой Гегеля», когда путь развития самой действительности прямо отождествляется с путем познания ее разумом, в результате чего, по критическому замечанию А. С. Хомякова, «Пруссия становится действительной причиной Египетской или Германской истории, и – вовсе не в смысле телеологическом»[131 - Хомяков А. С. О современных явлениях в области философии. Письмо к Ю. Ф. Самарину // Благова Т. И. Родоначальники славянофильства. А. С. Хомяков и И. В. Киреевский. М., 1995. С. 251–252.]. Вторая – «ошибка Хомякова»: «Пути понятия и реальности действительно тождественны, но только в обратном направлении, как лестница одна и та же для восходящего и нисходящего. <…> Для понятия вещь сознается, и потому она есть или может быть; в реальности же она есть, и потому она сознается или может быть сознана»[132 - Там же.].
Общее у Хомякова и Гегеля – то, что сам факт наличия сознания уже является для них достаточным основанием для отождествления его с действительностью (здесь неважно, в каком направлении) и для производства индукции. Но тогда непонятно, зачем вообще эта последняя людям нужна? Ведь если разум тождествен природе, значит, он сразу способен знать ее целое, и ему вовсе не нужно от общего мучительно идти к особенному, а от него – к единичному; не нужно эмпирические данные подводить под понятия, а поступки – под нравственные заповеди. Перед нами кредо «интуитивного рассудка»: если я все существую и существую, стало быть, мыслю правильно.
Если Гегель злоупотреблял своими «представлениями о целом» Пруссии в ущерб представлениям о случайности составивших ее частей, то Хомяков рисковал впасть в крайность отождествления причинной и временной последовательности явлений. В этом также можно усмотреть отличие Хомякова от Гегеля. В логике ошибка Хомякова имеет специальное наименование «post hoc, ergo propter hoc» («после этого – значит, по причине этого») и может быть проиллюстрирована не только такой явной глупостью, как та, что день является причиной ночи, но глупостью более утонченной и распространенной: предшествовавшая история России является причиной ее настоящего положения.