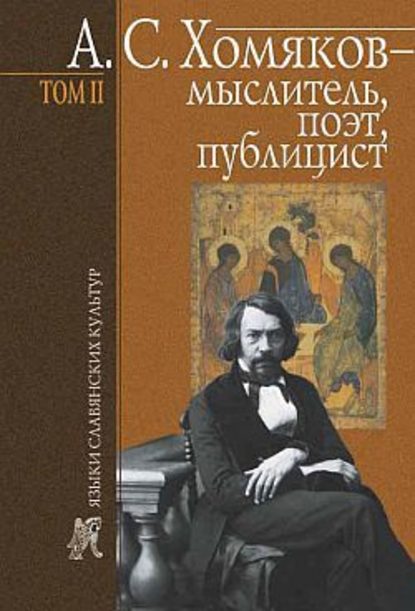По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Главными видами вероисповедания Хомяков считал многобожие (политеизм), единобожие (монотеизм) и всебожие (пантеизм), которые и заключают в себе все виды верования. Высшей формой единобожия он считал христианство. «Разнообразие форм гражданственности, просвещения и деятельности умственной, так же как и величайшее развитие сил государственных, принадлежат христианству; но после него первое место принадлежит пантеистическому буддаизму» (31). Особое значение Хомяков придавал Китаю, китайской державе, ее огромному пространству, величественным формам ее природы, твердости учреждений, утонченной искусственности гражданской жизни, колоссальности мирных трудов, высокочеловеческому достоинству самобытных постановлений и мыслей, логической стройности и строгой последовательности политической организации, уважению к человеческому уму и к просвещению. И это в то время, когда западные ученые считали Китай чуть ли не «спящей», «мертвой» державой, не способной к дальнейшему развитию.
По-своему Хомяков понимал и историю: он пытался рассматривать ее с «геологической» точки зрения, выявляя «наслоение племен», «их разрыв», «их вкрапление друг в друге», «скопление или органическое сращение», чтобы разгадать собственно исторические загадки.
Он соглашался с тем, что для познания прошлого, следует знать настоящее. «Хотите узнать то, что было, – сперва узнайте то, что есть. Возвратный ход, т. е. от современного к старому, от старого к древнему, может создать истории; но он, и он один, может служить ее поверкою» (33). Правда, Хомяков постоянно напоминал, что из далекого прошлого многое останется неизвестным навсегда.
Основой истории Хомяков считал письменность, но многие даже просвещенные народы не имели письменности, а потому впали в забвение, кроме того, письменность у большинства народов возникла довольно поздно (у евреев – около XVIII в. до н. э., у китайцев – Х—VIII до н. э., у греков, римлян и индусов – IX в. до н. э.), а что было до этого – покрыто мраком и полной неизвестностью. Древние летописи носят такой характер, что историю на них не построишь. «Для науки политической история Греции уже почти бесполезна, для науки нравственной вся древность не представляет ни одного доброго урока нам, людям высшего просвещения», – писал Хомяков (39). Он считал, что чисто внешним и случайным факторам исторических исследований надо противопоставить подлинно научные принципы:
Не дела лиц, не судьбы народов, но общее дело, судьба, жизнь всего человечества составляют истинный предмет истории <…> мы <…> видим развитие своей души, своей внутренней жизни миллионов людей на всем пространстве земного шара. Тут уже имена делаются случайностями, и только духовный смысл общих движений и проявлений получает истинную важность <…> в истории мы ищем самого начала рода человеческого, в надежде найти ясное слово о его первоначальном братстве и общем источнике. Тайная мысль религиозная управляет трудом и ведет его далее и далее (39).
Хомяков выступил против весьма распространенной в его время историографии и историософии, которые сводились к описанию деяний великих личностей, рассматривали судьбы народов, но обходили стороной самое главное – жизнь всего человечества как единого целого. По существу Хомяков ведет речь о создании всемирной истории как духовной истории человечества, как такой истории, которая проявляется во всех человеческих деяниях в форме духа, души, духовного смысла всего человеческого рода.
Так понятая история уже не может сводиться к каким-то формальным изысканиям, к какой-то совокупности хронологических эмпирических фактов и даже летописей – фрагментарных или более-менее законченных. В связи с этим меняется также и характер научной методологии: наряду с глубокой ученостью, беспристрастием, универсальностью взгляда, способностью сближать далекие предметы и события, скрупулезностью необходимы еще и другие качества – «чувство поэта и художника. Ученость может обмануть, остроумие склоняет к парадоксам: чувство художника есть внутреннее чутье истины человеческой, которое ни обмануть, ни обмануться не может» (41). По сути дела высшими качествами историка Хомяков признает художественные чувства, чувства поэта и художника как «инстинкт истины», как интуитивное познание истины и постижение истории. Тем самым Хомяков подошел вплотную к эстетическому изучению и обоснованию истории. В русской мысли он явился одним из первых, кто понял значение художественно-эстетической методологии познания, исследования, изучения и постижения истории. Ему последуют и другие русские мыслители, и прежде всего Константин Николаевич Леонтьев и его младший современник Василий Васильевич Розанов.
С этих позиций Хомяков осуждал предрассудки ученых, которые стали презирать мысли, предания, догадки дилетантов:
В бесконечном множестве подробностей пропало всякое единство. Глаз, привыкший всматриваться во все мелочи, утратил чувство общей гармонии. Картину разложили на линии и краски, симфонию на такты и ноты. Инстинкты глубоко человеческие, поэтическая способность угадывать истину исчезли под тяжестью учености односторонней и сухой. Из-под вольного неба, от жизни на Божьем мире, среди волнения братьев-людей книжники гордо ушли в душное одиночество своих библиотек, окружая себя видениями собственного самолюбия и заграждая доступ великим урокам существенности и правды. От этого вообще чем историк и летописец древнее и менее учен, тем его показания вернее и многозначительнее; от этого многоученость Александрии и Византии затемнила историю древнюю, а книжничество германское наводнило мир ложными системами (48–49).
Хомяков хочет повернуть изучение истории к гармоническим началам, к видению и узрению единого корня человеческого рода и инстинктивному или художественно-эстетическому постижению его жизни и деятельности. В своей историософии он уделял большое внимание преданиям: «Важнее всяких материальных признаков, всякого политического устройства, всяких отношений граждан между собой предания и поверья самого народа» (53). Они представляют собой исключительно важный материал для реконструкции истории. Особенно это относится к поэтическим преданиям, поскольку в них отражено духовное содержание человеческой жизнедеятельности.
Еще важнее самих поверий и преданий, но, к несчастью, неуловим для исследователя, самый дух жизни целой семьи человеческой. Его можно чувствовать, угадывать, глубоко сознавать; но нельзя заключить в определения, нельзя доказать тому, кто не сочувствует. В нем можно иногда отыскать признаки отрицательные и даже назвать их; признаков положительных отыскать нельзя (54–55).
При этом положительные характеристики выглядят как нечто банальное, всем известное, а отрицательные, напротив, являются более определенными, но зато и более односторонними. Хомяков приводит пример науки в Германии, ученые которой отличаются беспристрастностью и правдивостью, трудолюбием и прямодушием, а их труды являются источником философского духа, связующего науки, источником духа жизни, оплодотворяющим любой труд, не говоря уже о предпочтении всего человеческого национальному. Вместе с тем Германия дала просвещению склонность к формальности, замедляющей развитие разума, и безмерную страсть к отвлеченностям, перед чем все сущее, все живое теряет значение и важность и иссушается до мертвого логического закона. Особенно это проявилось в отношении немецких ученых к проблеме славянского мира и его значения – здесь у них явные ошибки, смешные промахи и великая слепота. Чтобы не совершать подобных ошибок и прийти к разгадке древней истории, надо быть художественно чутким и художественно образованным человеком.
Китай в отношении науки государственной то же, что Финикия в мореходстве и Египет в зодчестве. Раскройте его летопись, взгляните на дух его древних философов, на характер его литературы, – и вы поймете тридцативековое существование империи. Нужна поэзия, чтобы узнать историю; нужно чувство художественной, т. е. чисто человеческой истины, чтобы угадать могущество односторонней энергии, одушевляющей миллионы людей. Одностихийность народов – вот разгадка древности и ее чудес (70).
Как видим, Хомяков снова и снова подчеркивает значение поэзии и чувства художественной истины для понимания и постижения истории народов: «тут, как и везде, одно чувство истины человеческой служит и судьею, и мерилом» (72), то есть универсальным критерием. Как известно, Константин Леонтьев объявит эстетический критерий всеобщим, универсальным, приложимым ко всем сферам человеческой жизнедеятельности.
Важное место в историософии Хомякова занимает учение о двух типах народов – «завоевательных» и «земледельческих»:
Народы завоевательные по первоначальному своему характеру сохраняют навсегда чувство гордости личной и презрение не только ко всему побежденному, но и ко всему чуждому. Таков монголец, таков был кельт, таков турок. Это чувство презрения к чуждому долго сохраняет народность их. Победители, они угнетают порабощенных и не смешиваются с ними; побежденные, они упорно противятся влиянию победителей и хранят в душе инстинкты, зарожденные в них веками старинной славы. Может быть, этим объясняется сила народности в племенах скифских, т. е. финно-тибетских <…>. Народы земледельческие ближе к общечеловеческим началам. На них не действовало гордое волшебство победы; они не видали у ног своих поверженных врагов, обращенных в рабство законом меча, и не привыкли считать себя выше своих братьев, других людей. От этого они восприимчивее ко всему чуждому. Им недоступно чувство аристократического презрения к другим племенам, но все человеческое находит в них созвучие и сочувствие (75).
Эти очень важные характеристики имеют историческое и реально практическое значение в жизни разных народов вплоть до сегодняшнего дня. Национальная гордость и тщеславие могут выразиться в антигуманных, расистских формах, как это случилось в фашистских Италии, Испании, Германии и ряде других стран в XX веке, и, напротив, миролюбивый характер «земледельческих» наций остается, как правило, навсегда. Таковыми были славяне.
Мы будем, как всегда и были, демократами между прочих семей Европы; мы будем представителями чисто человеческого начала, благословляющего всякое племя на жизнь вольную и развитие самобытное. Законы могут создать у нас на время родовое дворянство, может быть и родовое боярство, могут учредить у нас майоратства и право семейного первородства; ложное направление народности в литературе может раздувать в нас слабую искру гордости и вселять безумную мечту первенства нашего перед нашею братиею, сыновьями той же великой семьи. Все это возможно. Но невозможно в нас вселить то чувство, тот лад и строй души, из которого развиваются майоратство и аристократия, и родовое чванство, и презрение к людям и народам. Это невозможно, этого не будет <…> если есть какая-нибудь истина в братстве человеческом, если чувство любви и правды и добра не призрак, а сила живая и неумирающая, – зародыш будущей жизни мировой – не германец, аристократ и завоеватель, а славянин, труженик и разночинец, призывается к плодотворному подвигу и великому служению (99–100).
Эти наблюдения и обобщения Хомякова очень важны для современных международных отношений – надо всегда учитывать характер того или иного народа для установления плодотворных с ним взаимоотношений.
Опираясь на свое учение о характерах народов, Хомяков показывает диалектику их «перерождения»: «Перерождение тем легче и тем полнее, чем ближе друг другу характеры победителей и побежденных» (104). Например, Пруссия и Поморье славянское приняли все формы жизни немецкой. Но следует помнить, что «власть и сила недостаточны для перерождения племени побежденного. Благородная гордость человека тогда только мирится с его повелителем, когда видит в нем существо, достойное власти» (104). Так, Запад Европы принимает римский быт, а Эллада и Восток, более просвещенные, чем римляне, оказывают интеллектуальное воздействие на своих завоевателей. Римская власть уничтожала самобытность государств и враждовала против политической свободы, но оставляла людям их свободу личную. Народ подчиненный, но не лишенный личных прав, охотнее переходил к нравам и обычаям преобладающего племени, поэтому римская власть была легкой. Земледельческий Китай, благодаря своей хорошо устроенной государственности на высоких и самобытных началах, пересоздал своих завоевателей монголов. «Государственная стройность есть уже просвещение, и просвещение высокое: оно должно было уничтожить нестройную деятельность всякой воинственной орды. Государственность строгая есть слава, и слава, достойная значения человеческой природы: она должна была дать побежденному твердость в борьбе духовной и доставить ему окончательное торжество» (108).
Не один раз Хомяков говорит в своих сочинениях о важности государства и государственности для устройства человеческого общества и для воспитания его граждан. Иногда кажется, что он отдает предпочтение именно государству в своей историософии. На самом же деле это не так, ибо первостепенное значение Хомяков отдает религии и вере. «Первый и главный предмет, на который должно обращать внимание исторического критика, есть народная вера. Выньте христианство из истории Европы и буддаизм из Азии, и вы уже не поймете ничего ни в Европе, ни в Азии» (118–119). С этим трудно не согласиться. Но религию не так просто понять. «Религию можно понять единственно по взгляду на всю жизнь народа и на полное его историческое развитие» (136). Но где историк возьмет материалы о всей жизни народа и о полном его историческом развитии? Правда, Хомяков говорит о том, что для истории религий имеется больше основ, чем для истории государств, имея в виду сохранившиеся отрывки поэзии, законоположений, остатки зодчества, ваяния, которые, как правило, древнее всех летописей. «Почти бесполезные для истории, они раскрывают целый мир религиозных и философских мыслей, который важнее рассказа о бывших государствах» (133). Разумеется, каменные изображения религиозной мысли гораздо древнее памятников словесных, однако они получают смысл именно от словесных, составляющих лишь небольшую часть религиозной жизни. Но и само слово весьма недостаточно, чтобы выразить смысл, поскольку духовность всегда представала в вещественном образе. На этом основании говорить о древнейших эпохах как об эпохах варварства – грубейшая ошибка. Хомяков считал, что определение высшего Бога в Ведах часто похоже на определение вещественного атома, но этого было достаточно, чтобы понять чисто духовный характер идеи: «Брахм, или Бхрам, А-бхрам (вечно подвижный – вечно покойный) есть одно из самых чистых, самых высоких выражений духа, или, лучше сказать, самосознания» (138).
Древнейшие учения представляют человечество на высокой степени религиозного образования. «Вторая эпоха есть эпоха унижения, огрубения понятий, одичания жизни» (139). Поклонение Небу, Огню, человекообразное представление божества у греков, грубая вещественность в служении, почти всякое отсутствие нравственного начала в мифологии, торжество силы и красоты телесной, совершенная бесчувственность поэтов к идее правды и добра – это уже разложение когда-то, по-видимому, высокой древнейшей веры. Хомяков полагал, что история разнообразных и богатых мифологий Сирии, Финикии, Египта и Вавилона могла бы раскрыть многие тайны, но нельзя ожидать этого от грека, бесчувственного к глубокому смыслу восточных мифологий, или от пророков еврейских, для которых всякое поклонение, кроме служения единому Господу – Элогиму Адонаи, было мерзостью, или от Рима, тупого ко всему духовному. «Только самый народ может говорить дельно о своей вере, как человек о своих мыслях и чувствах» (143). Но и здесь есть большие трудности. Народы, от которых не осталось памятников письменности, были бы совершенно мертвы для духовной истории человечества, если бы «опыт веков не учил нас всеобщей логике души» (144). С помощью аналогий, памятников художественных, свидетельств разных веков и племен, мы можем часто воссоздавать если не мифологии подробные, то «дух учений, который необходим для верного понятия о жизни древней. Но в этом труде, более чем во всяком другом, нужна чистота истины художественной или человеческой, сочувствие со всякими проявлениями жизни умственной и верный взгляд на физиономии народов в сложности их быта и деятельности» (144). Все остальное – яыкознание, этимология и т. д. – лишь подготовляют данные, необходимые для создания более полной картины: «живая сила здравого смысла возвращает зданию смысл, а остову – жизнь» (144).
Хомяков снова и снова повторяет, что вера лежит в основе всей человеческой жизнедеятельно сти:
Вера <…> есть совершеннейший плод народного образования, крайний и высший предел его развития. Ложная или истинная, она в себе заключает весь мир помыслов и чувств человеческих. Поэтому все понятия, все страсти, вся жизнь получают от нее особенный характер, поэтому и они в свою очередь напечатлевают на ней неизгладимые следы свои. Синкретизм религиозный принимает в себя все оттенки быта и мысли. В нем отзываются вражда и страх, любовь и надежда (148).
Для того, чтобы религия помогла раскрыть историческое развитие народа, надо находить простые законы синкретизма. Так, божество, признанное самобытной мыслью народа, остается доминирующим среди чужих богов и идолов. Например, евреи поклонялись многим идолам, но ни Молох, ни Дагон, ни Камос не смогли вытеснить Адонаи-Иегову Дело еще в том, что характер божества, как полагает Хомяков, согласуется с характером народа, который ему поклоняется. Общечеловеческий, чистый образ Бога был долгие времена недосягаем для народов. И только на более поздних стадиях своего развития они пришли к тому, что превратили «божество во всемирный субъект, во всеведение: быть – это мыслить (положение справедливое, когда всякое духовное действие называется мыслию) приняло ограниченный смысл: быть – это знать» (153), тo есть онтология была сведена к гносеологии.
Деление народов на «завоевательные» и «земледельческие» получает у Хомякова своеобразную конкретизацию: «завоевательное» начало он называет «кушитством», а «земледельческое» – «иранством», или «иранизмом». Основной характер древних религий определяется, согласно Хомякову, не количеством богов, не обрядами богослужения и даже не категориями ума, а категориями воли:
Свобода и необходимость составляют то тайное начало, около которого в разных странах сосредоточиваются все мысли человека. В языке религии, переносящей в невидимое небо законы, которыми управляется видимый мир земли и его видимый владыка – человек, свобода выражается творением, а необходимость – рождением <…>. Рождение представляет самому грубому уму неотъемлемую присущность необходимости, неволи, точно так же как акт творения представляет самое живое и ясное свидетельство духовной свободы или, лучше сказать, воли (ибо свобода – понятие отрицательное, а воля положительное) (188).
Введение категорий свободы и необходимости как воли и неволи, творения и рождения позволили Хомякову не только по-новому рассмотреть древние и новые религии, но и показать их значение гносеологическое, логическое, аксиологическое, социальное и политическое.
Во всех религиях чисто иранских змея представляет зло, в кушитских – добро. Но в иранизме этот символ, кажется, просто вводный и принят или как олицетворение враждебного кушитства, или как остаток древнейшего предания; в кушитстве же он первобытный и коренной (190).
Почему змея была признана изображениями божества – объяснить довольно трудно. Можно лишь предположить, что в ряде стран, где водились и водятся огромные змеи (удавы, анаконды) и очень ядовитые их виды (кобры, гюрзы, гадюки), они представлялись людям как всемогущие существа, в одном понимании – добрые, в другом – злые. В кушитских религиях змея олицетворяла добро потому, что, как полагает Хомяков, «божество Кушита не заключало в себе нравственной идеи благости, но простое и грубое понятие о силе» (193). Он относит это к таким религиям, как шиваизм и буддаизм. Обе эти религии были лишены «нравственной идеи благости», или «нравственного двигателя», а их духовность была отрицанием, возведенным до религиозного значения и выражалась в «служении небытию». Кушитство – безлично, иранство – лично. Кушитское развитие носило вещественный характер – именно этим Хомяков объясняет создание гигантских памятников в зодчестве и ваянии, а иранство продляло себя в создании литературных и музыкальных произведений. Страстный и вещественный шиваизм, отвлеченный и созерцательный буддаизм, то есть кушитские религии, были основаны на необходимости – «жизнь есть необходимость», внешняя мыслящему духу, «но этот дух в ней закован и ему остается или признать ее беспрекословно и служить ей, или уничтожить себя, чтобы получить свободу. В первом случае добра нравственного нет, потому что идея добра несовместна с идеею рабства, а свобода невозможна, в другом нет добра нравственного, потому что свобода духа возможна только в удалении от всякого действия, ибо действие завлекает ее в мир необходимости, а свобода, не проявляясь, остается в области небытия. Таков смысл кушитского учения во всем его развитии…» (198). Иную, может быть, противоположную диалектику свободы и необходимости Хомяков выявляет в иранстве:
Иран <…> основал свое верование на другом начале, на предании о свободе или на внутреннем сознании ее. Кушитов мы должны угадывать, иранцы сами себя высказывают <…>. Ясно и решительно отправляясь от начала совершенно чуждого системе кушитской, иранская религия возводит все видимое и частно живущее к Вечносущему Духу, давая ему разные названия, смотря по местности, характеру языков и направлению младенческой мысли человека. Бог в значении Творца есть основная характеристическая черта иранства. Свобода положена началом, благонравственное – высокою целию всякого дробного бытия. Двойство антагонистическое не могло не войти в область веры иранской: Сатана, Локи, Агриман, асуры обозначают борьбу зла против добра <…>. Представитель добра есть посланник и изображение первоначальной силы, дающей несомненную победу добру над злом (199–200).
Таковы религии иудаизма и брахманизма. Сравнивая эти религии с греческим Олимпом, Хомяков отмечает, что у греков уже трудно отличить божества иранские и кушитские из-за сильного смешения. «Свобода утратила свой нравственный смысл и сделалась произволом; необходимость утратила единство личного представления и сделалась простою и неясною отвлеченностью» (202). Еще большее нивелирование он обнаруживает в Древнем Риме: «Об Риме говорить нечего. Там не было никакой системы, никакого учения. Там было не органическое соединение, а грубый сплав мифологий. Там не было верования, а государственная обрядность, гражданственная связь, religio, church and state» (202). Именно Эллада соединила окончательно обе религии. Может быть, именно поэтому она никогда не знала религиозных войн и изменила все отношения между народами силою своего духа. Эллада была сильна своим искусством, философией и гражданственностью, но почти ничтожна в смысле религии и племен.
Только еврейская вера, согласно Хомякову, оставалась неприкосновенной и непоколебимой, сторонясь умствований и страстей человеческих и опираясь на твердую основу предания, сохраняя чистую и неизменную веру в духовную свободу.
Видимо, не случайно Ханаан и Египет представлялись Израилю гнездом разврата и чувственного безумия.
Диалектика свободы и необходимости определяла и соотношение сильных и слабых государств: иранство, основанное на свободе, склонялось к построению свободного, естественного, гражданского объединения людей, а кушитство, основанное на необходимости, приводило к созданию могучих государственных структур, существовавших на протяжении тысячелетий – Египет, Вавилон, Китай и другие. Кушитское начало всегда побеждало начало иранское как более слабое и уязвимое.
Большое внимание в своей историософии Хомяков уделял анализу языков, полагая, что любой язык отражает и выражает жизнедеятельность, сознание и самосознание народа. Может быть, самое важное состоит в том, что языки выражают уровень общения людей и народов, их взаимодействие друг с другом и взаимное влияние.
Сходство корней показывает единство первоначального племени, сходство в словах, уже развитых по одному какому-нибудь закону, показывает мирное и братское житье под одним небом, на одной земле, при одинаковых условиях быта. Чем многообразнее, чем глубже и отвлеченнее предметы, обозначенные одними и теми же звуками в различных наречиях, тем явнее, что разрыв семей происходил поздно и что мысль у них поднималась и упадала, яснела и помрачалась под влиянием одинаковых законов. Таковы приметы словесные, которыми подтверждаются данные из истории, из быта и религии и которые утверждают за славянами бесспорное первенство перед всеми другими выходцами Ирана, заселившими пространство Европы <…>. Наречия тесно связаны с народами. В каждом языке высказывается отдельная семья человеческая <…> мы не должны ставить на одной ступени все слова, заключенные в лексикон <…> так мы не должны приписывать одинакового значения всем наречиям и семьям человеческим и искать у них материалов для мысленного возобновления великого здания, сокрушенного веками и воинственною дикостью племен, забывших человеческое достоинство и святость братского общения. Наследство великих предков переходило во владение многочисленным потомкам. Каждой семье доставалось оно во всей полноте мысли и слова; но каждая семья владела и пользовалась им без чужой опеки и оглядки на других» (390–391).
Слово впитывало и воспринимало в себя все оттенки мысли и, в свою очередь, воздействовало на ее развитие. Слово творит самобытно и вольно. Смешение племен порождает новый язык, новый строй мысли, новый грамматический закон. В языке и благодаря языку народ сохраняется как таковой.
Славянский, великорусский язык Хомяков признавал как один из самых развитых, могучих и уступающих только санскриту. В древние времена каждый народ заключал в свое имя свой идеал человеческого совершенства: одни по имени божественного духа, радующегося бытию; другие от единственного орудия мирного общения – слова – людей говорящих, мирных, общительных, выражающих посредством слова сокровище мысли. К последним Хомяков относил славян – мирных хлебопашцев, общежительных градостроителей, которым война была всегда противна. Они охотнее брались за соху, чем за меч.
Побежденное или торжествующее, это племя действовало благодетельно на жизнь европейских народов, умягчая нравы галлов <…>. давая саксам направление истинно человеческое, усовершенствуя невежественное земледелие германцев до XVI века <…> бросая на юг торговые колонии <…> пробуждая в Элладе зародыши словесного просвещения и особенно противодействуя свирепости других племен распространением кроткого и чистого богопочитания <…>. Таковы были искони славяне, древние просветители Европы, долгие страдальцы чужеплеменного своеволия, брахманы Запада, но брахманы, не мудрствовавшие, а бытовые, не сплотившиеся нигде в жреческую касту, не образовавшие нигде сильного государства, но хранившие в форме мелких общин или больших семей предания и обычаи человеческие, принесенные ими из своей иранской колыбели. Осужденные на тысячелетние страдания, вознагражденные поздним величием, они могли бы роптать на свою трагическую судьбу если бы на них не лежала вина человекообразной веры и искажения высокой духовности иранской, исчезнувшей перед сказочными вымыслами и житейским направлением славянского ума» (424–425).
Здесь можно было бы возразить Хомякову только в том, что славяне не создали нигде сильного государства – как известно, в России такое государство было создано, и сам Хомяков об этом много раз писал и напоминал, но в остальном его характеристики славянского племени, кажется, верны и обоснованы. Особенно это относится к такой характеристике, как «любовь словесного общения» (426), которая у славян была развита необычайно.
Обозревая человеческую историю и борьбу двух начал в ней, Хомяков, кажется, не отдает предпочтение ни одному из них, но если внимательно вникнуть в его тексты, то можно почувствовать его симпатию к иранству, а не кушитству, поскольку в слабом или бессильном иранстве всегда были «дух жизни и слово, хранящее наследство мысли, и еще неискаженное предание, завещанное человеку древними его родоначальниками. Угнетение вызвало борьбу. Борьба вызвала дремлющие силы. Могущество, основанное на началах условных, но лишенное внутреннего плодотворного содержания, пало перед взрывом племен, сохранивших еще простоту безыскусственной жизни и чистоту неиспорченной веры. Дух восторжествовал над веществом, и племя иранское овладело миром. Прошли века, и его власть не слабеет, и в его руках судьба человечества» (441). Что касается кушитства, то оно, несмотря на свою могучую силу, сознание своего могущества и презрение ко всем другим народам, хотя и сохраняет еще известное господство, но ограничивает просвещение знанием видимого и чувственного, ведет замену свободного духа законом необходимости и вещественного организма, отрывается от великих преданий древности, утрачивает чистоту слова и святости мысли. Создание материальных условий для привольной жизни и создание могучей государственности обусловило его постепенное ослабление и вырождение. Видимо, будущее, если следовать затаенным мыслям Хомякова, будет принадлежать иранству, а не кушитству.
Эти два начала произвели, согласно Хомякову, все разнообразие религий, многие из которых подрывали основные устои человечности. Только с возникновением христианства религия и вера стали играть исключительно благотворную роль во всей жизнедеятельности народов мира.
Сравнительное исследование различных языков позволило Хомякову сделать вывод: все они сводятся к одному коренному языку, что свидетельствует о первобытном единстве рода человеческого и о случайном разделении его на племена. Наконец, географические, этнографические, лингвистические, исторические, религиозные данные представляют «неоспоримое свидетельство о великом просвещении, всемирном общении и умственной деятельности времен доисторических, о позднейшем искажении всех духовных начал, об одичании человечества и о печальном значении так называемых героических веков, когда борьба беззаконных и буйных сил поглотила в себе все великие предания древности, всю жизнь мысли, все начала общения и всю разумную деятельность народов» (443). Зародыш этого зла Хомяков усматривал именно в кушитстве, народы которого раньше всех забыли все чисто человеческое.
Эти выводы Хомякова сохраняют свое значение по сей день, ибо и в настоящее время мы видим в истории человечества борьбу духовного и материального начал, борьбу добра и зла, борьбу голой, бесчеловечной силы с силами человечности. Современное кушитство борется с современным иранством, и эта борьба получает уже вселенское, всемирное значение. Трудно сказать, кому из них достанется победа, поскольку современные виды оружия массового уничтожения могут смести всех и вся, если человечество вовремя не образумится и не примет действенные меры против этого безумия.
А каковыми могут быть наши выводы относительно историософии Хомякова?
Прежде всего следует отметить плодотворный характер его попытки построить историософию исходя из основ религии и веры, поскольку это позволило ему определить «архетипы» истории прошлого и современности.
Соединение художественного и научного начал в единой методологии исследования, «чувство поэта и художника», или «поэтический инстинкт», вместе с научным методом могут быть применимы к исследованию конкретного исторического материала и дать цельный генезис развития человечества и его сознания и самосознания. В этом смысле Хомяков заложил основания для эстетического понимания истории.
Наконец, Хомякову удалось в религиозном вскрыть историческое, в историческом – логическое и из всего этого извлечь дух народа, определяющий всю жизнедеятельность, сознание и самосознание любого народа, этноса, племени.
В силу именно этих обстоятельств историософия Хомякова, по крайней мере, ее основные идеи, сохраняет свое значение и для настоящего времени.
По-своему Хомяков понимал и историю: он пытался рассматривать ее с «геологической» точки зрения, выявляя «наслоение племен», «их разрыв», «их вкрапление друг в друге», «скопление или органическое сращение», чтобы разгадать собственно исторические загадки.
Он соглашался с тем, что для познания прошлого, следует знать настоящее. «Хотите узнать то, что было, – сперва узнайте то, что есть. Возвратный ход, т. е. от современного к старому, от старого к древнему, может создать истории; но он, и он один, может служить ее поверкою» (33). Правда, Хомяков постоянно напоминал, что из далекого прошлого многое останется неизвестным навсегда.
Основой истории Хомяков считал письменность, но многие даже просвещенные народы не имели письменности, а потому впали в забвение, кроме того, письменность у большинства народов возникла довольно поздно (у евреев – около XVIII в. до н. э., у китайцев – Х—VIII до н. э., у греков, римлян и индусов – IX в. до н. э.), а что было до этого – покрыто мраком и полной неизвестностью. Древние летописи носят такой характер, что историю на них не построишь. «Для науки политической история Греции уже почти бесполезна, для науки нравственной вся древность не представляет ни одного доброго урока нам, людям высшего просвещения», – писал Хомяков (39). Он считал, что чисто внешним и случайным факторам исторических исследований надо противопоставить подлинно научные принципы:
Не дела лиц, не судьбы народов, но общее дело, судьба, жизнь всего человечества составляют истинный предмет истории <…> мы <…> видим развитие своей души, своей внутренней жизни миллионов людей на всем пространстве земного шара. Тут уже имена делаются случайностями, и только духовный смысл общих движений и проявлений получает истинную важность <…> в истории мы ищем самого начала рода человеческого, в надежде найти ясное слово о его первоначальном братстве и общем источнике. Тайная мысль религиозная управляет трудом и ведет его далее и далее (39).
Хомяков выступил против весьма распространенной в его время историографии и историософии, которые сводились к описанию деяний великих личностей, рассматривали судьбы народов, но обходили стороной самое главное – жизнь всего человечества как единого целого. По существу Хомяков ведет речь о создании всемирной истории как духовной истории человечества, как такой истории, которая проявляется во всех человеческих деяниях в форме духа, души, духовного смысла всего человеческого рода.
Так понятая история уже не может сводиться к каким-то формальным изысканиям, к какой-то совокупности хронологических эмпирических фактов и даже летописей – фрагментарных или более-менее законченных. В связи с этим меняется также и характер научной методологии: наряду с глубокой ученостью, беспристрастием, универсальностью взгляда, способностью сближать далекие предметы и события, скрупулезностью необходимы еще и другие качества – «чувство поэта и художника. Ученость может обмануть, остроумие склоняет к парадоксам: чувство художника есть внутреннее чутье истины человеческой, которое ни обмануть, ни обмануться не может» (41). По сути дела высшими качествами историка Хомяков признает художественные чувства, чувства поэта и художника как «инстинкт истины», как интуитивное познание истины и постижение истории. Тем самым Хомяков подошел вплотную к эстетическому изучению и обоснованию истории. В русской мысли он явился одним из первых, кто понял значение художественно-эстетической методологии познания, исследования, изучения и постижения истории. Ему последуют и другие русские мыслители, и прежде всего Константин Николаевич Леонтьев и его младший современник Василий Васильевич Розанов.
С этих позиций Хомяков осуждал предрассудки ученых, которые стали презирать мысли, предания, догадки дилетантов:
В бесконечном множестве подробностей пропало всякое единство. Глаз, привыкший всматриваться во все мелочи, утратил чувство общей гармонии. Картину разложили на линии и краски, симфонию на такты и ноты. Инстинкты глубоко человеческие, поэтическая способность угадывать истину исчезли под тяжестью учености односторонней и сухой. Из-под вольного неба, от жизни на Божьем мире, среди волнения братьев-людей книжники гордо ушли в душное одиночество своих библиотек, окружая себя видениями собственного самолюбия и заграждая доступ великим урокам существенности и правды. От этого вообще чем историк и летописец древнее и менее учен, тем его показания вернее и многозначительнее; от этого многоученость Александрии и Византии затемнила историю древнюю, а книжничество германское наводнило мир ложными системами (48–49).
Хомяков хочет повернуть изучение истории к гармоническим началам, к видению и узрению единого корня человеческого рода и инстинктивному или художественно-эстетическому постижению его жизни и деятельности. В своей историософии он уделял большое внимание преданиям: «Важнее всяких материальных признаков, всякого политического устройства, всяких отношений граждан между собой предания и поверья самого народа» (53). Они представляют собой исключительно важный материал для реконструкции истории. Особенно это относится к поэтическим преданиям, поскольку в них отражено духовное содержание человеческой жизнедеятельности.
Еще важнее самих поверий и преданий, но, к несчастью, неуловим для исследователя, самый дух жизни целой семьи человеческой. Его можно чувствовать, угадывать, глубоко сознавать; но нельзя заключить в определения, нельзя доказать тому, кто не сочувствует. В нем можно иногда отыскать признаки отрицательные и даже назвать их; признаков положительных отыскать нельзя (54–55).
При этом положительные характеристики выглядят как нечто банальное, всем известное, а отрицательные, напротив, являются более определенными, но зато и более односторонними. Хомяков приводит пример науки в Германии, ученые которой отличаются беспристрастностью и правдивостью, трудолюбием и прямодушием, а их труды являются источником философского духа, связующего науки, источником духа жизни, оплодотворяющим любой труд, не говоря уже о предпочтении всего человеческого национальному. Вместе с тем Германия дала просвещению склонность к формальности, замедляющей развитие разума, и безмерную страсть к отвлеченностям, перед чем все сущее, все живое теряет значение и важность и иссушается до мертвого логического закона. Особенно это проявилось в отношении немецких ученых к проблеме славянского мира и его значения – здесь у них явные ошибки, смешные промахи и великая слепота. Чтобы не совершать подобных ошибок и прийти к разгадке древней истории, надо быть художественно чутким и художественно образованным человеком.
Китай в отношении науки государственной то же, что Финикия в мореходстве и Египет в зодчестве. Раскройте его летопись, взгляните на дух его древних философов, на характер его литературы, – и вы поймете тридцативековое существование империи. Нужна поэзия, чтобы узнать историю; нужно чувство художественной, т. е. чисто человеческой истины, чтобы угадать могущество односторонней энергии, одушевляющей миллионы людей. Одностихийность народов – вот разгадка древности и ее чудес (70).
Как видим, Хомяков снова и снова подчеркивает значение поэзии и чувства художественной истины для понимания и постижения истории народов: «тут, как и везде, одно чувство истины человеческой служит и судьею, и мерилом» (72), то есть универсальным критерием. Как известно, Константин Леонтьев объявит эстетический критерий всеобщим, универсальным, приложимым ко всем сферам человеческой жизнедеятельности.
Важное место в историософии Хомякова занимает учение о двух типах народов – «завоевательных» и «земледельческих»:
Народы завоевательные по первоначальному своему характеру сохраняют навсегда чувство гордости личной и презрение не только ко всему побежденному, но и ко всему чуждому. Таков монголец, таков был кельт, таков турок. Это чувство презрения к чуждому долго сохраняет народность их. Победители, они угнетают порабощенных и не смешиваются с ними; побежденные, они упорно противятся влиянию победителей и хранят в душе инстинкты, зарожденные в них веками старинной славы. Может быть, этим объясняется сила народности в племенах скифских, т. е. финно-тибетских <…>. Народы земледельческие ближе к общечеловеческим началам. На них не действовало гордое волшебство победы; они не видали у ног своих поверженных врагов, обращенных в рабство законом меча, и не привыкли считать себя выше своих братьев, других людей. От этого они восприимчивее ко всему чуждому. Им недоступно чувство аристократического презрения к другим племенам, но все человеческое находит в них созвучие и сочувствие (75).
Эти очень важные характеристики имеют историческое и реально практическое значение в жизни разных народов вплоть до сегодняшнего дня. Национальная гордость и тщеславие могут выразиться в антигуманных, расистских формах, как это случилось в фашистских Италии, Испании, Германии и ряде других стран в XX веке, и, напротив, миролюбивый характер «земледельческих» наций остается, как правило, навсегда. Таковыми были славяне.
Мы будем, как всегда и были, демократами между прочих семей Европы; мы будем представителями чисто человеческого начала, благословляющего всякое племя на жизнь вольную и развитие самобытное. Законы могут создать у нас на время родовое дворянство, может быть и родовое боярство, могут учредить у нас майоратства и право семейного первородства; ложное направление народности в литературе может раздувать в нас слабую искру гордости и вселять безумную мечту первенства нашего перед нашею братиею, сыновьями той же великой семьи. Все это возможно. Но невозможно в нас вселить то чувство, тот лад и строй души, из которого развиваются майоратство и аристократия, и родовое чванство, и презрение к людям и народам. Это невозможно, этого не будет <…> если есть какая-нибудь истина в братстве человеческом, если чувство любви и правды и добра не призрак, а сила живая и неумирающая, – зародыш будущей жизни мировой – не германец, аристократ и завоеватель, а славянин, труженик и разночинец, призывается к плодотворному подвигу и великому служению (99–100).
Эти наблюдения и обобщения Хомякова очень важны для современных международных отношений – надо всегда учитывать характер того или иного народа для установления плодотворных с ним взаимоотношений.
Опираясь на свое учение о характерах народов, Хомяков показывает диалектику их «перерождения»: «Перерождение тем легче и тем полнее, чем ближе друг другу характеры победителей и побежденных» (104). Например, Пруссия и Поморье славянское приняли все формы жизни немецкой. Но следует помнить, что «власть и сила недостаточны для перерождения племени побежденного. Благородная гордость человека тогда только мирится с его повелителем, когда видит в нем существо, достойное власти» (104). Так, Запад Европы принимает римский быт, а Эллада и Восток, более просвещенные, чем римляне, оказывают интеллектуальное воздействие на своих завоевателей. Римская власть уничтожала самобытность государств и враждовала против политической свободы, но оставляла людям их свободу личную. Народ подчиненный, но не лишенный личных прав, охотнее переходил к нравам и обычаям преобладающего племени, поэтому римская власть была легкой. Земледельческий Китай, благодаря своей хорошо устроенной государственности на высоких и самобытных началах, пересоздал своих завоевателей монголов. «Государственная стройность есть уже просвещение, и просвещение высокое: оно должно было уничтожить нестройную деятельность всякой воинственной орды. Государственность строгая есть слава, и слава, достойная значения человеческой природы: она должна была дать побежденному твердость в борьбе духовной и доставить ему окончательное торжество» (108).
Не один раз Хомяков говорит в своих сочинениях о важности государства и государственности для устройства человеческого общества и для воспитания его граждан. Иногда кажется, что он отдает предпочтение именно государству в своей историософии. На самом же деле это не так, ибо первостепенное значение Хомяков отдает религии и вере. «Первый и главный предмет, на который должно обращать внимание исторического критика, есть народная вера. Выньте христианство из истории Европы и буддаизм из Азии, и вы уже не поймете ничего ни в Европе, ни в Азии» (118–119). С этим трудно не согласиться. Но религию не так просто понять. «Религию можно понять единственно по взгляду на всю жизнь народа и на полное его историческое развитие» (136). Но где историк возьмет материалы о всей жизни народа и о полном его историческом развитии? Правда, Хомяков говорит о том, что для истории религий имеется больше основ, чем для истории государств, имея в виду сохранившиеся отрывки поэзии, законоположений, остатки зодчества, ваяния, которые, как правило, древнее всех летописей. «Почти бесполезные для истории, они раскрывают целый мир религиозных и философских мыслей, который важнее рассказа о бывших государствах» (133). Разумеется, каменные изображения религиозной мысли гораздо древнее памятников словесных, однако они получают смысл именно от словесных, составляющих лишь небольшую часть религиозной жизни. Но и само слово весьма недостаточно, чтобы выразить смысл, поскольку духовность всегда представала в вещественном образе. На этом основании говорить о древнейших эпохах как об эпохах варварства – грубейшая ошибка. Хомяков считал, что определение высшего Бога в Ведах часто похоже на определение вещественного атома, но этого было достаточно, чтобы понять чисто духовный характер идеи: «Брахм, или Бхрам, А-бхрам (вечно подвижный – вечно покойный) есть одно из самых чистых, самых высоких выражений духа, или, лучше сказать, самосознания» (138).
Древнейшие учения представляют человечество на высокой степени религиозного образования. «Вторая эпоха есть эпоха унижения, огрубения понятий, одичания жизни» (139). Поклонение Небу, Огню, человекообразное представление божества у греков, грубая вещественность в служении, почти всякое отсутствие нравственного начала в мифологии, торжество силы и красоты телесной, совершенная бесчувственность поэтов к идее правды и добра – это уже разложение когда-то, по-видимому, высокой древнейшей веры. Хомяков полагал, что история разнообразных и богатых мифологий Сирии, Финикии, Египта и Вавилона могла бы раскрыть многие тайны, но нельзя ожидать этого от грека, бесчувственного к глубокому смыслу восточных мифологий, или от пророков еврейских, для которых всякое поклонение, кроме служения единому Господу – Элогиму Адонаи, было мерзостью, или от Рима, тупого ко всему духовному. «Только самый народ может говорить дельно о своей вере, как человек о своих мыслях и чувствах» (143). Но и здесь есть большие трудности. Народы, от которых не осталось памятников письменности, были бы совершенно мертвы для духовной истории человечества, если бы «опыт веков не учил нас всеобщей логике души» (144). С помощью аналогий, памятников художественных, свидетельств разных веков и племен, мы можем часто воссоздавать если не мифологии подробные, то «дух учений, который необходим для верного понятия о жизни древней. Но в этом труде, более чем во всяком другом, нужна чистота истины художественной или человеческой, сочувствие со всякими проявлениями жизни умственной и верный взгляд на физиономии народов в сложности их быта и деятельности» (144). Все остальное – яыкознание, этимология и т. д. – лишь подготовляют данные, необходимые для создания более полной картины: «живая сила здравого смысла возвращает зданию смысл, а остову – жизнь» (144).
Хомяков снова и снова повторяет, что вера лежит в основе всей человеческой жизнедеятельно сти:
Вера <…> есть совершеннейший плод народного образования, крайний и высший предел его развития. Ложная или истинная, она в себе заключает весь мир помыслов и чувств человеческих. Поэтому все понятия, все страсти, вся жизнь получают от нее особенный характер, поэтому и они в свою очередь напечатлевают на ней неизгладимые следы свои. Синкретизм религиозный принимает в себя все оттенки быта и мысли. В нем отзываются вражда и страх, любовь и надежда (148).
Для того, чтобы религия помогла раскрыть историческое развитие народа, надо находить простые законы синкретизма. Так, божество, признанное самобытной мыслью народа, остается доминирующим среди чужих богов и идолов. Например, евреи поклонялись многим идолам, но ни Молох, ни Дагон, ни Камос не смогли вытеснить Адонаи-Иегову Дело еще в том, что характер божества, как полагает Хомяков, согласуется с характером народа, который ему поклоняется. Общечеловеческий, чистый образ Бога был долгие времена недосягаем для народов. И только на более поздних стадиях своего развития они пришли к тому, что превратили «божество во всемирный субъект, во всеведение: быть – это мыслить (положение справедливое, когда всякое духовное действие называется мыслию) приняло ограниченный смысл: быть – это знать» (153), тo есть онтология была сведена к гносеологии.
Деление народов на «завоевательные» и «земледельческие» получает у Хомякова своеобразную конкретизацию: «завоевательное» начало он называет «кушитством», а «земледельческое» – «иранством», или «иранизмом». Основной характер древних религий определяется, согласно Хомякову, не количеством богов, не обрядами богослужения и даже не категориями ума, а категориями воли:
Свобода и необходимость составляют то тайное начало, около которого в разных странах сосредоточиваются все мысли человека. В языке религии, переносящей в невидимое небо законы, которыми управляется видимый мир земли и его видимый владыка – человек, свобода выражается творением, а необходимость – рождением <…>. Рождение представляет самому грубому уму неотъемлемую присущность необходимости, неволи, точно так же как акт творения представляет самое живое и ясное свидетельство духовной свободы или, лучше сказать, воли (ибо свобода – понятие отрицательное, а воля положительное) (188).
Введение категорий свободы и необходимости как воли и неволи, творения и рождения позволили Хомякову не только по-новому рассмотреть древние и новые религии, но и показать их значение гносеологическое, логическое, аксиологическое, социальное и политическое.
Во всех религиях чисто иранских змея представляет зло, в кушитских – добро. Но в иранизме этот символ, кажется, просто вводный и принят или как олицетворение враждебного кушитства, или как остаток древнейшего предания; в кушитстве же он первобытный и коренной (190).
Почему змея была признана изображениями божества – объяснить довольно трудно. Можно лишь предположить, что в ряде стран, где водились и водятся огромные змеи (удавы, анаконды) и очень ядовитые их виды (кобры, гюрзы, гадюки), они представлялись людям как всемогущие существа, в одном понимании – добрые, в другом – злые. В кушитских религиях змея олицетворяла добро потому, что, как полагает Хомяков, «божество Кушита не заключало в себе нравственной идеи благости, но простое и грубое понятие о силе» (193). Он относит это к таким религиям, как шиваизм и буддаизм. Обе эти религии были лишены «нравственной идеи благости», или «нравственного двигателя», а их духовность была отрицанием, возведенным до религиозного значения и выражалась в «служении небытию». Кушитство – безлично, иранство – лично. Кушитское развитие носило вещественный характер – именно этим Хомяков объясняет создание гигантских памятников в зодчестве и ваянии, а иранство продляло себя в создании литературных и музыкальных произведений. Страстный и вещественный шиваизм, отвлеченный и созерцательный буддаизм, то есть кушитские религии, были основаны на необходимости – «жизнь есть необходимость», внешняя мыслящему духу, «но этот дух в ней закован и ему остается или признать ее беспрекословно и служить ей, или уничтожить себя, чтобы получить свободу. В первом случае добра нравственного нет, потому что идея добра несовместна с идеею рабства, а свобода невозможна, в другом нет добра нравственного, потому что свобода духа возможна только в удалении от всякого действия, ибо действие завлекает ее в мир необходимости, а свобода, не проявляясь, остается в области небытия. Таков смысл кушитского учения во всем его развитии…» (198). Иную, может быть, противоположную диалектику свободы и необходимости Хомяков выявляет в иранстве:
Иран <…> основал свое верование на другом начале, на предании о свободе или на внутреннем сознании ее. Кушитов мы должны угадывать, иранцы сами себя высказывают <…>. Ясно и решительно отправляясь от начала совершенно чуждого системе кушитской, иранская религия возводит все видимое и частно живущее к Вечносущему Духу, давая ему разные названия, смотря по местности, характеру языков и направлению младенческой мысли человека. Бог в значении Творца есть основная характеристическая черта иранства. Свобода положена началом, благонравственное – высокою целию всякого дробного бытия. Двойство антагонистическое не могло не войти в область веры иранской: Сатана, Локи, Агриман, асуры обозначают борьбу зла против добра <…>. Представитель добра есть посланник и изображение первоначальной силы, дающей несомненную победу добру над злом (199–200).
Таковы религии иудаизма и брахманизма. Сравнивая эти религии с греческим Олимпом, Хомяков отмечает, что у греков уже трудно отличить божества иранские и кушитские из-за сильного смешения. «Свобода утратила свой нравственный смысл и сделалась произволом; необходимость утратила единство личного представления и сделалась простою и неясною отвлеченностью» (202). Еще большее нивелирование он обнаруживает в Древнем Риме: «Об Риме говорить нечего. Там не было никакой системы, никакого учения. Там было не органическое соединение, а грубый сплав мифологий. Там не было верования, а государственная обрядность, гражданственная связь, religio, church and state» (202). Именно Эллада соединила окончательно обе религии. Может быть, именно поэтому она никогда не знала религиозных войн и изменила все отношения между народами силою своего духа. Эллада была сильна своим искусством, философией и гражданственностью, но почти ничтожна в смысле религии и племен.
Только еврейская вера, согласно Хомякову, оставалась неприкосновенной и непоколебимой, сторонясь умствований и страстей человеческих и опираясь на твердую основу предания, сохраняя чистую и неизменную веру в духовную свободу.
Видимо, не случайно Ханаан и Египет представлялись Израилю гнездом разврата и чувственного безумия.
Диалектика свободы и необходимости определяла и соотношение сильных и слабых государств: иранство, основанное на свободе, склонялось к построению свободного, естественного, гражданского объединения людей, а кушитство, основанное на необходимости, приводило к созданию могучих государственных структур, существовавших на протяжении тысячелетий – Египет, Вавилон, Китай и другие. Кушитское начало всегда побеждало начало иранское как более слабое и уязвимое.
Большое внимание в своей историософии Хомяков уделял анализу языков, полагая, что любой язык отражает и выражает жизнедеятельность, сознание и самосознание народа. Может быть, самое важное состоит в том, что языки выражают уровень общения людей и народов, их взаимодействие друг с другом и взаимное влияние.
Сходство корней показывает единство первоначального племени, сходство в словах, уже развитых по одному какому-нибудь закону, показывает мирное и братское житье под одним небом, на одной земле, при одинаковых условиях быта. Чем многообразнее, чем глубже и отвлеченнее предметы, обозначенные одними и теми же звуками в различных наречиях, тем явнее, что разрыв семей происходил поздно и что мысль у них поднималась и упадала, яснела и помрачалась под влиянием одинаковых законов. Таковы приметы словесные, которыми подтверждаются данные из истории, из быта и религии и которые утверждают за славянами бесспорное первенство перед всеми другими выходцами Ирана, заселившими пространство Европы <…>. Наречия тесно связаны с народами. В каждом языке высказывается отдельная семья человеческая <…> мы не должны ставить на одной ступени все слова, заключенные в лексикон <…> так мы не должны приписывать одинакового значения всем наречиям и семьям человеческим и искать у них материалов для мысленного возобновления великого здания, сокрушенного веками и воинственною дикостью племен, забывших человеческое достоинство и святость братского общения. Наследство великих предков переходило во владение многочисленным потомкам. Каждой семье доставалось оно во всей полноте мысли и слова; но каждая семья владела и пользовалась им без чужой опеки и оглядки на других» (390–391).
Слово впитывало и воспринимало в себя все оттенки мысли и, в свою очередь, воздействовало на ее развитие. Слово творит самобытно и вольно. Смешение племен порождает новый язык, новый строй мысли, новый грамматический закон. В языке и благодаря языку народ сохраняется как таковой.
Славянский, великорусский язык Хомяков признавал как один из самых развитых, могучих и уступающих только санскриту. В древние времена каждый народ заключал в свое имя свой идеал человеческого совершенства: одни по имени божественного духа, радующегося бытию; другие от единственного орудия мирного общения – слова – людей говорящих, мирных, общительных, выражающих посредством слова сокровище мысли. К последним Хомяков относил славян – мирных хлебопашцев, общежительных градостроителей, которым война была всегда противна. Они охотнее брались за соху, чем за меч.
Побежденное или торжествующее, это племя действовало благодетельно на жизнь европейских народов, умягчая нравы галлов <…>. давая саксам направление истинно человеческое, усовершенствуя невежественное земледелие германцев до XVI века <…> бросая на юг торговые колонии <…> пробуждая в Элладе зародыши словесного просвещения и особенно противодействуя свирепости других племен распространением кроткого и чистого богопочитания <…>. Таковы были искони славяне, древние просветители Европы, долгие страдальцы чужеплеменного своеволия, брахманы Запада, но брахманы, не мудрствовавшие, а бытовые, не сплотившиеся нигде в жреческую касту, не образовавшие нигде сильного государства, но хранившие в форме мелких общин или больших семей предания и обычаи человеческие, принесенные ими из своей иранской колыбели. Осужденные на тысячелетние страдания, вознагражденные поздним величием, они могли бы роптать на свою трагическую судьбу если бы на них не лежала вина человекообразной веры и искажения высокой духовности иранской, исчезнувшей перед сказочными вымыслами и житейским направлением славянского ума» (424–425).
Здесь можно было бы возразить Хомякову только в том, что славяне не создали нигде сильного государства – как известно, в России такое государство было создано, и сам Хомяков об этом много раз писал и напоминал, но в остальном его характеристики славянского племени, кажется, верны и обоснованы. Особенно это относится к такой характеристике, как «любовь словесного общения» (426), которая у славян была развита необычайно.
Обозревая человеческую историю и борьбу двух начал в ней, Хомяков, кажется, не отдает предпочтение ни одному из них, но если внимательно вникнуть в его тексты, то можно почувствовать его симпатию к иранству, а не кушитству, поскольку в слабом или бессильном иранстве всегда были «дух жизни и слово, хранящее наследство мысли, и еще неискаженное предание, завещанное человеку древними его родоначальниками. Угнетение вызвало борьбу. Борьба вызвала дремлющие силы. Могущество, основанное на началах условных, но лишенное внутреннего плодотворного содержания, пало перед взрывом племен, сохранивших еще простоту безыскусственной жизни и чистоту неиспорченной веры. Дух восторжествовал над веществом, и племя иранское овладело миром. Прошли века, и его власть не слабеет, и в его руках судьба человечества» (441). Что касается кушитства, то оно, несмотря на свою могучую силу, сознание своего могущества и презрение ко всем другим народам, хотя и сохраняет еще известное господство, но ограничивает просвещение знанием видимого и чувственного, ведет замену свободного духа законом необходимости и вещественного организма, отрывается от великих преданий древности, утрачивает чистоту слова и святости мысли. Создание материальных условий для привольной жизни и создание могучей государственности обусловило его постепенное ослабление и вырождение. Видимо, будущее, если следовать затаенным мыслям Хомякова, будет принадлежать иранству, а не кушитству.
Эти два начала произвели, согласно Хомякову, все разнообразие религий, многие из которых подрывали основные устои человечности. Только с возникновением христианства религия и вера стали играть исключительно благотворную роль во всей жизнедеятельности народов мира.
Сравнительное исследование различных языков позволило Хомякову сделать вывод: все они сводятся к одному коренному языку, что свидетельствует о первобытном единстве рода человеческого и о случайном разделении его на племена. Наконец, географические, этнографические, лингвистические, исторические, религиозные данные представляют «неоспоримое свидетельство о великом просвещении, всемирном общении и умственной деятельности времен доисторических, о позднейшем искажении всех духовных начал, об одичании человечества и о печальном значении так называемых героических веков, когда борьба беззаконных и буйных сил поглотила в себе все великие предания древности, всю жизнь мысли, все начала общения и всю разумную деятельность народов» (443). Зародыш этого зла Хомяков усматривал именно в кушитстве, народы которого раньше всех забыли все чисто человеческое.
Эти выводы Хомякова сохраняют свое значение по сей день, ибо и в настоящее время мы видим в истории человечества борьбу духовного и материального начал, борьбу добра и зла, борьбу голой, бесчеловечной силы с силами человечности. Современное кушитство борется с современным иранством, и эта борьба получает уже вселенское, всемирное значение. Трудно сказать, кому из них достанется победа, поскольку современные виды оружия массового уничтожения могут смести всех и вся, если человечество вовремя не образумится и не примет действенные меры против этого безумия.
А каковыми могут быть наши выводы относительно историософии Хомякова?
Прежде всего следует отметить плодотворный характер его попытки построить историософию исходя из основ религии и веры, поскольку это позволило ему определить «архетипы» истории прошлого и современности.
Соединение художественного и научного начал в единой методологии исследования, «чувство поэта и художника», или «поэтический инстинкт», вместе с научным методом могут быть применимы к исследованию конкретного исторического материала и дать цельный генезис развития человечества и его сознания и самосознания. В этом смысле Хомяков заложил основания для эстетического понимания истории.
Наконец, Хомякову удалось в религиозном вскрыть историческое, в историческом – логическое и из всего этого извлечь дух народа, определяющий всю жизнедеятельность, сознание и самосознание любого народа, этноса, племени.
В силу именно этих обстоятельств историософия Хомякова, по крайней мере, ее основные идеи, сохраняет свое значение и для настоящего времени.