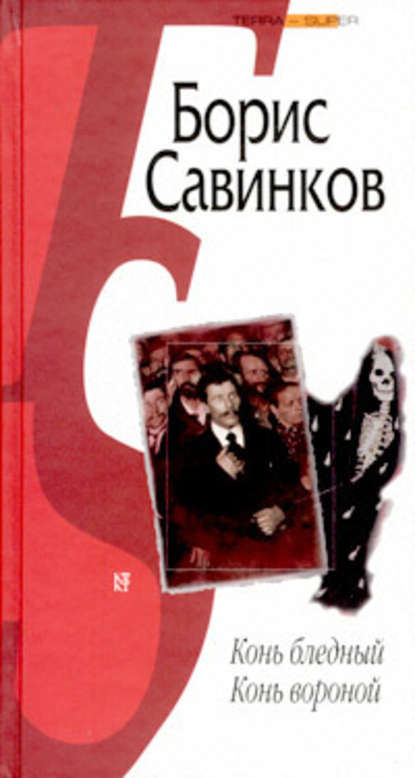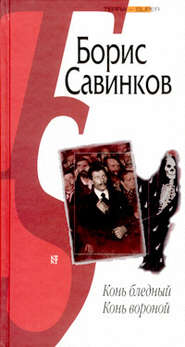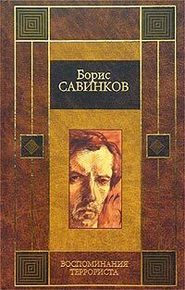По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Конь бледный
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он пожимает плечами и молча садится.
Я выхожу из театра.
24 марта.
Генриху 22 года. Он бывший студент. Еще недавно он ораторствовал на сходках, носил пенсне и длинные волосы. Теперь, как Ваня, он огрубел, похудел и оброс небритой щетиной. Лошадь у него тощая, сбруя рваная, сани подержанные, – настоящий московский Ванька.
Он везет нас: меняи Эрну. За заставой обернулся и говорит:
– Намедни попа одного возил. На Собачью Площадку рядился, пятиалтынный давал. Ну, а где она Собачья Площадка? Везу. Крутил я крутил. Стал, наконец, поп ругаться: куда везешь, сукин сын? Я, говорит, тебя в полицию представлю. Извозчик, говорит, должен Москву, как мешок с овсом знать, а ты, говорит, экзамен, небось, за целковый сдал. Насилу я его умолил: простите, говорю, батюшка, Христа ради… А экзамена я действительно не держал. Карпуха-босяк за полтинник вместо меня явился.
Эрна почти не слушает. Генрих продолжает с воодушевлением:
– Вот тоже на днях барин один с барыней порядились. Старички. Будто из благородных. Выехал я на Долгоруковскую, а там трамвай электрический у остановки стоит. Ну, я не глядя: Господи благослови, – через рельсы. Как барин-то вскочит и давай меня по шее тузить: ты, говорит, негодяй, что же? Задавить нас желаешь? Куда, говорит, прешь. . . сукин сын? А я и говорю: не извольте, говорю, ваше сиятельство себя беспокоить, так что трамвай у остановки стоит, проедем. Тут слышу барыня по-французски заговорила:
Жан, говорит, не волнуйся, во-первых тебе это вредно, а кроме того и извозчик, говорит, человек. Ей-Богу, вот так и сказала: извозчик, мол, человек. А он ей по-русски: сам знаю, что человек, да ведь какая скотина… А она: фи, говорит, что ты право, стыдись … Тут он, слышу, за плечо меня тронул: прости, говорит, голубчик, и на чай двугривенный подает … Не иначе: кадеты .. . Н-но, милая, выручай!..
Генрих стегает свою лошаденку. Эрна незаметно жмется ко мне.
Ну, а вы как, Эрна Яковлевна, – привыкли?
Генрих говорит робко. Эрна, нехотя, отвечает:
– Ничего. Конечно, привыкла.
Направо Петровский парк, черный переплет обнаженных ветвей. Налево – белая скатерть поля. Сзади – Москва. Сияют на солнце церкви.
Генрих примолк. Тишина. Только сани скрипят.
На Тверской я сую ему в руки полтинник. Он снимает заиндевелый картуз и долго смотрит нам вслед.
Эрна мне шепчет:
Можно сегодня прийти к тебе, милый?
28 марта.
Генерал-губернатор ждет покушения. Вчера ночью он неожиданно переехал в Нескучное. За ним переехали и мы. Ваня, Федор и Генрих следят теперь в Замоскворечье: у Калужских ворот и на большой Полянке. Я брожу по Пятницкой и Ордынке.
Мы уже много знаем о нем. Он высокого роста, с бледным лицом и подстриженными усами. Выезжает в Кремль два раза в неделю, от 3-х до 5-ти. Остальные часы он дома. Иногда бывает в театре. У него три запряжки. Пара серых коней и две вороных пары. Кучер не старый, лет сорока, с рыжей, веером бородою. Карета новая с белыми фонарями. Иногда в ней ездит его семья: жена и дети. Но тогда кучер другой. Старик с медалями на груди. Охрану мы знаем тоже: два сыщика, оба евреи. Ездят всегда на гнедом рысаке, в открытых санях. Ошибиться нельзя и я думаю, что мы скоро назначим день. Ваня бросит первую бомбу.
29 марта.
Из Петербурга приехал Андрей Петрович. Он член комитета. За ним много лет каторги и Сибири, – тяжкая жизнь затравленного революционеpa. У него грустные глаза и седая бородка клином. Мы сидим в «Эрмитаже». Он застенчиво говорит:
– Вы знаете, Жорж, в комитете поднят вопрос о временном прекращении террора. Что вы об этом думаете?
– Человек, – подзываю я полового, – поставь машину из «Корневильских колоколов». Андрей Петрович опускает глаза.
– Вы не слушаете меня, а вопрос очень важный. Как совместить террор и парламентскую работу? Или мы ее признаем и идем на выборы в Думу, или нет конституции и тогда, конечно, террор. Ну, что вы думаете об этом?
– Что думаю? Ничего.
– Вы подумайте. Может быть придется вас распустить, то есть организацию распустить.
– Что? – переспрашиваю я.
– То есть не распустить, а как бы это сказать? Вы знаете, Жорж, ведь мы понимаем. Мы знаем, как товарищам трудно. Мы ценим… И потом, ведь это только предположение.
У него лимонного цвета лицо, морщинки у глаз. Он наверное живет в нищей каморке, где-нибудь на Выборгской стороне, сам варит себе на спиртовке чай, бегает зимою в осеннем пальто и занят по горло всякими планами и делами. Он делает революцию.
Я говорю:
– Вот что, Андрей Петрович, вы решайте там, как хотите. Это ваше право. Но как бы вы ни решили, генерал-губернатор будет убит.
– Что вы? Вы не подчинитесь комитету?
– Нет.
– Послушайте, Жорж …
– Я сказал, Андрей Петрович.
– А партия? – напоминает он.
– А террор? – отвечаю я.
Он вздыхает. Потом протягивает мне руку.
– Я в Петербурге ничего не скажу. Авось, как-нибудь обойдется. Вы не сердитесь.
– Я не сержусь.
– Прощайте, Андрей Петрович.
Вызвездило. К морозу. Жутко в пустых переулках. Андрей Петрович спешит на вокзал. Бедный старик. Бедный взрослый ребенок. Именно вот таких и есть Царство Небесное.
30 марта.
Я опять брожу около дома Елены. Это громадный, серый, тяжелый дом купца Купоросова. Как могут жить люди в этой коробке? Как может жить в ней Елена?
Я знаю: глупо мерзнуть на улице, кружить вокруг закрытых дверей, ждать того, чего никогда не будет. Ну, если я даже встречу ее? Что изменится? Ничего.
А вот вчера, на Кузнецком, у Дациаро я встретил мужа Елены. Я издали заметил его. Он стоял у окна, спиною ко мне и разглядывал фотографии. Я подошел и стал рядом с ним. Он высокого роста, белокурый и стройный. Ему лет 25. Офицер.
Он обернулся и сразу узнал меня. В его потемневших глазах я прочел злобу и ревность. Я не знаю, что он прочел в моих.
Я не ревную его. Я не имею злобы к нему. Но он мне мешает. Он стоит на моей дороге. И еще:
Я выхожу из театра.
24 марта.
Генриху 22 года. Он бывший студент. Еще недавно он ораторствовал на сходках, носил пенсне и длинные волосы. Теперь, как Ваня, он огрубел, похудел и оброс небритой щетиной. Лошадь у него тощая, сбруя рваная, сани подержанные, – настоящий московский Ванька.
Он везет нас: меняи Эрну. За заставой обернулся и говорит:
– Намедни попа одного возил. На Собачью Площадку рядился, пятиалтынный давал. Ну, а где она Собачья Площадка? Везу. Крутил я крутил. Стал, наконец, поп ругаться: куда везешь, сукин сын? Я, говорит, тебя в полицию представлю. Извозчик, говорит, должен Москву, как мешок с овсом знать, а ты, говорит, экзамен, небось, за целковый сдал. Насилу я его умолил: простите, говорю, батюшка, Христа ради… А экзамена я действительно не держал. Карпуха-босяк за полтинник вместо меня явился.
Эрна почти не слушает. Генрих продолжает с воодушевлением:
– Вот тоже на днях барин один с барыней порядились. Старички. Будто из благородных. Выехал я на Долгоруковскую, а там трамвай электрический у остановки стоит. Ну, я не глядя: Господи благослови, – через рельсы. Как барин-то вскочит и давай меня по шее тузить: ты, говорит, негодяй, что же? Задавить нас желаешь? Куда, говорит, прешь. . . сукин сын? А я и говорю: не извольте, говорю, ваше сиятельство себя беспокоить, так что трамвай у остановки стоит, проедем. Тут слышу барыня по-французски заговорила:
Жан, говорит, не волнуйся, во-первых тебе это вредно, а кроме того и извозчик, говорит, человек. Ей-Богу, вот так и сказала: извозчик, мол, человек. А он ей по-русски: сам знаю, что человек, да ведь какая скотина… А она: фи, говорит, что ты право, стыдись … Тут он, слышу, за плечо меня тронул: прости, говорит, голубчик, и на чай двугривенный подает … Не иначе: кадеты .. . Н-но, милая, выручай!..
Генрих стегает свою лошаденку. Эрна незаметно жмется ко мне.
Ну, а вы как, Эрна Яковлевна, – привыкли?
Генрих говорит робко. Эрна, нехотя, отвечает:
– Ничего. Конечно, привыкла.
Направо Петровский парк, черный переплет обнаженных ветвей. Налево – белая скатерть поля. Сзади – Москва. Сияют на солнце церкви.
Генрих примолк. Тишина. Только сани скрипят.
На Тверской я сую ему в руки полтинник. Он снимает заиндевелый картуз и долго смотрит нам вслед.
Эрна мне шепчет:
Можно сегодня прийти к тебе, милый?
28 марта.
Генерал-губернатор ждет покушения. Вчера ночью он неожиданно переехал в Нескучное. За ним переехали и мы. Ваня, Федор и Генрих следят теперь в Замоскворечье: у Калужских ворот и на большой Полянке. Я брожу по Пятницкой и Ордынке.
Мы уже много знаем о нем. Он высокого роста, с бледным лицом и подстриженными усами. Выезжает в Кремль два раза в неделю, от 3-х до 5-ти. Остальные часы он дома. Иногда бывает в театре. У него три запряжки. Пара серых коней и две вороных пары. Кучер не старый, лет сорока, с рыжей, веером бородою. Карета новая с белыми фонарями. Иногда в ней ездит его семья: жена и дети. Но тогда кучер другой. Старик с медалями на груди. Охрану мы знаем тоже: два сыщика, оба евреи. Ездят всегда на гнедом рысаке, в открытых санях. Ошибиться нельзя и я думаю, что мы скоро назначим день. Ваня бросит первую бомбу.
29 марта.
Из Петербурга приехал Андрей Петрович. Он член комитета. За ним много лет каторги и Сибири, – тяжкая жизнь затравленного революционеpa. У него грустные глаза и седая бородка клином. Мы сидим в «Эрмитаже». Он застенчиво говорит:
– Вы знаете, Жорж, в комитете поднят вопрос о временном прекращении террора. Что вы об этом думаете?
– Человек, – подзываю я полового, – поставь машину из «Корневильских колоколов». Андрей Петрович опускает глаза.
– Вы не слушаете меня, а вопрос очень важный. Как совместить террор и парламентскую работу? Или мы ее признаем и идем на выборы в Думу, или нет конституции и тогда, конечно, террор. Ну, что вы думаете об этом?
– Что думаю? Ничего.
– Вы подумайте. Может быть придется вас распустить, то есть организацию распустить.
– Что? – переспрашиваю я.
– То есть не распустить, а как бы это сказать? Вы знаете, Жорж, ведь мы понимаем. Мы знаем, как товарищам трудно. Мы ценим… И потом, ведь это только предположение.
У него лимонного цвета лицо, морщинки у глаз. Он наверное живет в нищей каморке, где-нибудь на Выборгской стороне, сам варит себе на спиртовке чай, бегает зимою в осеннем пальто и занят по горло всякими планами и делами. Он делает революцию.
Я говорю:
– Вот что, Андрей Петрович, вы решайте там, как хотите. Это ваше право. Но как бы вы ни решили, генерал-губернатор будет убит.
– Что вы? Вы не подчинитесь комитету?
– Нет.
– Послушайте, Жорж …
– Я сказал, Андрей Петрович.
– А партия? – напоминает он.
– А террор? – отвечаю я.
Он вздыхает. Потом протягивает мне руку.
– Я в Петербурге ничего не скажу. Авось, как-нибудь обойдется. Вы не сердитесь.
– Я не сержусь.
– Прощайте, Андрей Петрович.
Вызвездило. К морозу. Жутко в пустых переулках. Андрей Петрович спешит на вокзал. Бедный старик. Бедный взрослый ребенок. Именно вот таких и есть Царство Небесное.
30 марта.
Я опять брожу около дома Елены. Это громадный, серый, тяжелый дом купца Купоросова. Как могут жить люди в этой коробке? Как может жить в ней Елена?
Я знаю: глупо мерзнуть на улице, кружить вокруг закрытых дверей, ждать того, чего никогда не будет. Ну, если я даже встречу ее? Что изменится? Ничего.
А вот вчера, на Кузнецком, у Дациаро я встретил мужа Елены. Я издали заметил его. Он стоял у окна, спиною ко мне и разглядывал фотографии. Я подошел и стал рядом с ним. Он высокого роста, белокурый и стройный. Ему лет 25. Офицер.
Он обернулся и сразу узнал меня. В его потемневших глазах я прочел злобу и ревность. Я не знаю, что он прочел в моих.
Я не ревную его. Я не имею злобы к нему. Но он мне мешает. Он стоит на моей дороге. И еще: