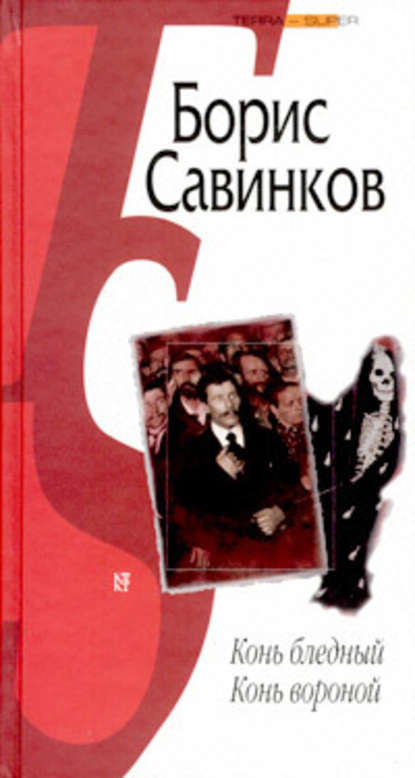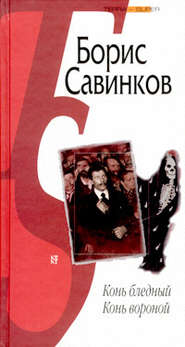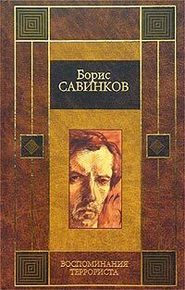По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Конь вороной
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, Евангелие для детей.
– Итак, довольно крикнуть с балкона «режь», чтобы поднять за собою стадо?
– Не стадо, а русский народ.
– Народ-богоносец?
– Нет, свободный народ.
– Итак, довольно поверить какому-то Марксу, чтобы отречься от родины, от родного гнезда?
– Ты мучаешь меня, Жорж…
– Чтобы исковеркать язык, растоптать отцовскую веру, разорить голодных и нищих, и расстреливать беременных баб?
– Жорж…
– Чтобы унизить русское имя и служить проходимцам, для их корысти, их лжи?
– Жорж…
– Ты помнишь, Ольга: «Если Ты поклонишься, то все будет Твое…» Иди, и поклонись. Нет, ты уже поклонилась… Теперь все твое. Все ваше. Тебе, вам, дана власть.
Она упала грудью на стол. Она рыдает навзрыд. Меня ждет Федя. Я ухожу.
22 февраля.
Федя докладывает:
– Убили вас, господин полковник, ей-богу, убили… Вчера донесение: вернулся, мол, из Одессы в Москву. Сегодня утром другое: приедет в 8 часов в Петровский парк, на «машине». Батюшки мои!.. Захлопотали, засуетились. Сейчас роту к Тверской заставе. Ну и я, многогрешный, тут. Верно: слышим, – стучит «машина». – «Стой!.. Вылезай!.. Документы!»… Вылезает так себе, господин. – «Я, – говорит, – Алексюк, на службе в Госбанке». – «Алексюк?.. На службе в Госбанке?.. Знаем. За нами!..» Тот – туды-сюды, и уже побледнел: караул! Прошел шагов пять, да со страху в кусты. Раз – раз… Из всех винтовок стали палить. Я наклонился, а в нем и дыхания нет. Тогда старший и говорит: «Собаке собачья и смерть»… Это, то есть, про вас… Вот так и убили.
– Федя, ты донесения писал?
– Никак нет. Что вы? Разве бы я посмел? Я знаю: он врет. Он опять играл и выиграл, конечно, в «акульку»: «уж такой, значит, фарт».
23 февраля.
Арестовали Вреде. Его арестовали в манеже, после учения, и на грузовике отвезли в «Ве-че-ка». Он не сопротивлялся. Федя просит меня оставаться дома. Довольно: мне надоел карантин. Ольга… Ольга чужая, но ведь чужая только потому, что своя. Вреде тоже был свой, – свой и чужой, конечно. В каждом из нас есть частица правды. Только частица, только ничтожная доля ее. Кто посмеет сказать, что познал ее целиком?
24 февраля.
Неужели начальник «Ве-че-ка» не будет убит? Федя клянется, что Вреде арестован случайно. Но случайно окружили меня, случай» но арестовали Вреде… «Революционный держите шаг, неугомонный не дремлет враг». Мы не дремлем. Не дремлют, разумеется, и они. Волк за тридцать верст чувствует человека. Так и они нас. Так и мы их. Я ощущаю опасность. Я угадываю, что она бродит вокруг. Егоров стал мрачен. Он вспоминает Синицына и жалеет, что в Москве нет костров. – «Но кого жечь, Егоров?»… – «Кого?.. Небось, знаешь сам…» Я не знаю. Ведь не Федя же? Не Иван же Лукич?
25 февраля.
Вреде расстрелян сегодня, на Лубянке, в подвале. Перед смертью он написал мне письмо. Письмо принес Федя.
«Я знаю, что скоро умру, но не жалею о жизни. Моя совесть чиста: я исполнил свой долг. Я послужил, как умел, России. Пусть я сделал немного, другие сделают больше. Верю в Россию, в ее славу, ее свободу, ее величие. Верю в русский народ, и за него умираю».
Счастливый Вреде. Хорошо умереть с не поколебленной верой в душе, с сознанием своей непререкаемой правоты. Хорошо в последний, в предсмертный час, заглянуть в свою совесть и помолиться: «Господи, я исполнил свой долг». Хорошо отдать жизнь «за друга своя»… Так умер и Назаренко.
26 февраля.
…Вот идут державным шагом —
Позади – голодный пес,
Впереди – с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди – Исус Христос.
– Жорж, ты помнишь эти стихи?
– Помню. Но ведь, по-твоему, Христос для детей…
– Да, для детей, а вот слушай. Мы начали с Брест-Литовска и кончили защитой России. Вы начали с наступления и кончили на чужих хлебах. Правда это?
– Да, правда.
– Слушай дальше. Мы начали с братанья на фронте и кончили победой везде. Вы начали с добровольцев и кончили на Лемносе. Правда это?
– Да, правда.
– Слушай еще. Мы начали с пулеметов и кончим свободой. Вы начали со свободы и кончили карикатурным царем. Правда это?
– Пусть правда…
– Так почему же ты против нас?
Она сидит строгая, с бледным лицом, в том же черном, без украшений платье. И смотрю на нее. Я ищу следов прежней Ольги. Вот любимые голубые глаза. Но и они как будто не те. Где их власть надо мною?.. Нет, опять не праздник, а будни… Я говорю тихо:
– А почему ты не с нами? Ведь вы давно отреклись от себя. Где ваш «Коммунистический Манифест»?.. Подумай. Вы обещали «мир хижинам и войну дворцам», н жжете хижины и пьянствуете в дворцах. Вы обещали братство, и одни просят милостыни «на гроб», а другие им подают. Вы обещали равенство, и одни унижаются перед королями, а другие терпеливо ждут порки. Вы обещали свободу, и одни приказывают, а другие повинуются, как рабы. Все, как прежде, как при царе. И нет никакой коммуны… Обман, и звонкие фразы, да поголовное воровство. Правда это? Скажи.
Она молчит. Она не смеет ответить.
– Скажи.
– Да, правда.
27 февраля.
Разве можно убедить Ольгу? А если можно, то я спрашиваю – зачем? Она плачет. Но я знаю: она плачет не о своих ошибках и даже не обо мне. Она плачет о нашей любви… Мы оба блуждаем в тумане. В нас нет невинности Феди, огня Егорова, чистоты Вреде, – того, что успокаивает сердца. Мы знаем, что виноваты. По-разному, но все-таки виноваты. Или не виноват, не может быть виноват никто. Все правы. Все – «прах земной» и все «пух»… Где всадник с мерой в руке?
28 февраля.
Между нами сказано все. Все ли, однако?