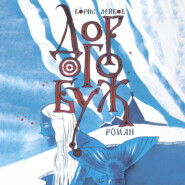По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мелкий принц
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Третье мое столкновение с эротической стороной мира взрослых приключилось у Сережи на дому. Черные кассеты, бережно расставленные на книжной полке в алфавитном порядке, были засмотрены до тошноты. Мы говорили цитатами из третьесортных лент, где справедливость и упорство брали верх над корыстью и бесчестием.
– Ну что, Борян, не отступать и не сдаваться?
– Не отступать и не сдаваться, Федь!
И мы лезли вверх на несчастный дворовой тополь. Нет! Мы его покоряли. Брали его ствол штурмом. Заламывали его руковетви.
«Новый фильм», – прислал записку Сережа.
И на перемене взволнованно рекламировал ленту: «Это будет что-то с чем-то». На кассете не было наклейки с названием, как на прочих. Мне был знаком мелкий каллиграфический почерк Сережиной мамы. «Кровавый спорт» – буквы кланялись до земли, и «Доспехи бога» строчкой ниже. Ее заглавное «Д» напоминало динамовское. Оно тоже имело парус, но более скромный, как будто записанный в штиль. Отсутствие названия и место хранения – сейф в шкафу с бронебойным паролем из четырех единиц – подтолкнули Сережу к выводу, что перед нами боевик невиданной жестокости, иначе зачем было прятать. Отчасти он был прав. Первые минут пять мы напряженно разглядывали экран. Серые полосы елозили по вертикали и приходилось вглядываться между этих строк. Говорили на китайском, группа мужчин. Было непривычно не слышать гундосый голос, который заодно и объяснил бы нам, что надпись на двери означает «туалет». Но туалета за дверью не было. Дверь вела на склад. Китайцы вошли внутрь, за ними следовала непривычно дерганая камера. В центр телеэкрана вывели женщину с завязанными глазами, а в руке одного из мужчин появился желтый предмет. Еще минуту мы смотрели как в ревущую женщину засовывали предмет, в котором я не сразу узнал початок кукурузы. В какой-то момент нам троим стало понятно, что эти люди не актеры. Ее обморок был более реалистичным, чем те, что я видел в советских производственных драмах. Боль и отчаянье были неподдельными. Сережа выдернул шнур, потушив телевизор, и мы какое-то недолгое время стояли молча, в растерянности, как будто убили кого-то и не знали, что теперь с этим знанием делать. Федор вышел, ничего не сказав. Я почему-то подумал, что он направился прямиком к себе проверить маму. Знать, он видел или слышал то, о чем нам не рассказывал. Мы и так не могли хвастать загаром, но таким белым я его еще не видел. Такое лицо бывает у полярника в буран. Белое с фиолетовым отливом, как у мешков под цветными глазами. Сережа был в ужасе и явно бы повернул ход времени, если б мог. А мне, пожалуй, было хуже всех. Я познакомился с неизвестными доселе муками совести.
– Муки совести? Очень приятно, Боря.
Жалость и сострадание к несчастной не уживались в одном теле с первой эрекцией, которая не позволяла стоять прямо, и я пятился к двери, давая Сереже отвлекающие советы, как вернуть кассету на место, вести себя естественно и ни при каких обстоятельствах не сознаваться ни в чем. Ни за что не сознавайтесь – учили старшие. И я долго потом не мог сознаться, что еще целый год после увиденного эпизода думал, что для чуда рождения требуется участие нескольких мужчин, одной женщины и початка кукурузы. Так, что ли, рождаются дети кукурузы? – гадал я. Мы смотрели этот ужастик с Федором. Брали в прокате, на улице Кравченко через дорогу. И, по правде сказать, он нас не напугал и не впечатлил. Не то что китайская документалка.
Каждое утро по дороге в школу мы проходили мимо гранитного постамента. Над нашими головами, спрятанными в шапки и капюшоны и перевязанными шарфами с кисточками, высился стальной венок из пшеницы, обмотанный замершей навеки лентой – «СССР оплот мира». Мой аквариумный мир, тесный, черно-белый, родной, развалился в три односложных предложения.
– Собирайтесь. Держите паспорта. Мы едем в Шереметьево.
– Союз развалили, – будут в моей будущей жизни на острове скрипеть старики, а мне будет казаться, что развалили мой личный союз, союз с Федором, сорок седьмой школой, мертвым дядей Витей и моей бывшей учительницей Полиной Васильевной, по которой я втайне скучал, хоть и вернулся во двор.
Я не знал, что прогулка под металлической громадиной была последней, в тот день. Это был вторник. Первый учебный день после новогодних каникул. Новый 93-й я встретил на Ордынке у бабушки и дедушки. Елка стояла в гостиной, увенчанная трубящими ангелами и голубыми гирляндами. Под ней в полночь я развернул свой подарок – аккордеон. Эту неожиданную вещь я бросил в России уже через какую-то неделю и впоследствии никогда ее больше не видел. Ели салаты. На сладкое бабушка достала два банана, один целый мне, и второй они с дедом поделили поровну. Позже, когда разошлись по спальням, я все не мог заснуть. Была вьюжная ночь. Мне было хорошо в их доме. В нем я чувствовал себя еще более маленьким, чем был в действительности. Возможно, из-за высоких потолков и эркерных окон. Половицы в старинной квартире стонали как раненый зверек, и я замирал после каждого шага и выжидал. Дойдя до цели, я взобрался на широкий подоконник, поджал колени и уселся в нише, прислонив висок к стеклу. С той стороны двойной рамы окно было исписано морозными узорами, а под окном намело невысокий сугроб, истоптанный птичьими трехпалыми следами. Окно спальни смотрело на безлюдную Полянку – ни души, только редкие машины, чьих тормозных фар красный свет преломлялся в узорчатом стекле, как в калейдоскопе. Было спокойно. Спокойствие пребывания среди своих и на своем месте.
Отец вскоре отвез нас в аэропорт. В первый учебный день я застал его дома неожиданно рано, в обеденное время.
– Собирайтесь. Держите паспорта. Мы едем в Шереметьево.
В ночь, которую я провел в старом доме на Большой Ордынке, убили маму Антона – мальчика из параллельного класса. Папиному другу, тоже бывшему инженеру, отцу Антона, позвонили в дверь. На звонок с голосом поющий птицы подошла жена папиного друга, мама Антона. Она отворила. Убедилась, что в коридоре никого. Сняла цепочку и распахнула металлическую бронированную дверь настежь.
– Хулиганили, – сказала она, обернувшись в сторону гостиной, из которой только что и вышла, в халате, с полотенцем на голове.
Следствие не разобралось, выдернула ли натянутая леска чеку, когда она только приоткрыла дверь, либо когда отворила ее настежь. Разорвавшаяся граната оторвала ей обе ноги, и умерла она в скорой, по дороге в Склиф, не приходя в сознание, от потери крови.
Антон вылетал с нами одним рейсом в сопровождении бабушки – высокой статной дамы Милицы Иосифовны. И ей, и ему папа Антона солгал. Они еще долго думали, что их мама и невестка жива и однажды, скоро, обязательно поправится.
Смерть эта, я слушал у двери, была связана с мебельным магазином наших пап. А я и не знал про него. Мебель! Ну надо же! И выходило так, что с мебелью отцам придется остаться, а нам, совсем ненадолго, повезет пожить на Кипре. Пока мебельная буря не уляжется. Мне дали десять минут попрощаться с Федором. Из подъезда выходить было нельзя – это я зарубил на носу, благо он был уже огромным, опередив остального меня в росте. Я собрал самое ценное – книгу с картинкой Бекки Тэтчер, щучий череп, добытый летом на Оке, и фотоаппарат-полароид, подаренный всеми родственниками вместе на прошлый день рождения. Федора дома не оказалось. Мы выехали из двора на Пилюгина, на первом светофоре повернули на Ленинский, я в последний раз увидел постамент и школу с четырьмя белыми колоннами и высокой дверью. Мы уезжали не насовсем. Мама вцепилась в мою руку и смотрела перед собой. Отец проверял документы и считал деньги. Вез нас отцов усатый друг в зеленом мохеровом свитере. Мы уезжали ненадолго, хотя остались на два года. Ни в наш дом, ни в свою школу я больше не вернусь. Если б я знал это тогда, сидя на заднем сиденье «Волги», гладя мамины холодные руки, я бы разревелся. А так, с мыслью про ненадолго, я просто зажмурил глаза, чтобы притормозить набег слез. Открыл я их только где-то в центре, на Садовом, и спросил, где мы.
– На Смоленке, – сказал отец.
Люди на тротуаре придерживали высокие шапки и поворачивались спиной к ветру. Мело. И город был белым. И зима была русской. И был вторник.
II
Средиземноморье
Как не полюбить чужую природу? Не принять ее красоту? Рассветную сталь большой воды? Ее переменчивость? Ветер, сдувающий пену с волны, что мужик белую шляпку с пивной кружки? И внезапную морскую паузу. Побушевало и стихло, как ночной кашель. Анемичные паруса безропотно повисли, и полетел с высоты редкий дождь. И все это они зовут зимой, Федор! А ночью вдруг проснется сквозь вату тумана зловещая бледнолицая луна и щерится на берег.
Нет! На брег!
Развиднеется. Блеснет серебряной лужицей широкий пальмовый лист, как погон звездочкой. Тревожно присвистнет попугай и вожмет голову, съежится, поводит по крылу горбатым клювом. Несговорчивый буй не покорится волнению моря и будет барахтаться вопреки обступившей его вероятной смерти.
В такой манере я мысленно отвечал на письма Федора. В первые месяцы они приходили регулярно. Затем, к лету, их частота поредела, как и мои высокопарные ответы, которые улетучивались при первом взгляде на чистый лист. Федор писал, как Леша Левченко сломал ногу, пробив берцовой костью штангу, и как он корчился на нашей коробке за домом. Писал, как въебал моему неприятелю Артему Бобырю по старой памяти. Была еще новость – Кирюша Романов, как оказалось, был пидором не только по жизни, но и в натуре, и я спросил тогда маму про пидоров в натуре – ну кто они?
– Это как Валерий Леонтьев или как Фредди Меркьюри, – объяснила мама. – Женственные.
Ни тот ни другой женственными не были. Дело было не в этом. Я уже вошел в возраст недоверия к взрослым и допускал, что мама не лукавит, а просто сама в пидорах не сильна.
Федору я отвечал односложно – на дворе тепло, русские в их февраль плавают, я окружен фруктами и скучаю. Разноцветных плодов я и правда раньше не видел в таком изобилии. На балконе нашей однокомнатной квартиры помещался белый пластмассовый столик, на нем – глубокая салатница, и в ней связка бананов, как на голове все того же Фредди Меркьюри в том клипе, где он «гоинг слайтли мэд».
Последнее письмо с «Ленинским пр. д. 99, к. 4» на обратной стороне конверта пришло в мае, когда распустились акации. Воздух с самого рассвета стоял душистый, а липкое тело само неслось к набережной, голову не спросив. Федор вырос, понял я, дочитав вырванный из тетради по русскому листок с косыми вертикальными полосами. Он сообщил, что уже дважды сосался с Таней Вончуговой, и что она теперь его баба, и что его мама, красивая молдаванка, тетя Катя, разрешила взять Таню с собой на дачу на лето, и там, на даче, у них, у Федора и Тани, случится секс, о чем он, Федор, мне обязательно напишет. Больше он не писал. А я не спросил его про Таню, когда мы увиделись два года спустя. Я сложил исписанную бумажку в простой кораблик, без трубы, и щелкнул по его хлипкой корме указательным пальцем. Тот упал с пирса в Средиземное море, размяк и исчез, закруженный волной. Была весна девяносто пятого, мне было тринадцать, я болтал, свесившись с края скрипучего пирса, ногами и грустил о том, что детство кончилось, а мне уже наверняка не даст ни Вончугова, ни любая другая. По перилам шлялась легкомысленная чайка и заглядывала мне в глаза, вытянув и искривив шею. Из приемника загорающих неслись песни «Агаты Кристи», прерываемые изредка всплеском на волнорезах. «Агата Кристи» тогда подвывала из многих проржавевших машин. В них не было кондиционеров, как в машинах греков-островитян, и окна были спущены. Других машин в русском квартале не было, вот и приходилось слушать всякое, если вдруг не повезло, и батарейки в плеере сели, и Дэвид Боуи смолк, предварительно пропев чужим баритоном медленный куплет и зажевав песню.
Из ребят нового двора я один ходил в школу. Мы могли бы жить с мамой в лучшем районе и в большей квартире, а может быть даже и в маленьком доме в горах, но больше половины присылаемых из Москвы денег забирала английская школа. Прочие матери так не заморачивались. Тогда многие пересиживали свои мебельные войны и относились к новой среде обитания как к профилакторию, откуда обязательно выпустят, как только выздоровеет родная страна.
В ателье пожилой карикатурный англичанин с карандашом за ухом и измерительной лентой на шее сшил мне костюм. В школу полагалось ходить в серой тройке. Добавились блестящие широконосые туфли, и общая стоимость моей формы превысила помесячную арендную плату за квартиру. В ту ночь я видел, как мама плакала на балконе и курила. Сигарета дрожала в ее тонких пальцах. Когда я проснулся, она спала рядом. В первые месяцы мы еще не обзавелись диваном и спали в одной кровати, что было непривычным, как и отсутствие собственной комнаты с собственным окном на кооперативные гаражи и пустующую второй год голубятню.
В новой школе друзей я не завел, впрочем как и врагов. Ко второму уроку я стал подозревать, что с Полиной Васильевной мы говорили на каком-то другом английском, понятном ей, мне и царствующей королеве Елизавете. Одноклассников я не понимал. У их слов не было окончаний, особенно у лондонцев, и говорили они заметно быстрей, чем Полина Васильевна и я. Думаю, что к пяти часам домой на чай они не неслись и в коверкотовых кепках по вересковым пустошам не прогуливались. Учитель – колониалист, отставной военный, шотландец с розовым загаром, определил мне место в первом ряду. Поговорив со мной на перемене, он оценил мой уровень языка как «немой» и усадил, будто я глухой. Говорил он громко, как Зевс на олимпийской планерке, и, глядя на меня, повторял сказанное.
– Ты понял, Борис?
И тонкие окна подрагивали от вибраций в воздухе. В первый же день в мой бритый по уставу затылок полетели слюнявые бумажки. Старая забава периода моего деда, как мне казалось. В нашей 47-й такой херней не занимались. Особенно усердствовал рыжий мальчик с пэтэушно-отсутствующим выражением, дегенеративной, выдающейся вперед нижней челюстью и созвездием крупных веснушек на вздернутом носу. Его безыдейно звали Джон, приехал он из Нью-Касла и был в этом питомнике главным приматом. Жеваные комочки летели мне в шею пулеметной очередью. Я обернулся, а он скорчил озадаченность, поднял руку и позвал учителя. «Новенький меня отвлекает!» – пожаловался он, а мне сделали замечание.
На перемене дети разбивались по половому признаку. Девочки убегали на школьный двор к фонтану. Мальчики рассаживались на межэтажных ступенях – единственное место в тени. Я подошел к одноклассникам и окликнул Джона.
– Чего? – он подскочил и подошел вплотную. С ним поднялись трое.
– Ничего, – ответил я и сделал вид, что собираюсь уйти. Группа поддержки расслабилась, развеселилась и двое даже успели сесть обратно на прохладные плиты, когда я развернулся и коротким загаражным ударом в кадык отправил северо-английского задиру в глубокий, но непродолжительный сон. Задира… бабушкино словечко. Так уже прилюдно не скажешь – засмеют. Помню, как-то родителей, еще в Москве, вызвали в школу. Я подрался, вернее был побит, но с представителей поверженной стороны тоже спрашивали. Ни отец, ни мать с работы отпроситься не смогли, и с Большой Ордынки в наше залесье командировали бабушку.
– Тебе придется тоже извиниться и помириться, – сказала она при директоре.
Я потупился и молчал. Шла одна из тех тяжеловесных минут, которые, казалось, не имеют конца, как мальчик в средневековом церковном хоре.
– Тогда я извинюсь за него.
Уже на Ленинском бабушка тряхнула меня за плечи и разочарованно проговорила:
– А я не догадывалась, что ты драчун…
Я побелел и до подъезда молчал. И оттаял, только когда сообразил, что существительное «драчун» производное от глагола «драться». Задира…
– Он задирал меня, мам, – оправдывался я на следующий день.
Естественно, маму вызвали. Она сидела против меня и молчала, отвернувшись в сторону. На собрании мне пришлось переводить ей, что говорили учитель, директор и мама Джона, такая же рыжая, с тем же отсутствием последовательной мысли в глазах, с толстыми розовыми руками, сдавленными узким коротким рукавом рубашки. Рука эта рубила воздух, демонстрируя, как я едва не сгубил Джона. Если б Джон был кем-то значимым и я взаправду убил бы его, то какие-нибудь мудаки однажды б сняли документалку про него с блевотным названием «Прерванный полет» или что-то вроде того. Мама бы его сотворила что-нибудь немыслимо пошлое. Например, сожгла бы лист бумаги и, глядя на язычок, пожирающий край, сказала бы с придыханием: «Вот так и вся моя жизнь», – а зрители этой тошноты обжимали бы подушки перед экранами, всхлипывали и желали мне казней.
Пиздеж в учительской, казалось, не заглохнет вовеки, и я все меньше вслушивался и все больше представлял передачу, которую уже назвал «поминки по Джону». Мой перевод происшествия редактировался и цензурировался на лету, и маме я объяснил, что ничего такого страшного не произошло, и что я отвесил мальчику «леща», и что в обморок он вошел из-за духоты и неожиданности. Мама не поверила. Она ушла домой, со мной не попрощавшись, а ночью плакала на балконе. В субботу мы звонили в Москву из уличного автомата по карточке стоимостью пять фунтов. Мы звонили раз в неделю, потому что пять фунтов были большими деньгами. Я не отошел, как мне велели, а затерялся вблизи, прислонившись к кабинке с обратной стороны, и подслушал, как она жалуется отцу: «Я с ним не справляюсь». В классе я стал невидимым. Меня обходили, сторонились, чурались, но больше ни одного жеванного шарика в мою голову не прилетало.
Мама, чтобы объяснить себе наше пребывание на острове, занялась моим английским «как следует», сама предметом не владея. Ей не нравились мои друзья во дворе, и она хотела, чтобы я сдружился с одноклассниками. Я на сближение с иностранцами не шел, и бедную свою маму обманывал как маленькую. В книжном на Макариос Авеню мама купила «Войну и мир» на английском, втиснутую в один том, как если б Раневскую затянули в Золушкино платье. Она просчиталась. Да, Толстого я еще не читал, но я смотрел фильм. Как она не подумала об этом? Я плелся с книгой на балкон и усаживался на чемодан, набитый бесполезной теплой одеждой, хранившийся подле столика и служивший лавочкой. Раз в две-три минуты я перелистывал страницу, дешевую и тонкую, какие обнаруживаются в гостиничных библиях, а сам, уперевшись ладонью в щеку, косился на море. Так с час я разглядывал пирс, чаек, силуэты большегрузов на горизонте и белые чесночины парусников. Смотреть не надоедало. Картина не была статичной, и я отвлекался от тоски по дому, от тревоги завтрашнего дня и вынужденного пребывания в чужом классе – моим он так и не стал. Дочитав до отмеренной мамой страницы, я шел в комнату, пересказывая ей то, что только что прочел. Мне удалось растянуть киноэпопею на год. После она одобрительно кивала, что значило «теперь можешь идти», и я сбегал по лестнице наперегонки с пустым лифтом, чтобы побыть собой всего несколько часов в русском дворе.
Русским двором заправлял семнадцатилетний Илья, сбежавший от второго уголовного преследования в Израиле. Год он уже отсидел – это знали все и никто в том не сомневался. Несомненным доказательством была голубая татуировка орла чуть выше сердца, под левой ключицей. Изначально Илья был москвичом и до своих тринадцати жил на Соколе. Он был атлетического сложения, но более сухой, чем ребята из качалки. Ходил он в синих джинсах и белых резиновых шлепанцах. Торс оставался голым даже в дождь. А майка на всякий случай была заправлена за ремень. Но случай, вынудивший ее надеть, так и не представился. Футболка скрыла бы от нас, впечатлительных, наколку, толстую золотую цепь якорного плетения и шестиконечную звезду того же металла. Мое происхождение (москвичей во дворе было немного) сблизило меня с главнокомандующим. Илья угощал сигаретами, пару раз угостил портвейном, а однажды разоткровенничался со мной как с равным и пожаловался на свою женщину, которую он любил, а та в ответ не кончала.