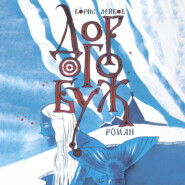По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дорогобуж
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дорогобуж
Борис Лейбов
«Дорогобуж» Бориса Бориса Лейбова заставляет вспомнить историческое фэнтези Алексея Иванова и антиутопии Владимира Сорокина, он жестко бескомпромиссен, как проза Алексея Сальникова, и загадочен, как романы Александра Иличевского.
Небольшой смоленский город Дорогобуж неожиданно становится точкой схождения эпох: жестокий смоленский князь с эскадроном летучих гусар идет войной на Московию; русалки охотно разговаривают с людьми и перемещаются из прошлого в будущее; клад со старинными монетами спрятан в доме, находящемся посреди революционной смуты; русские братки едут в Крым, чтобы потом оказаться в Великобритании. В романе есть все, что должно быть в хорошей современной прозе: метафорический реализм, невероятное сочетание несочетаемого, драйв и саспенс, и еще что-то неуловимое, но всегда ощущаемое на самом тонком уровне.
Борис Лейбов
Дорогобуж
Фото автора Лии Гельдман
© Борис Лейбов, текст, 2022
© ООО «Издательство «Лайвбук», оформление, 2022
Часть I
Дорогобуж
1
Снег лежал по всей земле. Из последней сотни смоленских дворов на зимовку осталось не больше десятка. В тех домах, где еще был мужик, топили печи. В основном углем, разобранными ступенями и перилами опустевших крылец. Старик занавесил окно, и голый свет отступил.
– Так вот, Сережка, жить без деревьев-то.
Сережа многое не понимал. Не знал, что такое деревья и почему без них яркое солнце светит как в пустыне. Но он был не глуп. Не хуже других ребятишек. Молчаливый, лишнего не говорил и относился к своему языку как к ноге, которой нужно пользоваться по необходимости. А ноги у Сережи были очень ловкие. Не просто так его с малолетства прозвали Сороконожкой. Ногами мальчик мог и тарелку деду подать. Извернется весь, зажмет блюдце меж пальцев и деду в руки. И соль так же, и ложку. А вот рук не было. Гладкие розовые плечи плавно переходили в туловище. Про руки как будто забыл Бог и не приделал. Да еще и мать Сережину забрал, так как родился он более семи килограммов весом. Хорошо, что у Сороконожки такой дедушка был. Все двенадцать Сережкиных лет они жили вдвоем, и дед учил его справляться с жизнью так, чтобы не страшно было Сережку одного оставлять на свете.
– Эх, видел бы ты, как у нас в Дорогобуже вишня цвела в мае!
Дед закрыл глаза, видимо, переживая зрелище вновь. Лет ему было за сто. Точно уже никто не знал – ни сам дед, ни соседи.
– Это как салют, только днем. Да еще и неисчезающий. И фруктами пахнет.
Сережа очень любил дедовы истории. В них все было на жизнь не похоже, и мальчик был уверен, что все это вымысел. Одинокие предложения обычно перерастали в рассказ, но не всегда. Сережка подтянул к лежанке стул и присел в ожидании сказки.
– Сынок, дай-ка мне вот ту железную спиральку.
Дед указал на столик, стоящий под Троеручницей. Он был завален разными вещами, название которых и предназначение уже никто не знал. Сороконожка перекатился до столика и обратно и подал деду вещицу, из которой с одной стороны торчала кисточка, похожая на сорочий хвост, а с другой – вьющаяся заточенная спираль. Старик вытащил из-под жилетки деревянного птенца, почесал кисточкой свой здоровенный нос, нависший над белыми усами, и принялся ковыряться иглой в птичьем заде. Заулыбался Сережа: «Это он мне свистульку будет делать». А это значило, что истории быть.
– Чего рот разинул? – улыбался старик. У него с утра была ломота, общая, от пальцев ног и до верхних зубов, хотя в комнате было натоплено. А ежели не мороз, то только смерть могла так потягивать суставы – как рыбак сети. Дед был в настроении поболтать. Ему самому хотелось повспоминать – так, глядишь, и забудется неприглядная вечность. Пустая и холодная, как все то, что лежало за их окнами.
– Большой ты, Сережка. Не страшно за тебя уже,?– старик не отрывался от игрушки.?– Одного боюсь, что рот тебе некому будет покрестить, когда зевнешь.
Сороконожка молчал. Умное и красивое русское лицо. Глаза зеленые. Ресницы огромные, как крылья траурницы.
– Хотя вот изловчился же все ногами делать. И лучину зажечь, и щи посолить. Может, и зевать носом научишься? Тогда и бес не страшен!
Старик рассмеялся. Он уже знал, кого сейчас будет воскрешать в памяти. Сережа заулыбался и потянулся к деду. Положил голову на дедовы ноги, на его сапоги, и сосредоточился.
– Ну что, опять про князя? – дед подул в просверленное отверстие, и облачко древесной пыли повисло над ними. В голубых лучах, пробивавшихся снаружи, оно кружилось медленно и просто. А затем пощекотало лицо мальчика так, что ему пришлось вертеть головой и тереться ушами о дедову штанину.
– В мае у нас цвели вишни как нигде. Из Смоленска люди ходили, по двадцать часов шли, чтоб посмотреть на них. Лето начиналось так. Это когда жить хорошо было, Сережка, и ходить можно было босиком. Идешь по дороге, она чистая, не пыльная. По оврагам жимолость, купальница, медуница… Хотя что тебе медуница? Ты и вишни-то не видел, сынок.
Старик перевел взгляд со свистульки на открытый рот мальчишки. Тот, казалось, забывал дышать.
– А дома какие были! – деду было приятно выговориться.?– Не то что сейчас. Сруб этот поганый. Дома все белые, каменные. И все в мире имело порядок и смысл. Рабочий ты человек – один этаж тебе можно. Ремесленники, военные, басманники – всех видно. Земли давали поровну. Еще когда высоченных уродов взрывали, всем приписным к земле выдавали десятину, и огороды можно было держать. Вот так вот! Между огородами ровные тропинки. И в каждом дворе по обязательной вишне. С моста красиво было. Стоишь высоко, под тобой Днепр, а по обе руки – белый город. Были и редкие дома в два этажа, литовцев и стражей. И всего один дом в три, пристроенный к Борису и Глебу. Дом княжича. Его лица мы не видели, как и лица самого князя. Он с отрочества в серебряном капюшоне ходил, а отец в золотом. Ну, про князя потом. А сейчас про девочку расскажу. Уж в сотый раз, наверное.
Была она нашей соседкой. Лет ей было побольше моего, но ненамного. Отец ее служил на стене в Гжатске, а мать умерла – или не умерла, но не было у нее матери. Звали ее Ксенька, и любил ее весь город, а не любить было невозможно. Кожа прозрачная, волосы словно седые от рождения, а брови и ресницы – такие же. Худенькая, как камышонок. И улыбка у нее такая, даже не знаю, как передать.
И дед улыбнулся во весь свой сгнивший рот, да так, что Сережка захохотал на всю комнату.
– Ну да. Ей не сто было, а шестнадцать. Ну да бог с ней, с улыбкой. В общем, была она такой, что мужам хорошо становилось, да так, что хотелось петь, плакать и молиться. Вызывала она в людях любовь, Сережа, хорошую любовь, никто и подумать не мог о том, чтоб обидеть ее или учинить чего дурного. Голос у нее был еще такой, детский, а речь взрослая, выразительная. Особенно когда она говорила «ша» или «жа». «Пошли купаться. Гастижа поднялась»,?– говорила она мне, и от этого «Гас-ти-жа» я был готов обнять ее за ноги и не пускать до тех пор, пока она бы вишней не обернулась, а я корнем ее, ну или старым пнем, как сейчас. Помню, позвала она меня со своего огорода: «Пошли на мост. Воскрешенье сегодня!» И пускай на мосту было весело, и пускай можно было надеть черные штаны и белую рубашку, все это мне было неинтересно. Я любил сидеть дома и даже в святой день готов был помогать отцу за занавешенными окнами работать с деревом. Стулья больше прочей мебели любил. Тем более кресла. Их покупали в двухэтажные дома. Как приятно гладить покрытые лаком подлокотники! Гладил бы и гладил, и перешкуривал бы до бивня. Но раз Ксенька звала, готов я был бросить все и влачиться за ней, вот как ты вот, рот разинув и слюни пустив.
Сережа заулыбался и потерся лбом о дедово колено. Так он показывал старику, что любил его, а старик это знал и тихонько радовался тому, хотя виду не подавал, ведь старости положено быть хмурой и ворчливой.
– Идем мы от наших домов в центр. Я в брюках черных и в ботинках, как водится. Она в платье, в белом. Вроде бы и в землю смотрю, а сам на ее ступни поглядываю. Все в ней было правильно. Все пальцы аккуратные. Ни одного плохого ногтя. Ни одного вросшего. Она идет, поет что-то и приплясывает, и искренне так, и весело, будто не человек она совсем, а само лето. Шли мы вдоль титановой полосы. Удобно было, она, как ни крути, всегда к центру, к площади выводит и к мосту. Но ступать на нее нельзя, могло убить светом. Над этой дорожкой стражниковы автобусы летали с князевыми людьми. Людям-то давно кроме лошадей и ног ничего не полагалось. А им быстрее надо было добираться, успевать всюду. Тогда мы, Сереж, все за чистый воздух боролись. Даже их катафалки черные газы не выдавали, а чуть слышно шуршали над металлической лентой.
В избу постучали, и Сережа вздрогнул, будто его резко разбудили. Не успели они ответить, как дверь открылась, и в комнату вошла женщина в драном тулупе. Бросила на пол три замороженных полена, с довоенными клеймами.
– От Красного креста. Каждому двору полагается,?– безучастно сказала она.
Старик посмотрел на окоченевшие, тощие до боли брусочки.
– Вроде по пять на двор полагается? – сказал он.
– Полагается,?– повторила женщина и вышла вон, зло захлопнув дверь.
– Ничего не меняется, Сереж,?– сказал дед и стал дальше выковыривать дерево из игрушки.?– Я не сразу понял, чего это Ксенька веселая такая и чего выплясывает все. Потом его только заметил. Он шел по другую сторону улицы. Черный весь такой, носатый, точно европеец. Не дорогобужец, пришлый. Но держался так, будто всю жизнь тут прожил, да еще и в двухэтажной палате. Уверенная такая улыбка, даже ухмылка. Нехорошо он как-то на Ксеньку смотрел, а ей, видно, нравился тот взгляд. Но уже на площади я его потерял. Людей много было. Со всеми надо было поздороваться, пожелать здоровья, победы и поцеловаться. А все еще и с детьми. В общем, галдела площадь. И так мы шли к мосту толпой, а я все за ее ножками следил, чтобы не затерялись среди тысячи других.
На мосту уже тоже было немало народу. По центру, как всегда, стояла трибуна, и судья уже что-то громко рассказывал. Мы подошли ближе, уперлись в спины, и тут я Ксеньку и потерял.
«Тихо!» – крикнул судья. «Тихо!» – крикнули стражи, и в одно мгновенье повисла такая тишина, что под толпою слышно стало Днепр, а над толпою – насекомых.
«Читаю дальше. Внемли»,?– прогремели судейские слова над головами. И он стал читать. Я слово в слово не припомню, но суть была такая…
Роуз накрыла голову одеялом и повела языком по коже спящей жены – от груди к паху. Она не успела коснуться волос, как Хелен резко одернула ее:
– Что? Я просто хотела поцеловать…
– Господи, Роуз, мне вставать через пару часов.
Хелен отвернулась и притворилась спящей.
За сколоченной трибуной сидел судья. Сидел в нашем с отцом кресле. По правую руку стояла женщина, не в платье, как все, а в каких-то лохмотьях, как в мешке, с прорезью для головы. Стояла поникшая, и по тому, как тряслись плечи, видно было, что плакала.
Судья захлопнул книгу и, не вставая, бросил ее через плечо в реку. В общей тишине все услышали, как она ушла под воду.
– Пускай люди решают,?– безучастно сказал судья.?– Что, люди? Палочку для Насти или прощенье в Божий день?
Борис Лейбов
«Дорогобуж» Бориса Бориса Лейбова заставляет вспомнить историческое фэнтези Алексея Иванова и антиутопии Владимира Сорокина, он жестко бескомпромиссен, как проза Алексея Сальникова, и загадочен, как романы Александра Иличевского.
Небольшой смоленский город Дорогобуж неожиданно становится точкой схождения эпох: жестокий смоленский князь с эскадроном летучих гусар идет войной на Московию; русалки охотно разговаривают с людьми и перемещаются из прошлого в будущее; клад со старинными монетами спрятан в доме, находящемся посреди революционной смуты; русские братки едут в Крым, чтобы потом оказаться в Великобритании. В романе есть все, что должно быть в хорошей современной прозе: метафорический реализм, невероятное сочетание несочетаемого, драйв и саспенс, и еще что-то неуловимое, но всегда ощущаемое на самом тонком уровне.
Борис Лейбов
Дорогобуж
Фото автора Лии Гельдман
© Борис Лейбов, текст, 2022
© ООО «Издательство «Лайвбук», оформление, 2022
Часть I
Дорогобуж
1
Снег лежал по всей земле. Из последней сотни смоленских дворов на зимовку осталось не больше десятка. В тех домах, где еще был мужик, топили печи. В основном углем, разобранными ступенями и перилами опустевших крылец. Старик занавесил окно, и голый свет отступил.
– Так вот, Сережка, жить без деревьев-то.
Сережа многое не понимал. Не знал, что такое деревья и почему без них яркое солнце светит как в пустыне. Но он был не глуп. Не хуже других ребятишек. Молчаливый, лишнего не говорил и относился к своему языку как к ноге, которой нужно пользоваться по необходимости. А ноги у Сережи были очень ловкие. Не просто так его с малолетства прозвали Сороконожкой. Ногами мальчик мог и тарелку деду подать. Извернется весь, зажмет блюдце меж пальцев и деду в руки. И соль так же, и ложку. А вот рук не было. Гладкие розовые плечи плавно переходили в туловище. Про руки как будто забыл Бог и не приделал. Да еще и мать Сережину забрал, так как родился он более семи килограммов весом. Хорошо, что у Сороконожки такой дедушка был. Все двенадцать Сережкиных лет они жили вдвоем, и дед учил его справляться с жизнью так, чтобы не страшно было Сережку одного оставлять на свете.
– Эх, видел бы ты, как у нас в Дорогобуже вишня цвела в мае!
Дед закрыл глаза, видимо, переживая зрелище вновь. Лет ему было за сто. Точно уже никто не знал – ни сам дед, ни соседи.
– Это как салют, только днем. Да еще и неисчезающий. И фруктами пахнет.
Сережа очень любил дедовы истории. В них все было на жизнь не похоже, и мальчик был уверен, что все это вымысел. Одинокие предложения обычно перерастали в рассказ, но не всегда. Сережка подтянул к лежанке стул и присел в ожидании сказки.
– Сынок, дай-ка мне вот ту железную спиральку.
Дед указал на столик, стоящий под Троеручницей. Он был завален разными вещами, название которых и предназначение уже никто не знал. Сороконожка перекатился до столика и обратно и подал деду вещицу, из которой с одной стороны торчала кисточка, похожая на сорочий хвост, а с другой – вьющаяся заточенная спираль. Старик вытащил из-под жилетки деревянного птенца, почесал кисточкой свой здоровенный нос, нависший над белыми усами, и принялся ковыряться иглой в птичьем заде. Заулыбался Сережа: «Это он мне свистульку будет делать». А это значило, что истории быть.
– Чего рот разинул? – улыбался старик. У него с утра была ломота, общая, от пальцев ног и до верхних зубов, хотя в комнате было натоплено. А ежели не мороз, то только смерть могла так потягивать суставы – как рыбак сети. Дед был в настроении поболтать. Ему самому хотелось повспоминать – так, глядишь, и забудется неприглядная вечность. Пустая и холодная, как все то, что лежало за их окнами.
– Большой ты, Сережка. Не страшно за тебя уже,?– старик не отрывался от игрушки.?– Одного боюсь, что рот тебе некому будет покрестить, когда зевнешь.
Сороконожка молчал. Умное и красивое русское лицо. Глаза зеленые. Ресницы огромные, как крылья траурницы.
– Хотя вот изловчился же все ногами делать. И лучину зажечь, и щи посолить. Может, и зевать носом научишься? Тогда и бес не страшен!
Старик рассмеялся. Он уже знал, кого сейчас будет воскрешать в памяти. Сережа заулыбался и потянулся к деду. Положил голову на дедовы ноги, на его сапоги, и сосредоточился.
– Ну что, опять про князя? – дед подул в просверленное отверстие, и облачко древесной пыли повисло над ними. В голубых лучах, пробивавшихся снаружи, оно кружилось медленно и просто. А затем пощекотало лицо мальчика так, что ему пришлось вертеть головой и тереться ушами о дедову штанину.
– В мае у нас цвели вишни как нигде. Из Смоленска люди ходили, по двадцать часов шли, чтоб посмотреть на них. Лето начиналось так. Это когда жить хорошо было, Сережка, и ходить можно было босиком. Идешь по дороге, она чистая, не пыльная. По оврагам жимолость, купальница, медуница… Хотя что тебе медуница? Ты и вишни-то не видел, сынок.
Старик перевел взгляд со свистульки на открытый рот мальчишки. Тот, казалось, забывал дышать.
– А дома какие были! – деду было приятно выговориться.?– Не то что сейчас. Сруб этот поганый. Дома все белые, каменные. И все в мире имело порядок и смысл. Рабочий ты человек – один этаж тебе можно. Ремесленники, военные, басманники – всех видно. Земли давали поровну. Еще когда высоченных уродов взрывали, всем приписным к земле выдавали десятину, и огороды можно было держать. Вот так вот! Между огородами ровные тропинки. И в каждом дворе по обязательной вишне. С моста красиво было. Стоишь высоко, под тобой Днепр, а по обе руки – белый город. Были и редкие дома в два этажа, литовцев и стражей. И всего один дом в три, пристроенный к Борису и Глебу. Дом княжича. Его лица мы не видели, как и лица самого князя. Он с отрочества в серебряном капюшоне ходил, а отец в золотом. Ну, про князя потом. А сейчас про девочку расскажу. Уж в сотый раз, наверное.
Была она нашей соседкой. Лет ей было побольше моего, но ненамного. Отец ее служил на стене в Гжатске, а мать умерла – или не умерла, но не было у нее матери. Звали ее Ксенька, и любил ее весь город, а не любить было невозможно. Кожа прозрачная, волосы словно седые от рождения, а брови и ресницы – такие же. Худенькая, как камышонок. И улыбка у нее такая, даже не знаю, как передать.
И дед улыбнулся во весь свой сгнивший рот, да так, что Сережка захохотал на всю комнату.
– Ну да. Ей не сто было, а шестнадцать. Ну да бог с ней, с улыбкой. В общем, была она такой, что мужам хорошо становилось, да так, что хотелось петь, плакать и молиться. Вызывала она в людях любовь, Сережа, хорошую любовь, никто и подумать не мог о том, чтоб обидеть ее или учинить чего дурного. Голос у нее был еще такой, детский, а речь взрослая, выразительная. Особенно когда она говорила «ша» или «жа». «Пошли купаться. Гастижа поднялась»,?– говорила она мне, и от этого «Гас-ти-жа» я был готов обнять ее за ноги и не пускать до тех пор, пока она бы вишней не обернулась, а я корнем ее, ну или старым пнем, как сейчас. Помню, позвала она меня со своего огорода: «Пошли на мост. Воскрешенье сегодня!» И пускай на мосту было весело, и пускай можно было надеть черные штаны и белую рубашку, все это мне было неинтересно. Я любил сидеть дома и даже в святой день готов был помогать отцу за занавешенными окнами работать с деревом. Стулья больше прочей мебели любил. Тем более кресла. Их покупали в двухэтажные дома. Как приятно гладить покрытые лаком подлокотники! Гладил бы и гладил, и перешкуривал бы до бивня. Но раз Ксенька звала, готов я был бросить все и влачиться за ней, вот как ты вот, рот разинув и слюни пустив.
Сережа заулыбался и потерся лбом о дедово колено. Так он показывал старику, что любил его, а старик это знал и тихонько радовался тому, хотя виду не подавал, ведь старости положено быть хмурой и ворчливой.
– Идем мы от наших домов в центр. Я в брюках черных и в ботинках, как водится. Она в платье, в белом. Вроде бы и в землю смотрю, а сам на ее ступни поглядываю. Все в ней было правильно. Все пальцы аккуратные. Ни одного плохого ногтя. Ни одного вросшего. Она идет, поет что-то и приплясывает, и искренне так, и весело, будто не человек она совсем, а само лето. Шли мы вдоль титановой полосы. Удобно было, она, как ни крути, всегда к центру, к площади выводит и к мосту. Но ступать на нее нельзя, могло убить светом. Над этой дорожкой стражниковы автобусы летали с князевыми людьми. Людям-то давно кроме лошадей и ног ничего не полагалось. А им быстрее надо было добираться, успевать всюду. Тогда мы, Сереж, все за чистый воздух боролись. Даже их катафалки черные газы не выдавали, а чуть слышно шуршали над металлической лентой.
В избу постучали, и Сережа вздрогнул, будто его резко разбудили. Не успели они ответить, как дверь открылась, и в комнату вошла женщина в драном тулупе. Бросила на пол три замороженных полена, с довоенными клеймами.
– От Красного креста. Каждому двору полагается,?– безучастно сказала она.
Старик посмотрел на окоченевшие, тощие до боли брусочки.
– Вроде по пять на двор полагается? – сказал он.
– Полагается,?– повторила женщина и вышла вон, зло захлопнув дверь.
– Ничего не меняется, Сереж,?– сказал дед и стал дальше выковыривать дерево из игрушки.?– Я не сразу понял, чего это Ксенька веселая такая и чего выплясывает все. Потом его только заметил. Он шел по другую сторону улицы. Черный весь такой, носатый, точно европеец. Не дорогобужец, пришлый. Но держался так, будто всю жизнь тут прожил, да еще и в двухэтажной палате. Уверенная такая улыбка, даже ухмылка. Нехорошо он как-то на Ксеньку смотрел, а ей, видно, нравился тот взгляд. Но уже на площади я его потерял. Людей много было. Со всеми надо было поздороваться, пожелать здоровья, победы и поцеловаться. А все еще и с детьми. В общем, галдела площадь. И так мы шли к мосту толпой, а я все за ее ножками следил, чтобы не затерялись среди тысячи других.
На мосту уже тоже было немало народу. По центру, как всегда, стояла трибуна, и судья уже что-то громко рассказывал. Мы подошли ближе, уперлись в спины, и тут я Ксеньку и потерял.
«Тихо!» – крикнул судья. «Тихо!» – крикнули стражи, и в одно мгновенье повисла такая тишина, что под толпою слышно стало Днепр, а над толпою – насекомых.
«Читаю дальше. Внемли»,?– прогремели судейские слова над головами. И он стал читать. Я слово в слово не припомню, но суть была такая…
Роуз накрыла голову одеялом и повела языком по коже спящей жены – от груди к паху. Она не успела коснуться волос, как Хелен резко одернула ее:
– Что? Я просто хотела поцеловать…
– Господи, Роуз, мне вставать через пару часов.
Хелен отвернулась и притворилась спящей.
За сколоченной трибуной сидел судья. Сидел в нашем с отцом кресле. По правую руку стояла женщина, не в платье, как все, а в каких-то лохмотьях, как в мешке, с прорезью для головы. Стояла поникшая, и по тому, как тряслись плечи, видно было, что плакала.
Судья захлопнул книгу и, не вставая, бросил ее через плечо в реку. В общей тишине все услышали, как она ушла под воду.
– Пускай люди решают,?– безучастно сказал судья.?– Что, люди? Палочку для Насти или прощенье в Божий день?