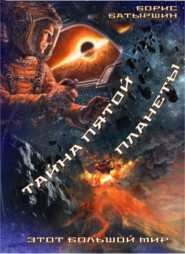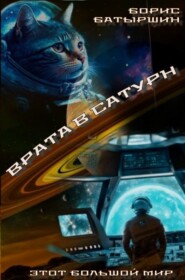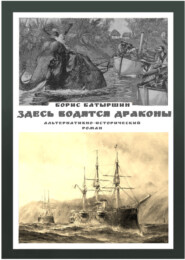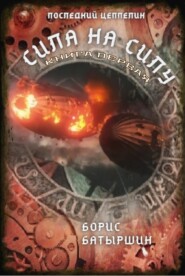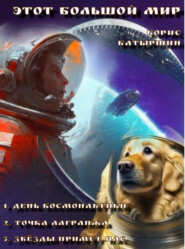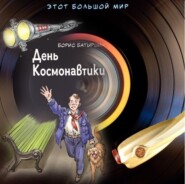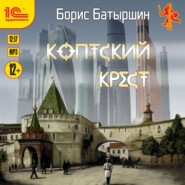По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Мартовские колокола
Автор
Серия
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как там, в фокусе полукруглой, крутым амфитеатром аудитории, стояла профессорская кафедра. На ней сейчас устраивался солидный, почтенного возраста господин обычно в штатском сюртуке.
Виктора подергали за рукав: Владимир, оставив в покое первокурсников, вспомнил о гостях:
– Однако же пойдемте, господа. У Яниса как раз закончилась лекция, попробуем перехватить его. Он в столовой сейчас, наверное…
Университетская столовая, где обыкновенно обедало множество студентов, помещалась на первом этаже, в правом крыле здания. Обстановка здесь была самая что ни на есть скромная, даже «простонародная»: длинные столы, укрытые клеенкой. На столах стояли большие корзины с черным и серым хлебом, которого можно было брать вволю, безо всяких ограничений. В столовой принято было самообслуживание; что до цен, то были они, по московским меркам, самыми необременительными: обед без мяса пять копеек, с мясом – девять. Стакан чаю – копейка, бутылка пива – семь копеек. При желании можно, конечно, было взять обед и подороже; в буфете, также весьма дешевом, продавали кисели, простоквашу. Столовая постоянно переполнена; шум и гам, мельтешение: одни приходят, другие уходят, а кое-где за столами сидят крепко обосновавшиеся группки студентов. Судя по тому, как основательно они уселись, подобные ценители дешевого пива из местного буфета подчас проводили в столовке куда больше времени, чем на лекциях, в аудиториях.
Студенты победнее – что всегда было видно по поношенным, потертым тужуркам – брали только чай с хлебом. Внимания это не привлекало: наоборот, к таким, вынужденно себя ограничивавшим, относились с сочувствием. Иной раз незнакомый студень мог сказать бедствовавшему товарищу: «Коллега, я вам куплю обед, у меня на двоих денег хватит». Да и местное начальство порой предлагало таким страдальцам бесплатную тарелку щей без мяса…
Нужный им человек сидел за отдельным столиком у дальней стены, в компании еще троих таких же студентов. На столе, среди тарелок и пивных бутылок, громоздились стопки книг и клеенчатых тетрадок, перетянутых ремешком; так многие студенты предпочитали носить учебное имущество, демонстративно пренебрегая чиновничьими портфелями. Владимир поздоровался; тот, что сидел в центре, тощий молодой человек с изможденным лицом и впалыми щеками, кивнул, указывая новоприбывшим на соседнюю лавку.
За столом всем было не поместиться; впрочем, нравы в университетской столовке были простыми. Вмиг подтащили еще один такой же столик и дополнительную скамью, и гости уселись за стол. Один из кампании побежал в буфет, за пивом и нехитрой снедью в закуску, а Володя тем временем представил гостей и сидевших за столом.
– Янис Радзиевич, студент медицинского факультета Киевского университета. Слушает у нас курс.
Изможденный молодой человек кивнул.
– Войтюк, Геннадий Анатольевич, из Ковно. Прибыл с намерением поступить в университет. Виктор Анциферов, его земляк…
– Анциферов? – веселым тоном осведомился непредставленный молодой человек. – Батюшка мой, царствие ему небесное, упоминал как-то про Петра Аркадьевича Анциферова, своего товарища по нижегородскому кирасирскому. Вы, часом, не его сынок будете?
Виктор поперхнулся пивом и беспомощно воззрился на Геннадия.
– Вряд ли, – усмехнулся тот. – Насколько я знаю, отец моего друга никогда не был на военной службе. Верно, Виктор?
– К… да… – молодой человек кашлем попытался скрыть некоторое смятение. Мой батюшка служит по управлению статистики при Ковенской городской управе.
Легенды были оговорены заранее; документы Виктор и правда изготовил без особого труда. Самым трудным, как он и предупреждал, оказалось найти подходящую бумагу, а вот нанесение соответствующих водяных знаков, напротив, не доставило ни малейших хлопот: в первой же фирме, занимавшейся корпоративным стилем, им сделали бланки царский паспортов со всеми нужными аксессуарами. Обошлось это удовольствие недешево, и для того чтобы профинансировать эту операцию, пришлось навестить несколько известных в будущем антикварных салонов – благо никакого стеснения в царских деньгах группа больше не испытывала. В итоге для каждого из членов Бригады Прямого Действия было заготовлено по три комплекта документов: один на собственные имя-фамилию, а остальные пока не содержали ни единой записи; разработкой легенд под них предстояло еще заняться.
– Из Ковно, значит? – почему-то усмехнулся Янис. – А что за заведение изволили закончить и какой факультет нашей альма матер намерены вы осчастливить своим присутствием?
Это было обговорено заранее, так что Геннадий ответил немедленно:
– Закончил я Ковенское губернское реальное училище. Мой батюшка служит при управлении железных дорог, тоннельным инженером – вот хочет, чтобы я пошел по его стопам. Однако же, – усмехнулся он, – я, видимо, оказался плохим сыном и намерен был подавать на факультет физических и математических наук. Впрочем, обстоятельства помешали; теперь намерен дождаться следующего года и заново подать прошение.
– А отчего все же не в техническое? – поинтересовался Янис. – Составили бы компанию вашему другу Володе, – и он кивнул на Лопаткина. – Реалисту – оно и попроще..
– Имею склонность к фундаментальным дисциплинам, – усмехнулся Геннадий. – К тому же мечтаю продолжить образование в Германии.
Они побеседовали еще какое-то время. Виктор больше отмалчивался, прихлебывая пиво (довольно-таки скверное). Геннадий и Янис перебрасывались малозначащими фразами. Лопаткин поначалу участвовал в беседе, но потом, подобно Виктору, переключился на употребление пенного напитка и совершенно выпал из разговора.
Наконец Янис встал.
– Ну что ж, друзья, пора и честь знать. Простите, у нас с коллегами еще имеются некоторые дела. Может быть, продолжим знакомство в более приватной обстановке?
– Так можно у меня, в «Аду»… – засуетился Лопаткин. – Вот как освободитесь – прошу в гости. Не забыли, куда?
– Нет уж, благодарю покорно, – усмехнулся Радзиевич. – У вас там слишком много… тараканов.
Паузу он сделал столь многозначительную и так явно обвел собеседников глазами, что было видно – он не сомневается, что те прекрасно уловят скрытый смысл сказанного.
– Вот, кстати, наш Коля, – и Янис указал на своего товарища, того, что давеча спрашивал о фамилии Виктора. – Завтра, в семь пополудни, устраивает вечер с чаем; приходите, будем ждать. Чай бесплатно, баранки приносите с собой; вход десять копеек, благотворительный сбор – в пользу неимущих студентов. Танцы ожидаются, барышни с философских курсов. Будете?
Геннадий кивнул.
– Непременно воспользуемся, спасибо за приглашение. А куда?..
– Володя знает, – Янис не дал молодому человеку ответить. – А сейчас – простите, вынужден откланяться…
И, уже направляясь к выходу, неожиданно повернулся к Геннадию:
– И примите совет… коллега. Подберите себе другой родной город. Ваша манера речи, конечно, не вполне привычна для Белокаменной, но поверьте, здешние жандармы, при всей их тупости, прекрасно умеют отличить польский акцент…
* * *
«Ты совсем изменился, Яша, – сказал недавно дядя Ройзман. – И я таки не знаю теперь, мой ты племянник или совсем уже второй человек. Одно могу сказать – когда будешь подсчитывать гешефты, постарайся не забыть, что ты все же еврей. Потому что те, кто вокруг тебя, это точно не забудут».
Наверное, старик был прав – со своей колокольни. Яша и сам понимал, что изменился и больше никогда не станет прежним. Как там говорил их сосед в далеком теперь уже винницком местечке? «Еврей, севший на лошадь, – это уже не еврей». А он, Яша, пожалуй, что и оседлал своего скакуна. И какого – до него, кажется, было далеко и бароновой караковой кобылы, перед которой замирали в восхищении потомки на их забавном историческом празднике. Яша чувствовал, что надежно устроился на спине Удачи, и теперь несется во весь опор туда, куда вынесет его этот капризный скакун.
И все же старик Ройзман тысячу раз прав. Как втолковывал меламед в хейдере, куда Яша успел походить целые полгода: «Кто говорит «алеф», должен сказать и «бейс». Иначе говоря – если первые шаги на ниве сыска оказались столь успешны, и мало того, привели Яшу в общество таких серьезных людей, – придется теперь задуматься о том, как его и дальше будут принимать в таком обществе. Яша ни разу не поинтересовался у друзей из будущего, каково в их мире отношение к евреям. Да и зачем? Как бы ни были полезны все эти порталы-морталы, жить-то ему предстоит здесь! И какие бы штучки, изобретенные в двадцать первом веке, ни удалось раздобыть – применять их придется тоже здесь. А значит…
А значит, перед ним опять встает проклятый вопрос: кому в Москве, да, пожалуй, и во всей России, нужен сыщик-еврей, пусть даже не обделённый талантом? Нет, конечно, если он и дальше хочет искать неисправного должника Берценмахера или следить за мошенником, торгующим поддельными голландскими кружевами, по заказу Ицека Блюмштейна, который держит на Кузнецком модную «Венскую» лавку, – тогда все хорошо. А вот если он хочет иметь дело с такими людьми, как Корф, Никонов, да в конце концов тот же злодей ван Стрейкер…
В паспортах жителей Российской империи недаром не имелось графы «национальность». Это не интересовало власти. В конце концов, какая разница, кто ты – остзейский немец, удмурт, мордвин или архангелогородец? Империи важно одно – верность. А чем она подтверждена – во всяком случае до того, как тебе доверят подтвердить ее делом, а порой и кровью?
Правильно. Присягой. И чиновники и воинские командиры Российской империи охотно верили присяге, принесенной на православной или лютеранской библии, на Коране, на католическом распятии. Доверия не было лишь иудеям – любой охотнорядский сиделец знал (и при случае с удовольствием повторил бы), что в «жидовских книгах» написано, что обманывать иноверца – не грех вовсе, а наоборот, заслуга. И что любое предательство или гнусность, совершенные по отношению к не-иудею, не ляжет грехом на душу истинно верующего.
Что с него взять? В Охотном ряду и не такого наслушаешься.
Тем не менее, чем больше голова Яши кружилась от радостных перспектив, тем чаще и чаще задавал он себе вопрос: «А готов ли ты?..»
Яков знал, что будет значить ответ «да». Он помнил, как их сосед в кровь, до полусмерти, избил своего сына Додика, давнего, с детских лет, приятеля Яши за то, что Додик срезал пейсы. Додик при смерти валялся в околотке, а его отец рвал на себе волосы и рыдал – от сожаления, что его сын не умер, что хоть как-то искупило бы срам, который он навлек на всю семью…
А ведь если сделать то, о чем думал он… нет, его, конечно, не изобьют в кровь. Отец давно покоится на еврейском кладбище близ Винницы, а более никто не посмеет поднять на Яшу руку. Но и путь назад будет отрезан. Насовсем. Не будет больше забавной, иногда невыносимо раздражающей, но все же такой теплой родни… не будет ворчания дяди Ройзмана. Он вообще больше не скажет о нем ни слова, как будто его и не было никогда на свете. И старый ребе Гершензон, который уговаривал когда-то отдать Яшу в хейдер, будет темнеть лицом при упоминании его имени и говорить «вейз мир…».
Яша помотал головой, отгоняя горькие мысли. Не сейчас… слава Создателю – хоть в этом сомнений быть не может! – решать ему придется не сейчас. И, наверное, не завтра – пока что у него слишком много дел…
Микрофон-затычка в ухе ожил. В комнате скрипнула дверь, раздались стуки, шорохи, и все скрыла волна треска. Яша, чертыхнувшись про себя, принялся жать кнопки тонкой подстройки. Наконец помехи ушли, и голос звучал теперь так же чисто, как если бы он сам находился в комнате, рядом с беседующими.
– Слышь, Ген, а что этот Янис… Янек… ладно, какая разница? Что он домотался до тебя с акцентом? Мало ли в этом гребаном Ковно русских? Не все же там поляки, в конце концов…
– Я так полагаю, он нас раскусил. И таким изящным способом дал понять, что не верит нашей легенде ни на грош.
– И что теперь? Держимся от него подальше?
– Ни боже мой. Он же приглашения своего не отменял, верно? Значит – намекает, что понял, что мы – не те, за кого себя выдаем, но готов отнестись к этому с пониманием.
– То есть – он и сам такой? Это ты имеешь в виду?
Виктора подергали за рукав: Владимир, оставив в покое первокурсников, вспомнил о гостях:
– Однако же пойдемте, господа. У Яниса как раз закончилась лекция, попробуем перехватить его. Он в столовой сейчас, наверное…
Университетская столовая, где обыкновенно обедало множество студентов, помещалась на первом этаже, в правом крыле здания. Обстановка здесь была самая что ни на есть скромная, даже «простонародная»: длинные столы, укрытые клеенкой. На столах стояли большие корзины с черным и серым хлебом, которого можно было брать вволю, безо всяких ограничений. В столовой принято было самообслуживание; что до цен, то были они, по московским меркам, самыми необременительными: обед без мяса пять копеек, с мясом – девять. Стакан чаю – копейка, бутылка пива – семь копеек. При желании можно, конечно, было взять обед и подороже; в буфете, также весьма дешевом, продавали кисели, простоквашу. Столовая постоянно переполнена; шум и гам, мельтешение: одни приходят, другие уходят, а кое-где за столами сидят крепко обосновавшиеся группки студентов. Судя по тому, как основательно они уселись, подобные ценители дешевого пива из местного буфета подчас проводили в столовке куда больше времени, чем на лекциях, в аудиториях.
Студенты победнее – что всегда было видно по поношенным, потертым тужуркам – брали только чай с хлебом. Внимания это не привлекало: наоборот, к таким, вынужденно себя ограничивавшим, относились с сочувствием. Иной раз незнакомый студень мог сказать бедствовавшему товарищу: «Коллега, я вам куплю обед, у меня на двоих денег хватит». Да и местное начальство порой предлагало таким страдальцам бесплатную тарелку щей без мяса…
Нужный им человек сидел за отдельным столиком у дальней стены, в компании еще троих таких же студентов. На столе, среди тарелок и пивных бутылок, громоздились стопки книг и клеенчатых тетрадок, перетянутых ремешком; так многие студенты предпочитали носить учебное имущество, демонстративно пренебрегая чиновничьими портфелями. Владимир поздоровался; тот, что сидел в центре, тощий молодой человек с изможденным лицом и впалыми щеками, кивнул, указывая новоприбывшим на соседнюю лавку.
За столом всем было не поместиться; впрочем, нравы в университетской столовке были простыми. Вмиг подтащили еще один такой же столик и дополнительную скамью, и гости уселись за стол. Один из кампании побежал в буфет, за пивом и нехитрой снедью в закуску, а Володя тем временем представил гостей и сидевших за столом.
– Янис Радзиевич, студент медицинского факультета Киевского университета. Слушает у нас курс.
Изможденный молодой человек кивнул.
– Войтюк, Геннадий Анатольевич, из Ковно. Прибыл с намерением поступить в университет. Виктор Анциферов, его земляк…
– Анциферов? – веселым тоном осведомился непредставленный молодой человек. – Батюшка мой, царствие ему небесное, упоминал как-то про Петра Аркадьевича Анциферова, своего товарища по нижегородскому кирасирскому. Вы, часом, не его сынок будете?
Виктор поперхнулся пивом и беспомощно воззрился на Геннадия.
– Вряд ли, – усмехнулся тот. – Насколько я знаю, отец моего друга никогда не был на военной службе. Верно, Виктор?
– К… да… – молодой человек кашлем попытался скрыть некоторое смятение. Мой батюшка служит по управлению статистики при Ковенской городской управе.
Легенды были оговорены заранее; документы Виктор и правда изготовил без особого труда. Самым трудным, как он и предупреждал, оказалось найти подходящую бумагу, а вот нанесение соответствующих водяных знаков, напротив, не доставило ни малейших хлопот: в первой же фирме, занимавшейся корпоративным стилем, им сделали бланки царский паспортов со всеми нужными аксессуарами. Обошлось это удовольствие недешево, и для того чтобы профинансировать эту операцию, пришлось навестить несколько известных в будущем антикварных салонов – благо никакого стеснения в царских деньгах группа больше не испытывала. В итоге для каждого из членов Бригады Прямого Действия было заготовлено по три комплекта документов: один на собственные имя-фамилию, а остальные пока не содержали ни единой записи; разработкой легенд под них предстояло еще заняться.
– Из Ковно, значит? – почему-то усмехнулся Янис. – А что за заведение изволили закончить и какой факультет нашей альма матер намерены вы осчастливить своим присутствием?
Это было обговорено заранее, так что Геннадий ответил немедленно:
– Закончил я Ковенское губернское реальное училище. Мой батюшка служит при управлении железных дорог, тоннельным инженером – вот хочет, чтобы я пошел по его стопам. Однако же, – усмехнулся он, – я, видимо, оказался плохим сыном и намерен был подавать на факультет физических и математических наук. Впрочем, обстоятельства помешали; теперь намерен дождаться следующего года и заново подать прошение.
– А отчего все же не в техническое? – поинтересовался Янис. – Составили бы компанию вашему другу Володе, – и он кивнул на Лопаткина. – Реалисту – оно и попроще..
– Имею склонность к фундаментальным дисциплинам, – усмехнулся Геннадий. – К тому же мечтаю продолжить образование в Германии.
Они побеседовали еще какое-то время. Виктор больше отмалчивался, прихлебывая пиво (довольно-таки скверное). Геннадий и Янис перебрасывались малозначащими фразами. Лопаткин поначалу участвовал в беседе, но потом, подобно Виктору, переключился на употребление пенного напитка и совершенно выпал из разговора.
Наконец Янис встал.
– Ну что ж, друзья, пора и честь знать. Простите, у нас с коллегами еще имеются некоторые дела. Может быть, продолжим знакомство в более приватной обстановке?
– Так можно у меня, в «Аду»… – засуетился Лопаткин. – Вот как освободитесь – прошу в гости. Не забыли, куда?
– Нет уж, благодарю покорно, – усмехнулся Радзиевич. – У вас там слишком много… тараканов.
Паузу он сделал столь многозначительную и так явно обвел собеседников глазами, что было видно – он не сомневается, что те прекрасно уловят скрытый смысл сказанного.
– Вот, кстати, наш Коля, – и Янис указал на своего товарища, того, что давеча спрашивал о фамилии Виктора. – Завтра, в семь пополудни, устраивает вечер с чаем; приходите, будем ждать. Чай бесплатно, баранки приносите с собой; вход десять копеек, благотворительный сбор – в пользу неимущих студентов. Танцы ожидаются, барышни с философских курсов. Будете?
Геннадий кивнул.
– Непременно воспользуемся, спасибо за приглашение. А куда?..
– Володя знает, – Янис не дал молодому человеку ответить. – А сейчас – простите, вынужден откланяться…
И, уже направляясь к выходу, неожиданно повернулся к Геннадию:
– И примите совет… коллега. Подберите себе другой родной город. Ваша манера речи, конечно, не вполне привычна для Белокаменной, но поверьте, здешние жандармы, при всей их тупости, прекрасно умеют отличить польский акцент…
* * *
«Ты совсем изменился, Яша, – сказал недавно дядя Ройзман. – И я таки не знаю теперь, мой ты племянник или совсем уже второй человек. Одно могу сказать – когда будешь подсчитывать гешефты, постарайся не забыть, что ты все же еврей. Потому что те, кто вокруг тебя, это точно не забудут».
Наверное, старик был прав – со своей колокольни. Яша и сам понимал, что изменился и больше никогда не станет прежним. Как там говорил их сосед в далеком теперь уже винницком местечке? «Еврей, севший на лошадь, – это уже не еврей». А он, Яша, пожалуй, что и оседлал своего скакуна. И какого – до него, кажется, было далеко и бароновой караковой кобылы, перед которой замирали в восхищении потомки на их забавном историческом празднике. Яша чувствовал, что надежно устроился на спине Удачи, и теперь несется во весь опор туда, куда вынесет его этот капризный скакун.
И все же старик Ройзман тысячу раз прав. Как втолковывал меламед в хейдере, куда Яша успел походить целые полгода: «Кто говорит «алеф», должен сказать и «бейс». Иначе говоря – если первые шаги на ниве сыска оказались столь успешны, и мало того, привели Яшу в общество таких серьезных людей, – придется теперь задуматься о том, как его и дальше будут принимать в таком обществе. Яша ни разу не поинтересовался у друзей из будущего, каково в их мире отношение к евреям. Да и зачем? Как бы ни были полезны все эти порталы-морталы, жить-то ему предстоит здесь! И какие бы штучки, изобретенные в двадцать первом веке, ни удалось раздобыть – применять их придется тоже здесь. А значит…
А значит, перед ним опять встает проклятый вопрос: кому в Москве, да, пожалуй, и во всей России, нужен сыщик-еврей, пусть даже не обделённый талантом? Нет, конечно, если он и дальше хочет искать неисправного должника Берценмахера или следить за мошенником, торгующим поддельными голландскими кружевами, по заказу Ицека Блюмштейна, который держит на Кузнецком модную «Венскую» лавку, – тогда все хорошо. А вот если он хочет иметь дело с такими людьми, как Корф, Никонов, да в конце концов тот же злодей ван Стрейкер…
В паспортах жителей Российской империи недаром не имелось графы «национальность». Это не интересовало власти. В конце концов, какая разница, кто ты – остзейский немец, удмурт, мордвин или архангелогородец? Империи важно одно – верность. А чем она подтверждена – во всяком случае до того, как тебе доверят подтвердить ее делом, а порой и кровью?
Правильно. Присягой. И чиновники и воинские командиры Российской империи охотно верили присяге, принесенной на православной или лютеранской библии, на Коране, на католическом распятии. Доверия не было лишь иудеям – любой охотнорядский сиделец знал (и при случае с удовольствием повторил бы), что в «жидовских книгах» написано, что обманывать иноверца – не грех вовсе, а наоборот, заслуга. И что любое предательство или гнусность, совершенные по отношению к не-иудею, не ляжет грехом на душу истинно верующего.
Что с него взять? В Охотном ряду и не такого наслушаешься.
Тем не менее, чем больше голова Яши кружилась от радостных перспектив, тем чаще и чаще задавал он себе вопрос: «А готов ли ты?..»
Яков знал, что будет значить ответ «да». Он помнил, как их сосед в кровь, до полусмерти, избил своего сына Додика, давнего, с детских лет, приятеля Яши за то, что Додик срезал пейсы. Додик при смерти валялся в околотке, а его отец рвал на себе волосы и рыдал – от сожаления, что его сын не умер, что хоть как-то искупило бы срам, который он навлек на всю семью…
А ведь если сделать то, о чем думал он… нет, его, конечно, не изобьют в кровь. Отец давно покоится на еврейском кладбище близ Винницы, а более никто не посмеет поднять на Яшу руку. Но и путь назад будет отрезан. Насовсем. Не будет больше забавной, иногда невыносимо раздражающей, но все же такой теплой родни… не будет ворчания дяди Ройзмана. Он вообще больше не скажет о нем ни слова, как будто его и не было никогда на свете. И старый ребе Гершензон, который уговаривал когда-то отдать Яшу в хейдер, будет темнеть лицом при упоминании его имени и говорить «вейз мир…».
Яша помотал головой, отгоняя горькие мысли. Не сейчас… слава Создателю – хоть в этом сомнений быть не может! – решать ему придется не сейчас. И, наверное, не завтра – пока что у него слишком много дел…
Микрофон-затычка в ухе ожил. В комнате скрипнула дверь, раздались стуки, шорохи, и все скрыла волна треска. Яша, чертыхнувшись про себя, принялся жать кнопки тонкой подстройки. Наконец помехи ушли, и голос звучал теперь так же чисто, как если бы он сам находился в комнате, рядом с беседующими.
– Слышь, Ген, а что этот Янис… Янек… ладно, какая разница? Что он домотался до тебя с акцентом? Мало ли в этом гребаном Ковно русских? Не все же там поляки, в конце концов…
– Я так полагаю, он нас раскусил. И таким изящным способом дал понять, что не верит нашей легенде ни на грош.
– И что теперь? Держимся от него подальше?
– Ни боже мой. Он же приглашения своего не отменял, верно? Значит – намекает, что понял, что мы – не те, за кого себя выдаем, но готов отнестись к этому с пониманием.
– То есть – он и сам такой? Это ты имеешь в виду?