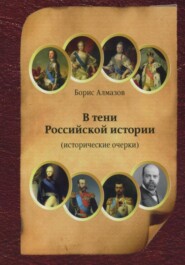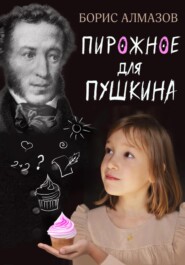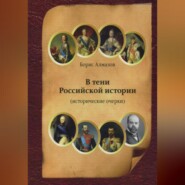По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ангелы над городом. Петербургские сказки. Часть вторая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Зимой 1740 г в 30 градусные морозы построили на Неве дом Ледяной Дворец. Лед разрезали на большие плиты, клали их одну на другую, поливали водой, которая тотчас же замерзала, накрепко спаивая плиты. Фасад собранного здания был 16 м в длину, 5 – в ширину и столько же в высоту. Кругом крыши тянулась галерея, украшенная столбами и статуями.Крыльцо с резным фронтоном разделяло дом на две половины – в каждой по две комнаты (свет попадал туда через окна со стеклами из тончайшего льда). В покоях же Ледяного дома находились два зеркала, туалетный стол, несколько подсвечников, двуспальная кровать, табурет, камин с ледяными дровами, резной поставец, в котором стояла ледяная посуда – стаканы, рюмки, блюда. Здесь и округ дворца учинили грандиозную свадебную феерию!
Жениха с невестой посадили на слона в железную клетку. За слоном на оленях, свиньях и собаках следовал свадебный поезд: 150 пар многоразличных народов бескрайней России, в их одеждах и с тамошними музыкальными инструментами, в кои они дудели, свистели и бренчали в струны, били в бубны, барабаны и пели на своих наречиях! Да при факелах шутихах и фейерверках – ад кромешный! Горожанам столицы в удивление и страх! Какое тут может быть веселье – живых людей немощных на казнь лютую немыслимую везут!
После венчания и хмельного пирования, а Квасника-Голицына и шутиху Авдотью, глумясь, отправили в дворец на ледяное брачное ложе, да приставили к ледяному дворцу крепкий караул, чтобы не сбежали.
Горожане перешептывались, мол, князь бы пропал, кабы не калмычка, которая как то исхитрилась либо подкупить стражу, либо упросить, и оные караульщики либо из корысти, а больше, по милосердию – тоже ведь люди, доставили в Ледяной дворец шубы. В них новобрачные согревались, с тем и выжили. Мороз февральский стоял лютый. По злой императрской прихоти, новобрачные должны бы за ночь замёрзнуть, однако, утром их нашли живыми, а шубы, должно, успели спрятать, не то унести. В апреле Ледяной дворец как страшный сон растаял и с ледоходом по Неве в море уплыл. А без малого через полгода стало и не до него!
В октября иное чудо явилось. Темнело то уже по осеннему рано. Бирон, по всегдашнему обыкновению, пошел с императрицею на ее половину. Тут в Летнем саду явилась некая женщина и прошла во дворец. Караульные её не остановили, потому видом она – вылитая государыня Анна Иоаннова. Дежурный офицер – старший по караулу поначалу даже растерялся – он же видел как императрица с Бироном в свои комнаты ушла и оттуда не выходила, а здесь вот она из сада явилась. В тусклом мерцании свечей странная фигура, схожая с императрицей как отражение в зеркале, беззвучно двигалась по тронному залу. Караульный офицер, зная крутой и взгальный нрав Анны Иоанновы, не посмел к этой загадочной фигуре подступиться – побежал будить Бирона – уж тому ли не знать где императрица?! Всполошились караульные солдаты и все кто был во дворце! Призрачная фигура не исчезала, продолжая ходить по залу. Наконец, вышла Анна Иоанновна, направилась прямо к той, что ходила по залу и глянула ей в лицо, словно в своё отражение… По слухам, прежде известно было – что какая то гадалка предрекла императрице смерть, когда она увидит своё отражение… Потому императрица и произнесла:
– Это моя смерть!
Женщина – двойник императрицы стала отходить к трону, что стоял в этом зале в дальнем конце в полумраке… Анна же Иоанновна, не то в обморок упала, не то просто повернулась и ушла обратно к себе в спальню… Тут поднялась суматоха, а явившийся призрак в полумраке очном растаял.
В скором времени, 17 октября 1740 года на сорок восьмом году земного бытия, процарствовав десять лет, императрица отошла на суд Божий.
Смерть её и похороны перекрыли гул слухов о призраке. Петербуржцы же меж собою по вечерам толковали разно. Одни считали, что призрак, предвестивший смерть императрице, точно был! Что он явился из ада и забрал её душу Анны Иоанновны, от которой народу православному было много зла. Вон одних немцев разных в столицу Империи понаехало – проходу от них нет! Иные же в призрака не верили и считали сие происшествие делом рук человеческих. Императрица де сильно как театральные представления обожала, со всякими чудесами и фокусами – вот ей театр и устроили, дабы напугать, может даже и до смерти! И присовокупляли , что за неделю до того как призрак в царском дворце явился, Анна Иоанновна за обедом сознания лишилась… А сие неспроста – женщина то она хоть и тучная, но цветущая и признаков болезни в ней наблюдалось. К тому, добавляли , что у Зеленого мосту на Невской першпективе в реке выловили утопленницу – сильно как с покойной императрицей на внешность схожую. Вот тут как хочешь – так и понимай!
Но в ближайшие дни такое в столице Российской Империи началось, что стало не до призраков. Бирон перед смертью императрицы вытребовал с неё указ, что вся полнота власти переходит к нему. То есть, этот временщик на русский престол сядет! Народ наш уж на что терпелив, а такое неподобство и ему невтерпежь! Взбунтовалась Гвардия и бравый военачальник Бухгарт Миних – покоритель Крыма, с Преображенцами и Семёновцами ночью к Бирону ворвался! Штыками, прикладами ружей и сапогами его с дворцовой лестницы спустили. Жену с постели чуть не за волосы волокли! И тем же часом возвели на престол племянницу Анны Иоанновны, дочь её сестры – Анну Леопольдовну, коя пребывала замужем за принцем Антоном Ульрихом – командиром Бравернейского кирасирского полка. Антон Ульрих, вроде как сам себе, сразу дал чин генералиссимуса. При Ульрихе состоял же и ныне известный здоровяк кирасир барон Мюнхгаузен – и наверно в те дни ему попритчилось, что он в счастливый случай попал – теперь одостигнет на русской службе высот небывалых. Однако, не прошло и полгода как Преображенцы вознесли на престол дочь Петра I – Елизавету Петровну…
Но уж это другое царствование и другие легенды. А чтобы эту про Анну Иоанновну, Ледяной дом и призрака закончить – вернёмся к рассказу о князе Михаиле Алексеевиче Голицыне и калмычке Авдотье Ивановне Буженининой. Завершение этого рассказа будет благополучным, елико возможно.
Княжеский титул Голицыну вернули, шутовской балаган в Летнем дворце разогнали. Однако, произошла вещь неожиданная. Князь шутейный брак, совершенный с калмычкой в насмешку, признал за действительный, венчанный! Вот стала Авдотья Ивановна женой законной, а стало быть, княгиней. Она ещё при жизнь императрицы Анны Иоанновны за супруга своего Михаила Алексеевича любому была голова глотку перегрызть, когда он еще в шутах состоял! Уж и тогда, при калмычке над ним никто шутить не смел. А за себя то Авдотья Ивановна и прежде постоять могла, кто её домогаться пытался в Летнем дворце ошиваясь, тот радехонек бывал, что жив остался, хоть бы и в синяках и ссадинах. Полюбила она Михаила Алексеевича всей своей чистой душою, и готова была за н ним хоть в ледяную прорубь, хоть в огонь, хоть на плаху, даром что был он её на 23 года старше. А уж как стала калмычка – княгиней, тут уж враз всеми забылось, что она "карлица" – мало ли людей малого роста сказано: "Мал золотник да дорог", и что считалась она "уродиной" – просто у неё лицо для европейцев того времени непривычное, а ведь приглядеться – оно не без красоты! А горба то, про которой толковали и насмешки строили, прежде у неё, оказывается и не было, вот и бужениной от неё не пахло.
Родила Авдотья Ивановна в сем нечяянном, но счавстливом браке князю двух сыновей – одного в том же 1740 году, когда их свадьбу в Ледяном дворце праздновали, а через скорое время и второго, но вот этими родами в тридцать два года и умерла, оставив князя Михаила безутешным… Этот второй мальчик тоже ещё в детстсве умер. В восемнадцатом столетьи и в родах и по малолетству много умирало. А старший возрос, как и отец до майорского чина в военной службе дослужился. Полноправный старинного славного боярского рода – князь Андрей Михайлович Голицын – наполовину калмык.
Порцелановый секрет
Жалко было родителям отдавать Митю в ученье. Однако, хоть и слёзы украдкой утирали, а всё ж понимали: нонеча не прежние времена, когда бывало иные даже попы грамоту едва разумели – по памяти, "на слух" службу правили. Теперь – то по указу царя Петра I Алексеевича, образованность стала надобна. Без учения – никуда. Да ещё и за великую удачу считать можно, что в Московской Греко-славяно-латинской академии для Мити место сыскалось. Благословляя сына на учение, протопоп Иван возвел его на высокую колокольню, откудова вся окрестность города Суздаля видна, весь простор земной и светлость небес и в напуствие сказал:
– Живи достойно, не ленись, греха опасайся, соблазнов сторонись. Молись, учись да трудись в полную силу и разумение. Мечтательства пустого о славе да богатстве избегай. Не то сатана – враг рода человеческого, враз над душою твоею власть возьмет. Он ведь златом-серебром, да почестями мира сего поманит, посулит, но обманет то всенепременно. И оглянуться не успеешь как всё потеряешь и сам навовсе пропадешь. А на что слава да богачество, хоть бы и вся наша жизнь земная, когда душу потеряешь и Царствия Небесного лишишься навечно? Митя слова отцовские, конечно, запомнил, но особого значения им не предавал. Мало ли в церкви за службой да в проповедях правильных слов говориться! Народ то послушает – повздыхает, иной и слезу покаяния уронит. А как из храма вышел, слова проповеди хоть бы и помнит, а живет то всё как и прежде – не по заповедям. Ну, и Митя то ж, как все…
Да и когда ему было особо то размышлять, да философствовать, либо в мечтания пускаться? Учение – не простое, много чего на память зазубривать надлежало, а занятия – круглый год без отпусков и каникул. Редко – редко когда ученикам удавалось за стены Заиконоспасского монастыря выскочить на московскую улицу поразмяться: зимой с горы на санях покататься, а то и с москвичами на кулачках силой померяться. Тут наипервейшим среди кулачных бойцов был Михайло Ломоносов, с которым Митя свел дружество. Понятное дело: Михайло мало, что на десять лет Мити старше, так ещё и богатырь природный – кочергу железную мог узлом завязать! Но не кулачные бои явились дружеству причною, а то, что Михайло Ломоносов и Дмитрий Виноградов явились поистине лучшими учениками Академии. Меж собою, не токмо шутки ради, а взаправду, могли ученые разговоры разговаривать и по латыни, и по гречески, обо всяких вещах и понятиях – оттого завсегда им вместе не скучно. Вот их, обоих, в числе двенадцати лучших, и отправили из Москвы в Университет при Академии наук и художеств в столицу Российской Империи – в Санкт-Петербург.
Сей град, хоть и столица, а Москвы много как меньше и темней. Зимой не успеет чуть рассветать, а уж часов через пять – снова темень да ночь. Холод, промозглость. На ученьи и в хоромах то при разговоре изо ртов пар идет. А в летнюю пору ночи вовсе нет – светло и не уснуть никак, и комары кровопийцы донимают – хоть дегтем от них намазывайся. Да много спать то и не приходилось – учиться пришлось наукам новым, хитростным. В Москве больше зубрили языки древние, богословие, философию, а тут – математика да физика, да химия, да механика. И язык пришлось учить немецкий, потому все книги на этом языке. Однако, Михайло и Дмитрий учились жадно, разум имели схватчивый, во всех занятиях преуспевали и вскорости явили знания отменные. За то отправили, их меньше чем через год, на морском корабле по Балтийскому морю в Германию в преславный Марбургский университет
Плыли долго, но всё ж много быстрее, как если бы по суше на лошадях. Побаивались: мало что страна чужая, других язык люди ее населяют, да и вера у них не Православная, а какая то протестантская. Вроде как тоже христианская, а на взгляд то – разница. Красоты Православной их служба не имеет, в храмах стенки голые, а пуще всего разговоры да толкования разные. Опасались русские студиозы – как бы, неровен час, немской ересью не заразиться. Михайло то на возрасте – 23 годов, много чего повидал, да превзошел, а Митя – вьюнош совсем. Что он в свои шестнадцать лет акроме учения, считай, как в затворе монастырском в Москве, да в Университете академическом в Петербурге, видел?
Однако же, как приехали, чуть пообустоились, так и полюбили новую жизнь, и окунулись в бытие дней студенческих радостно. Михайло с Дмитрием как пиявицы ненасытные в науки впились, готовы были денно и нощно учиться. Язык выучили быстро, науки то все интересные. Особливо русских студиозов знаменитый профессор Христиан Вольф нахваливал. Сказывал, что за всю жизнь первый раз таких умных да к наукам приверженных молодых людей обучает. Их уж профессора даже осаживали: хватит, мол, за книгами да в мастерских горбатиться – ступайте погуляйте, тогда и ученье веселей пойдет. А уж погулять то студиозы в Марбурге умели! В этом городе и трактиры с пивом с музыкой да танцами, уличные забавы всякие: странствующие артисты фокусы показывают, по канатам ходят, шарами да кольцами жонглируют, а иные целые представления разыгрывают в лицах, либо в куклах. Особливо Дмитрию да Михайле пиеса о докторе Фаусте понравилась. Они ее не раз видели да потом за пивом в трактире сидючи обсуждали, как учёный муж Фаустус душу дьяволу продал, чтобы молодость воротить да способ узнать – как обращать свинец в золото…
Вот сидят, однажды, Михайло с Дмитрием в трактире – пиво пьют да представление обсуждают.
– Пустяшное дело – представление это. Сплетки да сказки,– Михайло говорит.
– Нет, – возражает Митя, – неспроста сказки сказываются…
– Выдумки всё!
– Понятно, что выдумки! Однако, оне для размышления – как правильно жить в обыкновенности.
– Для размышления – наука. А сказки – так, для забавы.
– А вот, к примеру, тебе бы шут какой предложил враз все науки превзойти, мудрость жизни узнать, через то – богатство и чин хороший получить?..
– Так ведь, небось, за душу!
– Ну, за душу, не за душу… Может, эдак только к слову говориться. А хоть бы и так – однако, можно ведь и поторговаться....
– А спомни, Митя, чем мистерия кончилась? Обманул ведь Фауста бес! Нет, брат, наука постепенности требует, упорства. Сразу-то все премудрости узнать невозможно. Башка треснет.
– Да все то премудрости на что?! Хоть, к примеру, один какой-нибудь секрет, а через него доход денежный и почёт…
В трактире народу полно, за всеми столами горожане да студиозы угощаются питьём хмельным да закусками. Тут и подходит к нашим робятам некий господин:
– Слышу вы по русски говорите, дозвольте за ваш стол притулиться.
– Милости просим. Честь и место. Вы, чай, из России, когда язык наш ведаете? – потому так Митя спросил, что слышит, незнакомец хоть и по русски, а не чисто как то говорит – будто немец с Васильевского острова. Стали незнакомца распрашивать: давно ли он из России, какое занятие имеет? Господин отвествует кратко, дескать, из России давно, сам – негоциант, ведет сухопутную и морскую торговлю, ежели на какой товар спрос открывается. Одет господин чисто, богато: парик завитой да камзол дорогой, треуголка с пером, с позументом, шпага при бедре. Должно негоциант не из бедных.
– Я вашим разговором заинтересовался, – говорит господин – А вот ежели, так, для разговора, к примеру, на что бы вы душу променять могли?
– Да не на что! – говорит Михайло. – Сие – пустое измышление.
– Понятное дело. – смеется господин: – Вы – люди образованные, разумеете, что душа материя не вещественная, как её, в таком разе, обменивать? Ведь не пенька да лес или воск из державы Российской на сукно или олово английское на Амстрдамской бирже менять – товар на товар. А душа есть неосезаемый чувствами звук.
– Неосезаема, а болит, особливо, когда совесть нечиста, – говорит Михайло. А Митя сразу и нашелся:
– Можно ведь невещественное на равное невещественное поменять. Скажем, доктор Фауст, не токмо молодость воротить пожелал, но и обрести любовь девицы Маргариты. А любовь сердечная тоже есть материя невещественная! Вот, к примеру, учёные секреты – ведь не вещественные – так, рассуждение одно, звук пустой, а как оберегаются да какую цену имеют!
– Убедил! Убедил! – незнакомец смеётся.– Позвольте ради знакомства, вас пивом поподчивать!
Натянулись наши то студиозы пивом на дамовщину так, что, пока до своей квартиры добрались все плечи о стены домов исколотили, шатаючись. Улицы то в Марбурге узкие. И в другой раз негоцианта того в трактире повстречали, и в третий… Да вскорости приметили: в какой трактир не придут, а он уж там сидит, словно, их дожидается и завегда хмельным питьем на свой счет подчует. Разговоры рассудительные ведет, да умные вопросы спрашивает, на кои ответишь то не враз. И такое пошло у них с Негоциантом дружество – чуть не каждый день в тактире сидят – беседуют и хмельное попивают.
Наши то робяты возмечтали на марбургских состоятельных жителей походить. Пошили себе платье новое модное, дорогое, какое в Европах богатые люди носят, шпаги купили. Наняли учителей, чтобы разным манерам светским и танцам обучиться, а заодно уж и фехтованию. Всё бы мило, оно, может, и не без пользы, да только наряды да учителя искусные больших денег стоят. Содержание из России на житье им, конечно, выдали достаточное, но ведь не на забавы да излишества! Быстро Михайло да Дмитрий казной поиздержались. Спасибо Негоциант выручил – дал изрядно денег в долг. Под весёлый разговор да под пиво и студиозы и не задумались сразу то – чем долг отдавать станут.
Особливо много Михайло задолжал. Он ведь с дочерью своей квартирной хозяйки жить начал семьёю. Надо бы жениться по закону, да как? Он – православный, она – лютеранка. Обвенчался в тайности по лютеранскому обряду, да апосля – дрожал: как бы в России не узнали да не отлучили от церкви православной как еретика и христопродавца. Нонеча при императрице Елизавете, за такое может и помилуют, а у прежней то государыне Анне Иоанновне за измену Вере смертная казнь полагалась. Тут и призадумаешься. А у Михайлы с упругой и ещё и дочка родилась. Михайле семью содержать нужно. Вот и пошли долги на долги – в расчете на талант – дескать, выучимся, должности в России хорошие получим – расплатимся. Однако, рассуждали о том меж собою гадательно, однако, чем ближе срок долгу – тем больше воздыхали. Талант – штука ненадёжная, должности хорошие то ли будут, то ли нет, а долг то вот он – со дня на день растет, не сегодня – завтра отдавать. Михайло день ото дня мрачнеет, да и Митю, как об долгах подумает – тоска одолевает.
– Чую я, – говорит как то Михайло, – непроста нам сей Негоциант повстречался. Какой то у него к нам свой интерес…
– Да какой интерес? – Митя возражает, – По России скучает, да и по русски ему поговорить хочется. Мы вон тоже: хоть хорошее житье в Марбурге, а были крылья – в Россию полетели бы не раздумывая.
– С чего бы ему, немцу, по России скучать?
Ломоносов Мити старше, опыта житейского у него больше, многих чего повидал. А Митя – доверчивая душа, всем верит, во всем только хорошее видит.
– Стало быть, Россеюшка наша матушка Негоцианту по душе пришлась. Может, у него там зазноба сердечная – амор осталась, по ней тоскует.
– Не похоже. – Михайло рассуждает. – Не таковы влюбленные люди и на вид, и на выходку, не такие разговоры говорят. Кто его знает, что у него на уме, а мы вот у него в долгу пребываем…
– Да полно, – Митя возражает, – какой нам от него урон может учинится? А человек Негоциант умный, вон пивом, а ноне больше вином хорошим угощает. И разговор с ним завсегда интересный.