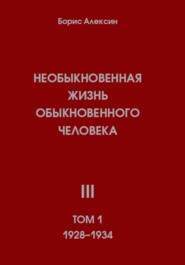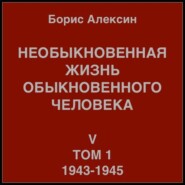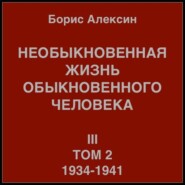По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Порядок восстановился, когда в город вновь вернулся красноармейский отряд, именовавшийся теперь батальоном Красной армии. Командовал им уже новый командир. Старого, так же, как и нескольких бойцов, батальон потерял в одной из схваток с «зелёными». Бойцов похоронили на кладбище деревни, около которой происходил бой, а тело командира, привезённое в красном гробу, решили похоронить с особым почётом в городе.
В этих похоронах, кроме красноармейцев, участвовало много народа. Были там и наши ребята. На высоком берегу Мокши, почти напротив Бучумовской улицы, вырыли глубокую могилу, в неё и опустили гроб. Пока шли от Новой площади до могилы, гроб несли на руках, и всё время играл оркестр. Играл он один известный ему похоронный марш «Вы жертвою пали…». За оркестром, шагавшим сразу за людьми, несшими гроб, шли бойцы батальона, а за ними довольно нестройной толпой – большое количество местных жителей, служащих исполкома, милиции и других учреждений. Ребята окружали весь этот кортеж, то забегая вперёд, то идя рядом с оркестром или красноармейцами. Конечно, вместе со всеми носились Боря и Юзик.
Когда похоронная процессия подошла к берегу Мокши, гроб поставили на табуретки, все образовали большой круг. На середину вышел новый командир, председатель исполкома и ещё какие-то люди в кожаных тужурках и шинелях. Начался траурный митинг.
Новый командир и другие люди говорили о храбрости убитого товарища и давали обещание так же честно служить народу и советской власти, как и он. Затем гроб опустили в могилу, оркестр заиграл недавно выученный им «Интернационал», а группа красноармейцев, стоявшая в стороне, стала стрелять залпами в воздух, чем вызвала восторг всех присутствовавших на похоронах ребятишек.
Так Боря Алёшкин и его друзья впервые участвовали на новых советских похоронах, такими они и сохранились в его памяти. Все ребята сошлись на том, что эти похороны гораздо интереснее и красивее, чем церковные, которые им приходилось видеть не один раз, и даже то, что на могиле командира поставили вместо обычного креста красную пирамидку с жестяной пятиконечной звездой на вершинке, казалось очень красивым. Это были первые нецерковные похороны в Темникове, и потому они вызвали много толков не только среди ребят, но и среди взрослых.
* * *
В августе месяце в здании женской гимназии проходила переподготовка учителей. Организованный при уездном исполкоме отдел народного образования, или, как его сокращённо называли, Наробраз, руководимый бывшим сельским учителем, по национальности мордвином, Павлом Ивановичем Аникиным, решил перед началом учебного года познакомить учителей с предполагающейся реорганизацией школ и новым порядком преподавания. Однако вся эта переподготовка вылилась лишь в пустые споры и разговоры, так как пока никаких конкретных указаний об изменениях в школьном деле не было.
Учебный год в сентябре месяце все начали по-старому: гимназисты и гимназистки явились в свои классы, остальные ученики – по своим школам. Не начали занятий Саровское училище и епархиальная школа в связи с категорическим запрещением. Здания их стояли пустыми и заброшенными.
Но нормальное учение длилось недолго, уже в октябре 1918 года Наробраз, видимо, получил какие-то указания по реорганизации обучения и немедленно приступил к их осуществлению. Занятия во всех школах приостановили, ученики получили дополнительные каникулы. В результате этой реорганизации, практическое осуществление которой удалось провести в течение десяти дней, получилось следующее.
Вместо существовавших двух гимназий, городского училища и нескольких церковно-приходских школ открыли пять школ первой ступени – пятилетки, в которых подлежали обучению ученики, ранее обучавшиеся в церковно-приходских школах, в первых трёх классах городского училища и первых трёх классах гимназии; и три школы второй ступени – для бывших гимназистов и гимназисток, учившихся с четвёртого по седьмой класс. Ученики последнего класса городского училища попадали в первый класс второй ступени и, следовательно, могли, если хотели, продолжать своё образование дальше. Занятия в восьмом классе гимназии на этот год ещё продолжались, но со следующего учебного года в связи с сокращением программы этот класс упразднялся, и вторая ступень заканчивалась бывшим седьмым классом гимназии.
Объём учебной программы действительно сокращался, ведь из неё исключались такие предметы, как древние языки (латынь и греческий), Закон Божий, второй иностранный язык (оставался только один: или немецкий, или французский). Преподавание иностранных языков начиналось только со второй ступени.
Обучение в первой ступени становилось совместным, то есть мальчики и девочки учились вместе. Во второй ступени оно пока оставалось раздельным: одна школа на базе бывшей женской гимназии предназначалась для девочек, а две другие на базе зданий старой и новой мужской гимназии – для мальчиков.
Все ученики соответственно своему возрасту и прежнему классу перераспределялись по новым школам и классам. В каждую школу назначались новые педагоги и заведующие.
Такое подробное изложение школьной реформы 1918 года удалось почерпнуть из письма Марии Александровны к сыну. Она, бывшая начальница женской гимназии, не имела специального педагогического образования и потому при новом распределении учителей должности не получила, а была зачислена в резерв Наробраза. И только вмешательство Анны Захаровны Замошниковой, назначенной заведующей первой школой второй ступени, и бывшего директора гимназии Чикунского, имевшего университетское образование и потому назначенного заведующим второй школой второй ступени, помогло Пигуте относительно быстро получить новое назначение. Но всё же допустить её к заведыванию школой второй ступени не решились, а направили возглавить одну из школ первой ступени.
В письме от 9 ноября 1918 года Мария Александровна извещает сына об этих событиях. Она пишет:
«Милый Митя! Спасибо тебе большое за память и присылку денег. Деньги нам пока не особенно нужны, и ты, пожалуйста, больше не высылай. Хотя гимназия уничтожена, и я больше не начальница, но считаюсь народной учительницей и получаю жалование и пятилетние прибавки. Лёля тоже на месте. Думаю, что мы живём не хуже других и не голодаем. Боюсь, что у вас всё много дороже и тебе трудно приходится. Муку мы частным образом достаем по 125–130 руб. за пуд, только один раз купила я за 140. Пшено так же. Масло 15 руб. за фунт. Для меня очень важно и дорого почувствовать, что ты о нас думаешь и помнишь. Деньги твои мы с Лёлей поделили пополам, к 150 руб. я прибавлю ещё 50 руб. и пошлю их в Кострому Мирновой.
Представь себе, мне сообщили, что Николай Геннадиевич умер, и таким образом, Слава и Ниночка остались совсем сиротами. Ниночка – в Костроме у бабушки, а Славу ещё весной Николай Геннадиевич увёз к себе в Солигалич, как только женился. Где сейчас Слава? Анна Петровна пишет коротенькую открыточку, очевидно, и сама ещё не знает, отчего и как умер её сын, видно, очень поражена, тем более что и второго её сына (Юрия) берут в армию. Всё это очень грустно!
Желала бы знать что-нибудь о твоём мальчике. Хоть бы ты прислал его фотографию. У меня на глазах растёт его ровесница – дочь Стасевича. Славная девчушка, болтушка и очень забавная девочка. Боря состоял во втором классе гимназии, но теперь учение на время прекращено: гимназии упразднены, а учащиеся младших классов расклассированы по различным школам первой ступени. Я на положении запасной учительницы и пока ещё не имею определённой работы, Женя учится дома с учительницей, то есть училась. А теперь её учительница получила место. Буду заниматься с нею я.
Крепко тебя обнимаю. Пожалуйста, давай иногда о себе вести. Мама.
Р. S. Здоровье мое хорошее».
Рассказывая в этом письме о положении в школах, Мария Александровна ни одним словом не упоминает, насколько болезненно она восприняла своё отстранение от должности, и не столько потому, что это отразилось на её материальном положении, но главным образом потому, что она оказалась невольно оторванной от любимого дела, которому, в сущности, посвятила всю свою жизнь.
А приписка о состоянии её здоровья была и совсем неправдивой. Но Мария Александровна не хотела огорчать любимого сына, а жившая рядом с ней дочь не только не сочувствовала её горю и болезни, но даже и не замечала их. Она была слишком занята своими личными переживаниями. И приходилось бедной старушке делиться своими невзгодами с ближайшими друзьями: Стасевичами, Армашами, Травиной да малолетним внуком.
И если друзья принимали все меры к тому, чтобы помочь ей, и, как мы уже знаем, преуспели в этом, то внук просто искренне жалел свою бабушку, часто замечая слезы на её глазах, по своей детской беспечности и неразумению помочь ей пока ничем не мог. Единственное, что он всегда делал, это с яростью бросался на её защиту при ссорах с дочерью, причём это его заступничество очень часто приносило его любимой бабусе не пользу, а лишь новые огорчения, и его желание сделать добро невольно обращалось во зло. А ссоры между Еленой Болеславовной и матерью происходили всё чаще, бывали всё острее и значительно подрывали силы Марии Александровны.
На состоянии её здоровья отразилось и ухудшение питания. Всё лучшее, что появлялось в доме из продуктов, Елена без стеснения забирала для себя и Жени, из оставшегося бабуся лучшие и большие кусочки отдавала внуку, а сама сидела в основном на картошке с постным маслом и чёрном хлебе.
Мария Александровна сильно похудела, временами появлялась тошнота, боли в животе, она заметно ослабела. По-видимому, обострилась её старая болезнь желудка. Давали себя знать и годы, ведь их уже прожито шестьдесят три. Однако Пигута тщательно скрывала своё недомогание и от домашних, и от всех знакомых. Она знала, что единственным источником существования её семьи является её заработок, и очень опасалась, что из-за болезни её могут не взять на работу. Пожалуй, единственным человеком, который видел, как она тщательно утягивает свои платья, чтобы не было заметно её похудания, был её любимый внук Боря. Ведь они теперь жили в одной комнате – бывшей столовой, Елена с дочкой жили в большой спальне, Поля – на кухне, все остальные комнаты пустовали, топить их было нечем.
Но Боря хотя и видел, но относил это за счёт ссор с тетей Лёлей, которую ненавидел ещё больше, а большую часть страданий бабуси просто не понимал, он был ещё слишком мал. И лишь гораздо позже, уже будучи взрослым, он осознал, как велики были страдания этой маленькой, но такой героической «большой» женщины.
Из приведённого письма видно, что, несмотря на страдания, Марию Александровну не покидала забота и об остальных детях её безвременно погибшей дочери, которым она при малейшей возможности старалась оказать материальную поддержку.
К декабрю 1918 года реорганизация школ была полностью завершена, и Мария Александровна получила место в одной из школ первой ступени. В письме от 19 декабря она сообщает об этом сыну:
«…Гимназии мужскую и женскую преобразовали в школы второй ступени. Я же, как не получившая высшего образования, получила назначение в школу 1-й ступени, помещающуюся в здании бывшего Саровского училища. <…> Мне пока разрешено оставаться на прежней квартире, и Лёля живет со мною; только дрова уж приходится покупать, и для экономии мы почти не топим гостиную, так что спим с Борей в столовой. <…> Мы с Лёлей зарабатываем вдвоём 1000 руб., так что не голодаем: удаётся доставать по случаю и пшена, и муки, масла, и яиц, молоко берём по 8 руб. за четверть ведра, яйца 7 руб. 50 коп. десяток, масло 20 руб. за фунт. <…> Настроение у Лёли неважное, здоровье тоже, и это делает жизнь с ней довольно-таки тяжёлой. <…> Что касается Бори, то у него отличные способности, но рассеянность и разгильдяйство феноменальные, и поэтому лицо у него или украшено царапинами, или вымазано чем-нибудь, да и в костюме всегда недочёты: или пятна, или дыры. Характером он во многом напоминает Нину, очень упрям и неуступчив; писать ленив, но читать готов целые дни подряд, не поднимая головы. <…> Керосину в городе почти нет, выдают редко, самую малость, и приходится гасить огонь и ложиться спать спозаранку. <…> От Алёшкина из Сибири никаких вестей нет. Твоя мама».
Приближался к концу 1918 год. Регулярные занятия в новых школах решено было начать с нового года, а до тех пор при Наробразе проводились бесконечные совещания и занятия, на которых обсуждались новые программы и новые порядки, заводившиеся в советских трудовых школах, как отныне стали называться все учебные заведения.
Ещё будучи запасной, Мария Александровна принимала участие во всех этих совещаниях, а получив назначение, с ещё большим энтузиазмом включилась в эту работу. Новые задачи, новые условия труда, новые, более расширенные возможности для преподавания, её, как истинного педагога, горячо любящего своё дело, очень заинтересовали. Теперь во всех школах категорически запрещалось применять какие-либо телесные наказания. В программах появились новые предметы, значительно расширились программы по естествознанию, по географии, и даже её любимый предмет – родной язык, освободившись от пут царской цензуры, получил возможность давать ученикам для изучения произведения Некрасова, Успенского, Короленко, Горького, Толстого. За одно только знакомство с некоторыми из их произведений в прошлом и педагог, и его ученики полетели бы из гимназии.
И эта больная женщина, несмотря на свой возраст и всё ухудшающееся самочувствие, отдалась любимому труду с новой страстью и силой. А её должность требовала этих сил немало. Прежде всего, ей досталась одна из худших школ в городе – бывшее Саровское училище, содержавшееся на средства Саровского монастыря. Являясь чем-то средним между духовной семинарией и гражданской школой, оно готовило будущих дьячков и псаломщиков. Преподавали там монахи, основными предметами были Закон Божий, правила ведения церковных служб и начала грамоты и счёта. Ученики школы жили тут же, поэтому при школе находилась и столовая, и церковь. Когда к концу 1918 года это училище было окончательно закрыто, все ученики распущены по домам, а жившим здесь же преподавателям-монахам предложили занимаемые ими помещения освободить, то здания некоторое время оставались беспризорными. Уходившие ученики, да, может быть, и учителя постарались утащить не только всё, что попало под руку, но и испортить в зданиях всё, что только удалось.
Педагоги, назначенные для работы в эту школу, придя в помещения, захламленные обломками школьной мебели и разным мусором, с выбитыми стёклами в окнах, разбросанными учебниками и невероятной грязью всюду, приходили в ужас от этого вида и пытались при первом же удобном случае из неё удрать. Между прочим, то же сделал и первый назначенный в неё заведующий, и может быть, именно поэтому Марии Александровне Пигуте и «посчастливилось» получить это место.
Однако храбрая женщина не испугалась, не растерялась, а собрав всех учителей, сумела воодушевить их, и они вместе с жившими во дворе школы и оставшимися на месте сторожами и другими служителями привели в порядок учительскую, собрали учебные пособия, кое-как исправили что смогли, забили разбитые окна фанерой и досками. Одновременно решили, что окончательным приведением в порядок классов займутся сами ученики.
Положительными моментами в этой школе было то, что во дворе лежал солидный запас дров, а в кладовой оставалось много керосина, что в то время для Темникова являлось большой ценностью. Известным достоинством оказалось существование кухни и столовой, а по распоряжению Наробраза, начиная с этого учебного года, во всех школах вводились горячие завтраки-обеды. Для многих школ отсутствие специальных помещений как для приготовления, так и для приёма пищи оказалось серьёзным препятствием в решении этого вопроса.
С середины января 1919 года и в Саровской, а ныне 3-й советской трудовой Темниковской школе можно было начинать занятия. Составлены и объявлены списки учеников, зачисленных в эту школу, среди них оказался и Боря Алёшкин. Почему он попал в число учеников этой школы, тогда как все его друзья оказались в школе первой ступени, размещавшейся в здании бывшей женской гимназии, сказать трудно, но так уже получилось.
Такая «несправедливость» очень огорчила Алёшкина, и только то, что заведующей этой школой оказалась бабуся, понявшая его обиду и объяснившая ему, что его пребывание в школе, в которой ей приходится быть заведующей, поможет ей лучше освоиться с новой должностью, его успокоило.
Бабуся сказала внуку:
– Будет среди новых людей хоть один свой человек…
Все ученики должны были явиться в школу 12 января: предполагалось, что пока будет заканчиваться учительский съезд, они приведут в порядок классы и с 15 января можно будет начать нормальные занятия.
Обегав все помещения школы, увидев разрушения и хаос, который мы описали выше, все ребята страшно возмутились. Одним из организаторов этого возмущения был Алёшкин. Первое, что они сделали, и это были в основном ученики четвёртого класса, в который зачислили и Борю Алёшкина, – явились в Наробраз и потребовали, чтобы их оставили в прежних школах, а услышав категорический отказ, также категорически заявили, что объявляют забастовку и в эту «саровскую иезуитню» ходить не будут.
Прошло несколько дней. «Забастовщики» увидели, что никто им уступать не собирается, а ученики других классов уже заканчивают уборку своих классов, и у них начался разброд, и уже многие стали поговаривать о том, как бы попочётнее сдаться. А тут ещё и бабуся, поймав Борю и компанию его ближайших соратников, пристыдила их и припугнула, что если они из-за своих фокусов не смогут начать занятия вместе со всеми, то их, вероятно, в будущем году не переведут в следующий класс, придётся лишний год пробыть в этой же Саровской школе. Это сломило упрямых ребят, и уже на следующий день они с азартом принялись приводить в порядок свой класс.
Глава двадцать первая
5 января 1919 года Мария Александровна Пигута писала сыну: «Милый Митя! Спешу поблагодарить за присылку денег (1700 руб.), но очень боюсь, что ты этим ограничиваешь себя. Тебе при твоём здоровье тоже бы нужно хорошее питание, а у вас там с продуктами ещё хуже, чем здесь. Здесь мы теперь бьёмся из-за керосина, уже не говоря о дровах и других продуктах, цена на которые всё растет. Впрочем, местные деятели не унывают: всячески поощряют всевозможные виды увеселений, устраивают грандиозный съезд учителей для выслушивания докладов делегатов, ездивших в Тамбов, в Москву с информационными целями. В данную минуту съезд в полном разгаре, учительство, распустив учеников, проводит на нём целые дни, а с 7 января нов. стиля начнутся лекции московских лекторов для ознакомления учительства с новыми взглядами и приёмами преподавания и воспитания. Всё это очень интересно, но утомительно. Не знаю, сколько времени продлятся лекции-курсы и скоро ли возобновятся занятия в школах. Впрочем, мы теперь живём в такое волшебное время, когда не знаем, что будем делать через неделю и что с нами будет. <…> На съезде часто упоминалось о богатстве Демидовской библиотеки, поступившей в местный Пролеткульт. <…> По-прежнему лучшими моими друзьями всё-таки остаются Стасевичи, у них, кроме Юры, прелестная маленькая дочка Ванда, ровесница твоему Косте. Обнимаю тебя крепко, мама».
Выдержки из письма Марии Александровны показывают, как старательно она бережёт своего сына, ни словом не обмолвится ни о продолжающихся распрях с Еленой, ни о развитии своего заболевания. А она в это время чувствовала себя уже совсем плохо. При сравнении этого её письма с предыдущими уже видно, что даже почерк у неё изменился. Однако она продолжает писать обо всём, не упоминает лишь о себе. Чувствуется, что она переживает за растущих у неё ребят. Видит, как они не получают даже самого необходимого, и это ещё больше угнетает её и ухудшает её самочувствие.
Вместе с тем, несмотря на некоторую иронию в отношении вводимых в школах новшеств и вообще новаций, появившихся в жизни после революции, видно, что она по-настоящему заинтересована этим новым.
Ничего не написала Мария Александровна сыну и про «бунт» учеников, организованный её внуком, хотя это происшествие отняло у неё немало сил и нервов.
Так или иначе, занятия в 3-й советской трудовой школе 1-й ступени в Темникове в 1919 году начались одновременно со всеми другими школами города. Следует отметить, что в этой школе, как, впрочем, и во всех других, плата за обучение не взималась. Вообще-то, в тот учебный год занятия в школах проходили очень неорганизованно. Преподаватели, наслушавшись разных лекций, не имели, однако, конкретных новых программ; они строили свои уроки и ломали старые программы кому как заблагорассудится, увязки между разными предметами не искали или не находили, и каждый тянул кто во что горазд. Мария Александровна старалась создать в своей школе какое-то единое мнение, единый подход к перестройке старых программ (об этом свидетельствуют сохранившиеся её записки), но это ей удавалось плохо, хотя она и отдавала этому массу сил и времени, чуть ли не ежедневно проводя различные совещания своих учителей.
Многие преподаватели никак не могли найти верного подхода к ученикам и иногда просто не знали, как себя с ними держать. А последние, соединённые из различных школ, значительно отличаясь друг от друга как по возрасту, так и по уровню знаний, представляли для педагогов очень сложный материал. При составлении списков ученики соединялись в классы чисто механически, и к тем, кто учился регулярно, теперь добавились и ранее исключённые второгодники, и те, кто не учился, не имея возможности вносить плату за обучение, и в результате был вынужден пропустить несколько лет. Поэтому в 4-м классе 1-й ступени, где учился Боря Алёшкин, одновременно с его товарищами по гимназии, его одногодками (11–12-летними мальчишками) оказались и ребята в возрасте 14–15 лет. Конечно, это создавало дополнительные трудности в управлении учебным процессом, и многие, особенно молодые педагоги, а таких было большинство, просто терялись. На их уроках творилось иногда нечто невообразимое. Нередко они срывались. Ученики, возглавляемые кем-либо из наиболее отчаянных великовозрастных заправил, демонстративно уходили из школы. Такое положение имелось и в других школах, и даже во второй ступени.
Против этих нарушений дисциплины и порядка такие учителя, как Мария Александровна, боролись всеми доступными им способами, помогали молодым учителям, беседовали с учениками, пытались собирать и родителей; на всё это уходило много времени и сил. Кроме того, Наробраз, стараясь помочь педагогам, собирал их на различные лекции и семинары, отрывая их от учебного процесса на несколько дней. В эти дни ученики предоставлялись самим себе и, пользуясь свободой, переворачивали в классах всё вверх дном.