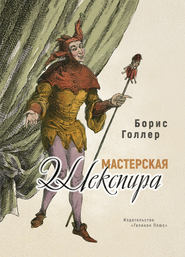По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Возвращение в Михайловское
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А безумная женщина с прекрасными обнаженными ногами вставала над пляжем, над миром, возносилась – как знак судьбы. Мир был прекрасен, солнце сияло, улыбался берег… (Было начало предвечерья, время прилива, и легкий бриз, точно смеясь, поигрывал цветными парусами зонтов.)
Ноги были стройны – чуть тонковаты, пожалуй, при таких бедрах… но, впрочем… может, корсет?.. – они были необыкновенно нежны. Воздух пел в них, их гладкая кожа отдавала нездешним теплом и светом – прелестью непреходящей жизни… Кажется, светилось само Бытие: пляж, море солнце – и ноги женщины, сквозь которые течет свет, неизвестно когда и почему озаривший нашу утлую планетишку и сочетавший ее, беспутную, с Богом, чтоб после, когда-нибудь – исчезнуть вместе с ней. Для того, чтоб мы ощутили свет – необходимо, чтоб он освещал нечто – необыкновенно значащее для нас.
«Ах, ножки, ножки, где вы ныне? – Где мнете вешние цветы?..» Куда девалось это все – ноги, песок, земля – по которой они ступали?.. Куда девается? Наш след на земле, на самом деле, куда слабей, чем последнее дыхание на зеркале, которое так быстро истаивает на чьих-то глазах. Которым, впрочем, тоже суждено истаять. Куда девались эти ноги, вызывавшие такое безумное восхищение и такое безудержное желание, которое тащило нас за собой, как плен ников, как данников – на вервии страсти, влекло – куда больше, признаемся, куда мощней – чем даже власть и слава – чем даже искусство!.. Мне сказали как-то о женщине, что была знаменита в теперь уже прошедшем веке тем, что сотрясала сердца: «Боже мой! Эти воспетые поэтами ноги – превратились в колоды!» (Кстати, в колоды превратились, по воспоминаниям – и знаменитые ноги Натальи Николавны Пушкиной, когда она давно уж была Ланской – а первый ее муж давно исчез в могиле.) Что такое жизнь – как не послеполуденный отдых фавна, который зовется Смерть – и который лишь один обречен на бесконечное время?» И теперь это легкое дыхание развеялось в мире…» С годами начинаешь бояться – переулков любви, улиц своего детства и юности, и проходишь быстро-быстро, опасаясь, чтоб кто-нибудь здесь не узнал тебя – а больше, чтоб сам ты не узнал кого-то… Улица течет, обдавая жаром ушедшего и глумясь над тобой сегодняшним блеском… А ты все страшишься: вдруг за поворотом возникнет какая-нибудь Она. Тяжело волоча к неизбежному эти ноги-колоды, те, что снились некогда без разбора – всем без исключенья: юнцам – от одиннадцати лет и до бесконечности, до совсем старости – на этой улице, на других… Сон-явь, сон-явь – оставьте меня с вашим снами! «Что вы все твердите: время проходит! – это вы проходите!» – мудрость, восходящая к царю Соломону – а может, и дальше вглубь? – нашей неказистой, странной, печальной, прекрасной – и слишком всерьез, увы! – воспринимаемой нами жизни на этой жалкой лодчонке, на острове Робинзона, затерянном в океане миров, к которому (утешительная ложь!) – на самом деле, никогда не пристанет ни один корабль вселенной.
Где-то 25-го или 26-го июля 1824 года, 10-го класса Пушкин А. С., чиновник канцелярии генерал-губернатора – шел берегом моря в Одессе и мрачно ругался – про себя, а иногда вслух, как бывало с ним, когда он был уж совсем бешен: – Пошел прочь, дурак! – вскрикивал он вдруг, так, что встречные оборачивались и могли принять за сумасшедшего, или: – Ага! Он ревнует ее – старый пес, он ревнует!.. К счастью, не встретился никто из знакомых. Прохожие удивились бы еще боле, если б узнали – кому адресовалось это все: лично губернатору Новороссийскому и наместнику Бессарабскому – его высокопревосходительству графу Воронцову. Теперь Александр точно знал – его изгоняют из Одессы. Только что Вигель Филипп Филиппыч, который был в доверительных отношениях с наместником, а значит, и с Казначеевым, начальником канцелярии, узнал из первых рук и поведал ему, что разрешение из Петербурга прибыло, приказ подписан – и теперь уж дело дней. Его высылают на Псковщину, в имение родителей. Вигелю он верил – они были дружны, – правда, с Вигелем, в силу некоторых причин, не так-то просто было быть дружным, но… Александр, судя по всему, принадлежал к исключениям. – Наверное, Вигель считал, что молодой человек по-своему сострадает ему, а этот весьма остроумный, изощрившийся в остроумии – правда, более всего на чужой счет, господин (свойство, часто делающее человека скучным донельзя!) – почти не мог скрыть, что нуждается – именно в сочувствии и сострадании. На самом деле, Александру он был, скорей, любопытен – тот просто дивился ему: Вигель был в обществе известен как «тетка», – так чаще называли тогда – то есть, мужеложец, – неспособный даже к браку, что в обществе, надо сказать, не поощрялось. (Там – греши, сколько хочешь и как хочешь, но брак обязан покрывать все!). Правда, Вигель был из тех немногих в этом своем качестве, кто почитал себя несчастным и страдал от себя… и, вместе с тем, с надменностию и сардонически усмехался – давая понять, что, несмотря на трагичность сего обстоятельства – собеседник его или собеседники являют полную неосведомленность в пред мете и какую-то детскую наивность. Александр же – так любил и почитал Женщину вообще – что просто не мог понять, как такому наслаждению можно предпочесть что-то… Несмотря на шестьсотлетнее дворянство, коим он кичился, признаться, к месту и не к месту – Александр был в чем-то очень прост, даже мужиковат – и ничегошеньки не смыслил в поэтике однополой любви… У них даже споры выходили по этому поводу. Вигель узнал еще, что на почте распечатано какое-то его, Александра, письмо, которое показалось властям неблагонамеренным, и, притом, настолько – что было показано государю или кому-то там еще, на самом верху. И теперь его, Александра, планам, которые Вигель знал, – а он по наивности, не скрывал, и не только от Вигеля, – расплеваться с Воронцовым, выйти в отставку, а там застрять в Одессе, предавшись целиком литературе – можно сделать ручкой. Вигель, хоть откровенно (и искренне), в свой черед сопереживал ему, – но, как всякий смертный, кто в данный момент и в данных обстоятельствах – оказался в чем-то выше или удачливей нас, – не обошелся без нотаций: как следует вести себя с сильными мира сего, с тем же Воронцовым. (Во-первых, не называть его, да так, чтоб все слышали – Уоронцовым! – что несомненно докладывают графу – при всей своей аглицкой складке и даже английском либерализме, которыми он славился – как всякий почти российский чиновник, граф призревал стукачей… Не мы придумали этот мир, каков он есть, и не нам дано что-нибудь изменить, почтеннейший Александр Сергеич!).
– Он отослал ее, нарочно, чтоб провернуть это дельце!.. Чтоб все свершилось без нее! При ней бы он не смог!.. И для того, чтоб мы больше не свиделись!..
Эта мысль не только угнетала его, она была ему приятна. Слаб человек! Тщеславие забивает в нем все прочие чувства. Всесильный губернатор, наместник царя (почти наместник Бога) на всем русском юге – вынужден считаться с существованием в своей жизни – и жизни собственной жены – кого? Чиновника 10 класса из собственной канцелярии!.. – Такое могло привести и не только Александра в состояние какой-то возбужденной гордости. Но страх – что он больше не увидит ее…
– Он ревнует, это точно!.. Александр прилаживался к этой мысли. Он ласкал ее и страдал. – Если б только не надо было уезжать!..
Елизавета Ксаверьевна – жена Воронцова уехала – с месяц назад погостить к матери, в Белую Церковь. Она была урожденная графиня Браницкая – и род ее шел от тамошних гетманов – Белая Церковь была их семейным гнездом… Александр мог подумать. что этот отъезд – показавшийся ему, впрочем, еще тогда поспешным, загадочным – как-то связан с его неприятностями.
Может, он догадался, что она меня любит?.. Любит! – Поворот, который за ставил его улыбнуться! Воронцов все понял. Я любим!.. Любим! Он боится, чтоб ему не наставили рога! Он – рогоносец! «И рогоносец величавый – Всегда довольный сам собой…» Грусть и бешенство вдруг сменились улыбкой. Ненадолго, конечно. Он меня высылает, высылает!.. Этот известный всей России либерал состряпал на меня донос!.. Сделал все, чтоб избавиться… И от кого? От любовника собственной жены!.. – Он увлекался, разумеется! Он не был пока любовником Воронцовой, и мало что предвещало, что станет им. Был просто молодой человек, который почитал себя выше – и даже наместника юга – потому что был моложе, и это как бы давало ему право… Подлость Воронцова была в этом случае в некотором смысле приятна ему: как бы избавляла от нравственных обязательств. Хотя, скажем прямо – он был в том возрасте, когда эти обязательства на нас мало влияют. Бешенство – и улыбка. Улыбка и бешенство… Вместе с обидой его грела мысль, что симпатии графини к нему, в какой-то мере, решили его судьбу… «Старый муж, грозный муж – режь меня, жги меня!..»
Может, когда-нибудь он вспомнит эту свою прогулку по пляжу в Одессе – и посокрушается. Может, сам, испытавши ужас бессилия старшего годами перед неким молодым наглецом – поймет, что должен был тогда испытывать другой – которого он сейчас так истово ненавидел, – кто знает? Хотя вряд ли, вряд ли – смена позиций переменяет с неизбежностью – и все наши ощущения.
…и в этот момент он увидел ноги. Те самые – на берегу. – Впрочем, сейчас на них смотрели все. Женщина играла с волнами, как играют с огнем, – и Александр, как ни странно, тотчас узнал ее по ногам, хотя ни разу в жизни не видел их вживе – они всегда были под платьем. Ну, может, разве поворот фигуры… Эта сцена тотчас напомнила ему другую… о ней как-нибудь потом, потому что и Александр, вспомнив (это было, как укол), почти тотчас позабыл – то, другое… Женщина была княгиня Вера. Вяземская, к сожалению – то есть, жена друга. Обстоятельство, которое, увы! (хоть он порой и сожалел!) – значило для него слишком много. Он понял, и до вольно рано, что явился в мир, где все по-настоящему прекрасные женщины уже заняты, и должна начаться война за передел… Но друг, друзья… (Он верил, что друзья готовы – За честь его принять оковы. – Что есть избранные судьбами… – Ну и так далее. Тут он был пурист.) Княгиня недавно приехала в Одессу – была его конфиденткой – и они лишь церемонно прогуливались вдоль пляжа, видались почти ежедневно и были дружны. И все!.. Кстати, Вера Федоровна брала в эти дни и полное участие в тяжких Александровых обстоятельствах. (Не скажем, что княгине Вере после обошлось слишком дорого это ее «свободное падение» на глазах у всего одесского пляжа, выразившееся в омовении безупречно узких лодыжек в морской воде на глазах у восхищенных зрителей – но пару неприятных минут оно ей принесло. Мужу, конечно, доложили, и очень скоро, и он, что называется, заскучал. Он после уверял всех, что сам, беспокоясь о друге-Александре – послал княгиню Веру к нему на юг, дабы как-то помочь юноше среди сгустившихся туч. Более того, он и верил всю жизнь – что все так и было. На самом деле, с женой они поссорились из-за амурных похождений князя, который, несмотря, что был безупречный семьянин, не мог пропустить ни одной юбки – от семнадцати и до сорока… Нет-нет, он верил жене и был почти в убеждении, что она не изменяет ему. – Немногие в свете в та поры могли похвастать подобной уверенностью! И что у нее с Пушкиным ничего не было – и боле того, не могло быть. Но частое общение жены с Александром – там, вдали (о чем она не уставала регулярно уведомлять мужа – была такая игра!) – да еще известие об этом купании на глазах у всего пляжа – невольно привело князя к мысли – что втайне Вера все ж увлеклась там Пушкиным, и может даже, желала его – ну, хотя бы, мгновениями, согретая южным солнцем и жаркими виденьями, и на грани чувств материнско-сестринских – и иных, какие порой, и в самые неподходящие минуты, просыпаются в нас. Князь, по возвращении, сделал ей замечание только вскользь, касательно эпизода с волнами – говоря лишь, разумеется, о примере, какой мать подает детям – а сам впал в мрачность, и несколько времени – неделю или две – в ней пребывал, – уловленный терпкостью бытия и обманностью и несовершенством мира… Он даже попытался писать стихи о превратностях любви, но стихи не шли, князь, хоть и ходил издавна в поэтах (куда раньше Пушкина, ибо был старше), про себя-то понимал, что от природы слишком рационален, – и чаще норовил сбежать от стихов к другой подруге – прозе: точной, благозвучной, но слишком рассудочной. Тут он в России ходил в монтенях и слабо утешался сим. А в стихах… еще были Жуковский, Пушкин, – не обойти, и это раздражало.)
Александр помедлил и сбежал к берегу.
– Вы прекрасны, – сказал он княгине Вере – и почти без стеснения. – Вы пре красны!.. – И ощутил, как под шляпой с полями – краснеют уши. Он был влюблен в нее сейчас, он был влюблен во всех – в мир женщин в свете южного солнца, едва открывавшийся сей миг в ее узких лодыжках и гордых икрах. Солнце клонилось ниже – и почти стекало по ее ногам.
– А меня вы совсем не хотите замечать? – спросил чей-то голос сзади – он по воротился к череде цветных зонтов над шезлонгами, и узрел ее. Он не поверил, он едва не отпрянул – как от призрака. Графиня Воронцова была под одним из них – совсем близко – шаг, два?.. А как же Белая Церковь, замок Браницких?
– Вы уже приехали? – спросил Александр – не слыша собственного голоса. В ее карих глазах, сейчас, при свете – казавшихся совсем светлыми – была жизнь. С которой он почти расстался, которой он не заслужил. У него кружилась голова. Он подошел…
– Милая, – сказал он без всякой робости и не заботясь о приличиях. – Милая!..
Он уезжал, он прощался… Ему было нечего терять.
– Милая! – и приник к руке на поручне шезлонга. Сумасшедшей руке, все счастье. Я сошел с ума. Вы сошли с ума. Мы сейчас сойдем… Спятивший мир смотрел на него, щурясь от солнца.
– Я сейчас приду к вам! – крикнула им княгиня Вера – крик упал в пустоту, что внезапно окружила двоих.
– Так они пришли вместе? – успел подумать Александр, умирая.
– Я все знаю!.. – сказала графиня. – Его ни в чем нельзя убедить! Мужья слишком упрямы. Вы это поймете – когда станете мужем. А может, напротив, перестанете понимать!.. – она улыбалась. В улыбке была печаль – или что-то другое, еще более нежное и сладостное. Он не знал, что – но понял: они заодно.
– Милая! – повторил он. – Единственная. – и снова поцеловал ей руку. – Я думал – уже не увижу!.. Он был отчаян. Он впервые говорил ей все, что думал. А может, не только ей… Впервые! Все-все!.. Зачем вы здесь? – шло где-то в глубине. – Зачем? Чтоб я понял, что расстаюсь с этой нелепой жизнью?..
И ощутив, что сейчас он скажет и это – вообще все: о ней, о себе, и даже о ее муже – он умолк. Война за передел!.. В этой войне он проиграл!..
– Вы знаете Люстдорф, вы бывали там?.. – спросила она. Люстдорф!.. Зачем? Что сказать? Ах, нет, он не бывал. А теперь уж вряд ли. И при чем тут – Люстдорф?
– А зря! Это – немецкая колония, там очень красиво!..
– В этом мире – красивы только вы! – решился он…
– Да? А княгиня Вера? Вы переменчивы, мой друг. И вы несправедливы!..
Это был упрек. И это было ревниво… Упрек женщины, знающей себе цену… но кто в мире – может быть уверен до конца в собственной цене? Было что-то горькое в ее словах. Горечь, тайна…
– Поезжайте!.. – сказала она. – А то… может, долго не увидите! – она смотрела как-то странно. – Хоть завтра с утра. Вот, завтра с утра – и поезжайте. А то потом вдруг не успеть!..
А лучше сегодня. Как вам нравится – такая мысль?.. Сегодня, ввечеру. Берите извозчика. Остановитесь на ночлег – у каких-нибудь тихих немцев… Где вас никто не знает!..
Он ждал в безмыслии. Полном. Ничего не понимая, не соображая…
– А завтра днем… – она помедлила. – Где-нибудь – часа в два… выходите на берег. Ну, туда, куда прибывают экипажи!..
– И все? – спросил он жалобно. Тоном полного идиота.
– И все. А что еще может быть? – княгиня даже пожала плечами от его глупости. – Ничего! (повторила). – Княгиня Вера, вы готовы?.. (Вера Вяземская подошла незаметно. То есть, может, кто-то и заметил – только не он.) И мне пора! Меня ждут!..
Он машинально потянулся губами к двум женским рукам – и не был уверен, какая – чья… Они простились с ним и пошли. Он остался стоять, тупо глядя вслед. Две женские фигуры – две молнии в очах. Но он больше не думал – и даже о Красоте. Их фигуры покачивались в глазах вместе с зонтами, и сами были как бы частью зон тов. Он ничего не понимал, он не знал главного. Что это было – ее слова?…или игра воображения сыграла с ним злую штуку?.. Сыграла с ним. Судьба. Выкинула. Отмочила. Что он мог ей дать?.. У него ничего не было. 10 класса Александр Пушкин. Дочь графов Браницких – бывших польских гетманов. Жена Воронцова, наместника. Война за передел? Но у него ничего не было. Разоряющиеся имения. Отец, который вечно жалеет денег. Ничего – кроме слов. Слова, слова… Он один знал их смысл – их звучание и их значение. Больше никому это было не нужно. Кроме нескольких… Избранных. Избранников богов – или просто безумцев бедных?..
Где-то в мозгу горела одна точка. И у нее было имя. Немецкое почему-то: Люстдорф! Еще вчера он не слышал о нем – или оно не несло для него никакого смысла.
V
Его Вечность была краткой – всего два часа. Ну, два десять, если точно. Он после не мог вспомнить – как она приехала. Как спрыгнула со ступеньки экипажа – в большой шляпе с полями и под густой вуалью. Сошла на берег. (Берег совсем ушел из памяти – проснулся, и нет.) Он, верно, подал ей руку, а сам отпустил эки паж… Он не помнил. Как шли вдоль берега, кажется, молча – а после повернули к домам – где был один, который их ждал. Он в вечер перед тем снял комнату с отдельным входом и до ночи бродил по ней из угла в угол, пытаясь представить себе… А что он мог представить?
«Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем…»
Может, он ошибся? И это было не назначение свидания – а просто… Что – просто? Шутка? Разве так шутят? (Он сознал свою неопытность.) А может, так принято шутить (или так приличествует) – в том кругу, где была она своей, а он еще не был своим и пока сторонен (слово «маргинал» – «маргинальный» – не входило тогда в язык, коим он владел… Все равно! в том кругу он несомненно был пока – «маргинал»). Или просто хотела подарить ему счастье ожиданья?.. Да-да!.. можно отдать жизнь – и за это счастье: ждать ее. Бесплодно? Кто сказал – бесплодно?.. А вдруг что-то помешает ей приехать? Свободно – может что-то помешать! За боты, свет, муж… Их столько разделяло в мире! Он даже не помнил, как ждал на берегу – пока не возник вдали экипаж из Одессы. Черная точка – надвигаясь и вырастая. Долго: две жизни – три… Главное, чтобы это в самом деле – оказалась она! А покуда они шли, и входили, и невольно (раз или два) оглянулись – им никто не встретился. Немецкие дети играли во дворе – и даже не поглазели им вслед. Воспитанный народ – немец, ничего не скажешь! – не то, что…
«…пророческие видения головы своей на ложе своем…»
Он только не ждал, что все выйдет так просто! Что она поцелует его сама и прижмется на миг сама – будто оттаивая: привыкая. Желая убедиться – что это он и есть. И после быстро-быстро начнет раздеваться – не стесняясь… И даже не бросив для приличия женского – «Отвернитесь!»… Словно это уже было – или могло быть всегда. Будто, как он, считала минуты до встречи – а теперь… торопитесь! – снам приходит конец, за ними – пустота, пробужденье. Он готов был закричать: – Нет! Так не может быть! Воистину! Так не мо-ожет!..
«Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, грозная, как полки со знаменами?..»
Он умер и видел сон. Говорят, больной еще слышит, как врач над ним свидетельствует его смерть… А потом он попал в рай, его охватила волна, окатила… и волны рая закачали его в ладонях своих. (Почему все эти дни в его душе мысль о смерти так часто была мыслью о жизни?..) Жизнь толкнула его в это небытие – в объятья, которым не дано было сбыться, и может, не надо было сбываться…
Бог потрудился на славу, и труды его были хороши. Это далось ему не легче, наверно – чем соловьиное горло с трелями – так, чтоб их извлекала из чрева своего, на утеху нам, соловьиная ночь со звездами…
Создатель спорил сперва с розоватым мрамором – верно, тем самым, что древние, не верившие в него, греки добывали руками молчаливых рабов в мрачных, полных нечистот, каменоломнях на Кипре, неподалеку от города Пафос, где безумный скульптор Пигмалион сотворил свою Галатею – такой, что она могла ожить – или была уже живой в камне. Из того мрамора были плечи и руки, словно вырубленные в скале, по склону которой тек виноградник… И две молодые полные виноградные грозди, словно проросши из мрамора – сползли с плеча, дыша бродящим вином и молодой кровью… «Волосы твои, как стадо коз, сходящих с Гала ада…» Когда она отвернулась, чтоб вынуть гребни, как-то враз выпавшие из волос – и швырнуть их в груду белья и платья на кресле – две продолговатых апельсиновых доли качнулись над ногами – и в такт ногам, и ноги стекли вниз, как две молочные реки в кисельных берегах или как два весла, спущенные на воду – и ушли, как в воду – в коврик на полу, где выцветшая Гретхен в белом порыжевшем чепчике все подливала и подливала из кувшина безвкусное немецкое молоко кому-то, кого не было видно… «…как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними…» Живот был тоже чуть розовый и подрагивал на ходу – будто нежные овцы шли по склону горы – гордяся руном, которого еще не коснулся жадный Язон, но за которым бессомненно имело смысл плыть в Колхиду… Где-то посреди живота руно сворачивалось – и сходилось тонкой нитью. Золотой пушок полз стрелочкой – от пупка вниз, словно указуя… И там, в самом низу, меж золотых овец – пряталась маленькая и черненькая.
– Не смотрите так на меня! – сказала она. И, уже улегшись рядом: – Не смотри так – я заплачу!..
Слов не было. Ни стихов! Их больше не надо было писать! Зачем?.. Лучшее было уже вписано в Божью книгу. И соловьиные трели замерли в горле Пушкина.
Он в постели почему-то вырастал – казался длинней, чем был. (Это ему не раз говорили.) Небольшого роста, почти невзрачный в одеждах, – в постели, нагим – он делался необыкновенно строен. Худенький мальчик, впервые оставшийся наедине с женщиной. Если б не эти черные – незнамо куда вечно разбегавшиеся по щекам бакенбарды… он и вовсе казался б – совращенным мальчишкой. Скорей всего, это именно в нем и привлекало. Худые длинные бедра, чуть вогнутые от худобы – и необыкновенно сильные руки – с бесконечными в длину – тонкими пальцами музыканта, которые хотелось ломать, как тросточку… он их часто и ломал – стискивал до хруста, и это всех раздражало. Только ногти, которые он столь любовно отращивал зачем-то (из вызова?) – заставляли женщин в его объятиях опасаться, что он их поранит – а мужиков и баб в деревнях считать его чуть не дьяволом…
– Не бойтесь! – сказала она ему. – Не бойся! – как маленькому. И даже успокоила его: – Это я виновата! Я так хотела! Ты тут ни при чем!..
Ноги были стройны – чуть тонковаты, пожалуй, при таких бедрах… но, впрочем… может, корсет?.. – они были необыкновенно нежны. Воздух пел в них, их гладкая кожа отдавала нездешним теплом и светом – прелестью непреходящей жизни… Кажется, светилось само Бытие: пляж, море солнце – и ноги женщины, сквозь которые течет свет, неизвестно когда и почему озаривший нашу утлую планетишку и сочетавший ее, беспутную, с Богом, чтоб после, когда-нибудь – исчезнуть вместе с ней. Для того, чтоб мы ощутили свет – необходимо, чтоб он освещал нечто – необыкновенно значащее для нас.
«Ах, ножки, ножки, где вы ныне? – Где мнете вешние цветы?..» Куда девалось это все – ноги, песок, земля – по которой они ступали?.. Куда девается? Наш след на земле, на самом деле, куда слабей, чем последнее дыхание на зеркале, которое так быстро истаивает на чьих-то глазах. Которым, впрочем, тоже суждено истаять. Куда девались эти ноги, вызывавшие такое безумное восхищение и такое безудержное желание, которое тащило нас за собой, как плен ников, как данников – на вервии страсти, влекло – куда больше, признаемся, куда мощней – чем даже власть и слава – чем даже искусство!.. Мне сказали как-то о женщине, что была знаменита в теперь уже прошедшем веке тем, что сотрясала сердца: «Боже мой! Эти воспетые поэтами ноги – превратились в колоды!» (Кстати, в колоды превратились, по воспоминаниям – и знаменитые ноги Натальи Николавны Пушкиной, когда она давно уж была Ланской – а первый ее муж давно исчез в могиле.) Что такое жизнь – как не послеполуденный отдых фавна, который зовется Смерть – и который лишь один обречен на бесконечное время?» И теперь это легкое дыхание развеялось в мире…» С годами начинаешь бояться – переулков любви, улиц своего детства и юности, и проходишь быстро-быстро, опасаясь, чтоб кто-нибудь здесь не узнал тебя – а больше, чтоб сам ты не узнал кого-то… Улица течет, обдавая жаром ушедшего и глумясь над тобой сегодняшним блеском… А ты все страшишься: вдруг за поворотом возникнет какая-нибудь Она. Тяжело волоча к неизбежному эти ноги-колоды, те, что снились некогда без разбора – всем без исключенья: юнцам – от одиннадцати лет и до бесконечности, до совсем старости – на этой улице, на других… Сон-явь, сон-явь – оставьте меня с вашим снами! «Что вы все твердите: время проходит! – это вы проходите!» – мудрость, восходящая к царю Соломону – а может, и дальше вглубь? – нашей неказистой, странной, печальной, прекрасной – и слишком всерьез, увы! – воспринимаемой нами жизни на этой жалкой лодчонке, на острове Робинзона, затерянном в океане миров, к которому (утешительная ложь!) – на самом деле, никогда не пристанет ни один корабль вселенной.
Где-то 25-го или 26-го июля 1824 года, 10-го класса Пушкин А. С., чиновник канцелярии генерал-губернатора – шел берегом моря в Одессе и мрачно ругался – про себя, а иногда вслух, как бывало с ним, когда он был уж совсем бешен: – Пошел прочь, дурак! – вскрикивал он вдруг, так, что встречные оборачивались и могли принять за сумасшедшего, или: – Ага! Он ревнует ее – старый пес, он ревнует!.. К счастью, не встретился никто из знакомых. Прохожие удивились бы еще боле, если б узнали – кому адресовалось это все: лично губернатору Новороссийскому и наместнику Бессарабскому – его высокопревосходительству графу Воронцову. Теперь Александр точно знал – его изгоняют из Одессы. Только что Вигель Филипп Филиппыч, который был в доверительных отношениях с наместником, а значит, и с Казначеевым, начальником канцелярии, узнал из первых рук и поведал ему, что разрешение из Петербурга прибыло, приказ подписан – и теперь уж дело дней. Его высылают на Псковщину, в имение родителей. Вигелю он верил – они были дружны, – правда, с Вигелем, в силу некоторых причин, не так-то просто было быть дружным, но… Александр, судя по всему, принадлежал к исключениям. – Наверное, Вигель считал, что молодой человек по-своему сострадает ему, а этот весьма остроумный, изощрившийся в остроумии – правда, более всего на чужой счет, господин (свойство, часто делающее человека скучным донельзя!) – почти не мог скрыть, что нуждается – именно в сочувствии и сострадании. На самом деле, Александру он был, скорей, любопытен – тот просто дивился ему: Вигель был в обществе известен как «тетка», – так чаще называли тогда – то есть, мужеложец, – неспособный даже к браку, что в обществе, надо сказать, не поощрялось. (Там – греши, сколько хочешь и как хочешь, но брак обязан покрывать все!). Правда, Вигель был из тех немногих в этом своем качестве, кто почитал себя несчастным и страдал от себя… и, вместе с тем, с надменностию и сардонически усмехался – давая понять, что, несмотря на трагичность сего обстоятельства – собеседник его или собеседники являют полную неосведомленность в пред мете и какую-то детскую наивность. Александр же – так любил и почитал Женщину вообще – что просто не мог понять, как такому наслаждению можно предпочесть что-то… Несмотря на шестьсотлетнее дворянство, коим он кичился, признаться, к месту и не к месту – Александр был в чем-то очень прост, даже мужиковат – и ничегошеньки не смыслил в поэтике однополой любви… У них даже споры выходили по этому поводу. Вигель узнал еще, что на почте распечатано какое-то его, Александра, письмо, которое показалось властям неблагонамеренным, и, притом, настолько – что было показано государю или кому-то там еще, на самом верху. И теперь его, Александра, планам, которые Вигель знал, – а он по наивности, не скрывал, и не только от Вигеля, – расплеваться с Воронцовым, выйти в отставку, а там застрять в Одессе, предавшись целиком литературе – можно сделать ручкой. Вигель, хоть откровенно (и искренне), в свой черед сопереживал ему, – но, как всякий смертный, кто в данный момент и в данных обстоятельствах – оказался в чем-то выше или удачливей нас, – не обошелся без нотаций: как следует вести себя с сильными мира сего, с тем же Воронцовым. (Во-первых, не называть его, да так, чтоб все слышали – Уоронцовым! – что несомненно докладывают графу – при всей своей аглицкой складке и даже английском либерализме, которыми он славился – как всякий почти российский чиновник, граф призревал стукачей… Не мы придумали этот мир, каков он есть, и не нам дано что-нибудь изменить, почтеннейший Александр Сергеич!).
– Он отослал ее, нарочно, чтоб провернуть это дельце!.. Чтоб все свершилось без нее! При ней бы он не смог!.. И для того, чтоб мы больше не свиделись!..
Эта мысль не только угнетала его, она была ему приятна. Слаб человек! Тщеславие забивает в нем все прочие чувства. Всесильный губернатор, наместник царя (почти наместник Бога) на всем русском юге – вынужден считаться с существованием в своей жизни – и жизни собственной жены – кого? Чиновника 10 класса из собственной канцелярии!.. – Такое могло привести и не только Александра в состояние какой-то возбужденной гордости. Но страх – что он больше не увидит ее…
– Он ревнует, это точно!.. Александр прилаживался к этой мысли. Он ласкал ее и страдал. – Если б только не надо было уезжать!..
Елизавета Ксаверьевна – жена Воронцова уехала – с месяц назад погостить к матери, в Белую Церковь. Она была урожденная графиня Браницкая – и род ее шел от тамошних гетманов – Белая Церковь была их семейным гнездом… Александр мог подумать. что этот отъезд – показавшийся ему, впрочем, еще тогда поспешным, загадочным – как-то связан с его неприятностями.
Может, он догадался, что она меня любит?.. Любит! – Поворот, который за ставил его улыбнуться! Воронцов все понял. Я любим!.. Любим! Он боится, чтоб ему не наставили рога! Он – рогоносец! «И рогоносец величавый – Всегда довольный сам собой…» Грусть и бешенство вдруг сменились улыбкой. Ненадолго, конечно. Он меня высылает, высылает!.. Этот известный всей России либерал состряпал на меня донос!.. Сделал все, чтоб избавиться… И от кого? От любовника собственной жены!.. – Он увлекался, разумеется! Он не был пока любовником Воронцовой, и мало что предвещало, что станет им. Был просто молодой человек, который почитал себя выше – и даже наместника юга – потому что был моложе, и это как бы давало ему право… Подлость Воронцова была в этом случае в некотором смысле приятна ему: как бы избавляла от нравственных обязательств. Хотя, скажем прямо – он был в том возрасте, когда эти обязательства на нас мало влияют. Бешенство – и улыбка. Улыбка и бешенство… Вместе с обидой его грела мысль, что симпатии графини к нему, в какой-то мере, решили его судьбу… «Старый муж, грозный муж – режь меня, жги меня!..»
Может, когда-нибудь он вспомнит эту свою прогулку по пляжу в Одессе – и посокрушается. Может, сам, испытавши ужас бессилия старшего годами перед неким молодым наглецом – поймет, что должен был тогда испытывать другой – которого он сейчас так истово ненавидел, – кто знает? Хотя вряд ли, вряд ли – смена позиций переменяет с неизбежностью – и все наши ощущения.
…и в этот момент он увидел ноги. Те самые – на берегу. – Впрочем, сейчас на них смотрели все. Женщина играла с волнами, как играют с огнем, – и Александр, как ни странно, тотчас узнал ее по ногам, хотя ни разу в жизни не видел их вживе – они всегда были под платьем. Ну, может, разве поворот фигуры… Эта сцена тотчас напомнила ему другую… о ней как-нибудь потом, потому что и Александр, вспомнив (это было, как укол), почти тотчас позабыл – то, другое… Женщина была княгиня Вера. Вяземская, к сожалению – то есть, жена друга. Обстоятельство, которое, увы! (хоть он порой и сожалел!) – значило для него слишком много. Он понял, и до вольно рано, что явился в мир, где все по-настоящему прекрасные женщины уже заняты, и должна начаться война за передел… Но друг, друзья… (Он верил, что друзья готовы – За честь его принять оковы. – Что есть избранные судьбами… – Ну и так далее. Тут он был пурист.) Княгиня недавно приехала в Одессу – была его конфиденткой – и они лишь церемонно прогуливались вдоль пляжа, видались почти ежедневно и были дружны. И все!.. Кстати, Вера Федоровна брала в эти дни и полное участие в тяжких Александровых обстоятельствах. (Не скажем, что княгине Вере после обошлось слишком дорого это ее «свободное падение» на глазах у всего одесского пляжа, выразившееся в омовении безупречно узких лодыжек в морской воде на глазах у восхищенных зрителей – но пару неприятных минут оно ей принесло. Мужу, конечно, доложили, и очень скоро, и он, что называется, заскучал. Он после уверял всех, что сам, беспокоясь о друге-Александре – послал княгиню Веру к нему на юг, дабы как-то помочь юноше среди сгустившихся туч. Более того, он и верил всю жизнь – что все так и было. На самом деле, с женой они поссорились из-за амурных похождений князя, который, несмотря, что был безупречный семьянин, не мог пропустить ни одной юбки – от семнадцати и до сорока… Нет-нет, он верил жене и был почти в убеждении, что она не изменяет ему. – Немногие в свете в та поры могли похвастать подобной уверенностью! И что у нее с Пушкиным ничего не было – и боле того, не могло быть. Но частое общение жены с Александром – там, вдали (о чем она не уставала регулярно уведомлять мужа – была такая игра!) – да еще известие об этом купании на глазах у всего пляжа – невольно привело князя к мысли – что втайне Вера все ж увлеклась там Пушкиным, и может даже, желала его – ну, хотя бы, мгновениями, согретая южным солнцем и жаркими виденьями, и на грани чувств материнско-сестринских – и иных, какие порой, и в самые неподходящие минуты, просыпаются в нас. Князь, по возвращении, сделал ей замечание только вскользь, касательно эпизода с волнами – говоря лишь, разумеется, о примере, какой мать подает детям – а сам впал в мрачность, и несколько времени – неделю или две – в ней пребывал, – уловленный терпкостью бытия и обманностью и несовершенством мира… Он даже попытался писать стихи о превратностях любви, но стихи не шли, князь, хоть и ходил издавна в поэтах (куда раньше Пушкина, ибо был старше), про себя-то понимал, что от природы слишком рационален, – и чаще норовил сбежать от стихов к другой подруге – прозе: точной, благозвучной, но слишком рассудочной. Тут он в России ходил в монтенях и слабо утешался сим. А в стихах… еще были Жуковский, Пушкин, – не обойти, и это раздражало.)
Александр помедлил и сбежал к берегу.
– Вы прекрасны, – сказал он княгине Вере – и почти без стеснения. – Вы пре красны!.. – И ощутил, как под шляпой с полями – краснеют уши. Он был влюблен в нее сейчас, он был влюблен во всех – в мир женщин в свете южного солнца, едва открывавшийся сей миг в ее узких лодыжках и гордых икрах. Солнце клонилось ниже – и почти стекало по ее ногам.
– А меня вы совсем не хотите замечать? – спросил чей-то голос сзади – он по воротился к череде цветных зонтов над шезлонгами, и узрел ее. Он не поверил, он едва не отпрянул – как от призрака. Графиня Воронцова была под одним из них – совсем близко – шаг, два?.. А как же Белая Церковь, замок Браницких?
– Вы уже приехали? – спросил Александр – не слыша собственного голоса. В ее карих глазах, сейчас, при свете – казавшихся совсем светлыми – была жизнь. С которой он почти расстался, которой он не заслужил. У него кружилась голова. Он подошел…
– Милая, – сказал он без всякой робости и не заботясь о приличиях. – Милая!..
Он уезжал, он прощался… Ему было нечего терять.
– Милая! – и приник к руке на поручне шезлонга. Сумасшедшей руке, все счастье. Я сошел с ума. Вы сошли с ума. Мы сейчас сойдем… Спятивший мир смотрел на него, щурясь от солнца.
– Я сейчас приду к вам! – крикнула им княгиня Вера – крик упал в пустоту, что внезапно окружила двоих.
– Так они пришли вместе? – успел подумать Александр, умирая.
– Я все знаю!.. – сказала графиня. – Его ни в чем нельзя убедить! Мужья слишком упрямы. Вы это поймете – когда станете мужем. А может, напротив, перестанете понимать!.. – она улыбалась. В улыбке была печаль – или что-то другое, еще более нежное и сладостное. Он не знал, что – но понял: они заодно.
– Милая! – повторил он. – Единственная. – и снова поцеловал ей руку. – Я думал – уже не увижу!.. Он был отчаян. Он впервые говорил ей все, что думал. А может, не только ей… Впервые! Все-все!.. Зачем вы здесь? – шло где-то в глубине. – Зачем? Чтоб я понял, что расстаюсь с этой нелепой жизнью?..
И ощутив, что сейчас он скажет и это – вообще все: о ней, о себе, и даже о ее муже – он умолк. Война за передел!.. В этой войне он проиграл!..
– Вы знаете Люстдорф, вы бывали там?.. – спросила она. Люстдорф!.. Зачем? Что сказать? Ах, нет, он не бывал. А теперь уж вряд ли. И при чем тут – Люстдорф?
– А зря! Это – немецкая колония, там очень красиво!..
– В этом мире – красивы только вы! – решился он…
– Да? А княгиня Вера? Вы переменчивы, мой друг. И вы несправедливы!..
Это был упрек. И это было ревниво… Упрек женщины, знающей себе цену… но кто в мире – может быть уверен до конца в собственной цене? Было что-то горькое в ее словах. Горечь, тайна…
– Поезжайте!.. – сказала она. – А то… может, долго не увидите! – она смотрела как-то странно. – Хоть завтра с утра. Вот, завтра с утра – и поезжайте. А то потом вдруг не успеть!..
А лучше сегодня. Как вам нравится – такая мысль?.. Сегодня, ввечеру. Берите извозчика. Остановитесь на ночлег – у каких-нибудь тихих немцев… Где вас никто не знает!..
Он ждал в безмыслии. Полном. Ничего не понимая, не соображая…
– А завтра днем… – она помедлила. – Где-нибудь – часа в два… выходите на берег. Ну, туда, куда прибывают экипажи!..
– И все? – спросил он жалобно. Тоном полного идиота.
– И все. А что еще может быть? – княгиня даже пожала плечами от его глупости. – Ничего! (повторила). – Княгиня Вера, вы готовы?.. (Вера Вяземская подошла незаметно. То есть, может, кто-то и заметил – только не он.) И мне пора! Меня ждут!..
Он машинально потянулся губами к двум женским рукам – и не был уверен, какая – чья… Они простились с ним и пошли. Он остался стоять, тупо глядя вслед. Две женские фигуры – две молнии в очах. Но он больше не думал – и даже о Красоте. Их фигуры покачивались в глазах вместе с зонтами, и сами были как бы частью зон тов. Он ничего не понимал, он не знал главного. Что это было – ее слова?…или игра воображения сыграла с ним злую штуку?.. Сыграла с ним. Судьба. Выкинула. Отмочила. Что он мог ей дать?.. У него ничего не было. 10 класса Александр Пушкин. Дочь графов Браницких – бывших польских гетманов. Жена Воронцова, наместника. Война за передел? Но у него ничего не было. Разоряющиеся имения. Отец, который вечно жалеет денег. Ничего – кроме слов. Слова, слова… Он один знал их смысл – их звучание и их значение. Больше никому это было не нужно. Кроме нескольких… Избранных. Избранников богов – или просто безумцев бедных?..
Где-то в мозгу горела одна точка. И у нее было имя. Немецкое почему-то: Люстдорф! Еще вчера он не слышал о нем – или оно не несло для него никакого смысла.
V
Его Вечность была краткой – всего два часа. Ну, два десять, если точно. Он после не мог вспомнить – как она приехала. Как спрыгнула со ступеньки экипажа – в большой шляпе с полями и под густой вуалью. Сошла на берег. (Берег совсем ушел из памяти – проснулся, и нет.) Он, верно, подал ей руку, а сам отпустил эки паж… Он не помнил. Как шли вдоль берега, кажется, молча – а после повернули к домам – где был один, который их ждал. Он в вечер перед тем снял комнату с отдельным входом и до ночи бродил по ней из угла в угол, пытаясь представить себе… А что он мог представить?
«Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем…»
Может, он ошибся? И это было не назначение свидания – а просто… Что – просто? Шутка? Разве так шутят? (Он сознал свою неопытность.) А может, так принято шутить (или так приличествует) – в том кругу, где была она своей, а он еще не был своим и пока сторонен (слово «маргинал» – «маргинальный» – не входило тогда в язык, коим он владел… Все равно! в том кругу он несомненно был пока – «маргинал»). Или просто хотела подарить ему счастье ожиданья?.. Да-да!.. можно отдать жизнь – и за это счастье: ждать ее. Бесплодно? Кто сказал – бесплодно?.. А вдруг что-то помешает ей приехать? Свободно – может что-то помешать! За боты, свет, муж… Их столько разделяло в мире! Он даже не помнил, как ждал на берегу – пока не возник вдали экипаж из Одессы. Черная точка – надвигаясь и вырастая. Долго: две жизни – три… Главное, чтобы это в самом деле – оказалась она! А покуда они шли, и входили, и невольно (раз или два) оглянулись – им никто не встретился. Немецкие дети играли во дворе – и даже не поглазели им вслед. Воспитанный народ – немец, ничего не скажешь! – не то, что…
«…пророческие видения головы своей на ложе своем…»
Он только не ждал, что все выйдет так просто! Что она поцелует его сама и прижмется на миг сама – будто оттаивая: привыкая. Желая убедиться – что это он и есть. И после быстро-быстро начнет раздеваться – не стесняясь… И даже не бросив для приличия женского – «Отвернитесь!»… Словно это уже было – или могло быть всегда. Будто, как он, считала минуты до встречи – а теперь… торопитесь! – снам приходит конец, за ними – пустота, пробужденье. Он готов был закричать: – Нет! Так не может быть! Воистину! Так не мо-ожет!..
«Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, грозная, как полки со знаменами?..»
Он умер и видел сон. Говорят, больной еще слышит, как врач над ним свидетельствует его смерть… А потом он попал в рай, его охватила волна, окатила… и волны рая закачали его в ладонях своих. (Почему все эти дни в его душе мысль о смерти так часто была мыслью о жизни?..) Жизнь толкнула его в это небытие – в объятья, которым не дано было сбыться, и может, не надо было сбываться…
Бог потрудился на славу, и труды его были хороши. Это далось ему не легче, наверно – чем соловьиное горло с трелями – так, чтоб их извлекала из чрева своего, на утеху нам, соловьиная ночь со звездами…
Создатель спорил сперва с розоватым мрамором – верно, тем самым, что древние, не верившие в него, греки добывали руками молчаливых рабов в мрачных, полных нечистот, каменоломнях на Кипре, неподалеку от города Пафос, где безумный скульптор Пигмалион сотворил свою Галатею – такой, что она могла ожить – или была уже живой в камне. Из того мрамора были плечи и руки, словно вырубленные в скале, по склону которой тек виноградник… И две молодые полные виноградные грозди, словно проросши из мрамора – сползли с плеча, дыша бродящим вином и молодой кровью… «Волосы твои, как стадо коз, сходящих с Гала ада…» Когда она отвернулась, чтоб вынуть гребни, как-то враз выпавшие из волос – и швырнуть их в груду белья и платья на кресле – две продолговатых апельсиновых доли качнулись над ногами – и в такт ногам, и ноги стекли вниз, как две молочные реки в кисельных берегах или как два весла, спущенные на воду – и ушли, как в воду – в коврик на полу, где выцветшая Гретхен в белом порыжевшем чепчике все подливала и подливала из кувшина безвкусное немецкое молоко кому-то, кого не было видно… «…как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними…» Живот был тоже чуть розовый и подрагивал на ходу – будто нежные овцы шли по склону горы – гордяся руном, которого еще не коснулся жадный Язон, но за которым бессомненно имело смысл плыть в Колхиду… Где-то посреди живота руно сворачивалось – и сходилось тонкой нитью. Золотой пушок полз стрелочкой – от пупка вниз, словно указуя… И там, в самом низу, меж золотых овец – пряталась маленькая и черненькая.
– Не смотрите так на меня! – сказала она. И, уже улегшись рядом: – Не смотри так – я заплачу!..
Слов не было. Ни стихов! Их больше не надо было писать! Зачем?.. Лучшее было уже вписано в Божью книгу. И соловьиные трели замерли в горле Пушкина.
Он в постели почему-то вырастал – казался длинней, чем был. (Это ему не раз говорили.) Небольшого роста, почти невзрачный в одеждах, – в постели, нагим – он делался необыкновенно строен. Худенький мальчик, впервые оставшийся наедине с женщиной. Если б не эти черные – незнамо куда вечно разбегавшиеся по щекам бакенбарды… он и вовсе казался б – совращенным мальчишкой. Скорей всего, это именно в нем и привлекало. Худые длинные бедра, чуть вогнутые от худобы – и необыкновенно сильные руки – с бесконечными в длину – тонкими пальцами музыканта, которые хотелось ломать, как тросточку… он их часто и ломал – стискивал до хруста, и это всех раздражало. Только ногти, которые он столь любовно отращивал зачем-то (из вызова?) – заставляли женщин в его объятиях опасаться, что он их поранит – а мужиков и баб в деревнях считать его чуть не дьяволом…
– Не бойтесь! – сказала она ему. – Не бойся! – как маленькому. И даже успокоила его: – Это я виновата! Я так хотела! Ты тут ни при чем!..