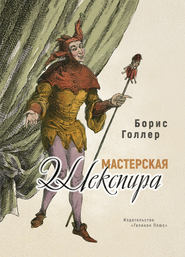По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Возвращение в Михайловское
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не морочь мне голову, знаешь… и так тошно! Maman – вся в мигренях… А его, я боюсь, кондрашка хватит! Старый он уже!..
Вечером, в Тригорском – укрывшись в одной из комнат, Александр писал Жуковскому в Петербург:
Милый, прибегаю к тебе. Посуди о моем положении. Приехав сюда, был я всеми встречен, как нельзя лучше, но скоро все переменилось: отец, напуганный моей ссылкой, беспрестанно твердил, что и его ожидает та же участь. Пещуров, назначенный за мною смотреть, имел бесстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче – быть моим шпионом; вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволяли мне с ним объясниться… Отец начал упрекать брата в том, что я преподаю ему безбожие. Я все молчал. Получают бумагу, до меня касающуюся…
И дальше – все, что нам уже известно. (Пещурова он назвал не слишком уверенный. Грешил он, скорей, на губернатора.)
Прасковья Александровна в тот вечер сказала за столом: – Пушкин нынче ночует у нас! Правда, Александр?
– Прекрасно! – сказал Алексис и зааплодировал. Аннет прибавила: – Можно у меня в комнате! Я перейду к Евпраксии. Пустишь меня? – сестре.
Та пожала плечами: – Пущу, конечно! (Все были радостны.)
– К сожалению, я не могу позволить гостю воспользоваться вашей любезностью! – сказала maman жестко. – Вы не будете возражать, Александр, если мы вам постелем в бане?
– Нет, конечно, разумеется… – быстро согласился Александр.
– Не понимаю, – возмутилась Аннет… – почему он должен ночевать в бане?
– Я не виновата, дочь моя, что все, что касается приличий – вызывает в вас непонимание! В доме, где столько молодых и незамужних девиц – к сожалению, нельзя оставлять на ночлег молодого человека! Тут уж ничего не попишешь! Даже в комнате Алексиса. Я бы не смогла.
– Да я согласен, согласен! – быстро вмешался Александр. Не хватало только ссоры еще в одном доме. И опять – из-за него!
– А времена разве не меняются? – спросила Анна почти дерзко.
– Что касается приличий – нет! – ответила ей maman.
В эту ночь Александр впервые ночевал – в баньке, на склоне холма. Она станет его убежищем, к коему иногда прибегают. (Но об этом дальше.) Он взял с собой несколько писчих листов, и перья, и банку с чернилами… запалил свечу в своей храмине и попытался сочинять. Что-то писал, черкал, писал, черкал… В итоге, вместо художества – у него вылилась такая бумага:
Милостивый государь Борис Антонович!
Государь император высочайше соизволил меня послать в поместье родителей, думая тем облегчить их горесть и участь сына. Неважные обвинения правительства сильно подействовали на сердце моего отца и раздражили мнительность, прости тельную старости и нежной любви его к прочим детям. Решился для его спокойствия и своего собственного просить его императорское величество, да соизволит меня перевести в одну из своих крепостей. Ожидаю сей последней милости от ходатайства вашего превосходительства.
Наутро, раздобывши конверт и никому не сказав ни слова – он надписал адрес:
Барону Адеркасу Борису Антоновичу, псковскому губернатору. И еще прибавил сверху: Его превосходительству…
И попросил кого-то из тригорских слуг, наладившегося в Опочку по делам – забросить конверт на почту…
XIV
Лев уехал. Стихов он взял с собой много, хоть это – польза. Семья теперь редко сбиралась за столом – Александр пропадал в Тригорском. Родители ссорились – это было видно по затравленным глазам отца – если они с Александром сталкивались поутру, они старались не глядеть друг на друга – и не разговаривать, но все же… и по поджатым губкам матери. Когда она бывала чем-то недовольна, ее губы превращались вовсе в узкую щель, а тонкий носик с горбинкой – кой мог принадлежать кому угодно – грекам, римлянам – только никак не негритянским предкам, – высокомерно возносился, наглядно демонстрируя тоску и скуку при виде всех присутствующих. Надо сказать, в семье порой – она злоупотребляла этим свойством своего восхитительного носа. Ольга, по возможности, тоже жалась к Тригорскому – сколько позволяли приличия… там не было весело, но и не было той тоски неудачи, которая проникала собой дом Пушкиных.
Александр досадовал на себя, что дал Льву – тот выпросил, выклянчил – средь прочего, письмо Татьяны… (Он считал это пока наброском – неудачным. Письмо девушки, к тому же семнадцатилетней, к тому же влюбленной!) Начнет там показывать кому ни попадя – несмотря на все клятвы, что ни-ни. Брат бывал легкомыслен – как он сам порой.
Сейчас роман то возникал в нем, как нечто цельное – то терялся, как река в полях – вился и исчезал…, и он даже не знал – хватит ли пороху окончить его. Он был нездоров нравственно. Ссора с отцом и обстановка в доме играли здесь, конечно, важную роль – но не они одни. Сердце вести просит!.. А вести – где их взять? Он снова вспоминал письмо Липранди… Вигель?.. Что мог знать Вигель? Впрочем… а что знает он сам?.. Письмо Жуковскому уехало с братом. Василью Андреичу он среди всего еще сделал доверенность относительно своего письма к губернатору. – Так, на всякий случай. Понимал, что поступок легкомысленный. А что теперь делать? Прошло уже несколько дней, и первые дни он томился ожиданием, которое мешалось как-то с веселым детским любопытством – а что будет? И вдруг почти что про письмо позабыл. Бывает такое! Таилось в нем нечто – вроде излишней уверенности в своей судьбе. Как-то пронесет. Как – он не знал, но… И прошло немного времени – он этот свой подвиг и просто выпустил из виду. От легкомыслия. Забыл напрочь – и все! Дай Бог! Одесса опять поселилась в нем, вороша все сомнения, какие только можно – и внушая все (несбыточные) надежды.
Прошла неделя, больше – он был днем в Тригорском и дурил, как всегда. Врал напропалую. Как встречал на Кавказе страшных разбойников и они его почтили как своего. – Еще был вариант, как они испугались его ногтей и удрали сами – ночью, тайком, приняв его за дьявола. Он любил вранье – истории, которые могли случиться с ним, но не случались, – и со смаком их рассказывал, ему верили и не верили – все равно интересно… ну, нельзя ж, чтоб с человеком все происходило в жизни, надобно что-то и присочинить. Он внутренне сознавал, что это вранье создает ему еще одну – параллельную биографию – для потомков. (И как они будут разбирать – где правда, где нет?) Но считал, что она тоже имеет смысл – ибо отражать будет не только – что на самом деле, – а что могло быть еще (и это интересней всего). Он смеялся про себя – вот после этого – верь историкам! И Тацит врет наполовину. (– А Карамзин? – спрашивал внутренний голос. Он соглашался через силу: – Что ж!.. И Карамзин!)
Но тут появилась Ольга из дому – влетела, раскрасневшаяся – поднялась в гору в один дых – и выпалила – как загнанный гонец:
– Мы уезжаем!
– Кто? куда? – разом откликнулись за столом.
– Все. В Петербург. Кроме тебя, конечно! – она взяла брата за руку и вдруг заплакала навзрыд. Все бросились ее утешать и забыли про все другое. И про него в том числе. Неужели его судьба – приносить только горе? И кому? Самым близким. Сестре. Печальной девочке с огромными глазами, которая любила его и которая все, что хотела – это чтоб с его приездом стало весело в доме. Отплакав свое, Ольга поделилась новостями. Оказывается, после ссоры Александра с отцом – мысль об отъезде настойчиво пробивала мать. (В цепи настояний Надежды Осиповны была, конечно, и темная история Сергея Львовича с Аленой. Но Ольга не знала об этом.)
Отъезд семьи в деревню, в свое время, имел в виду обстоятельства чисто бытовые – никак не сводились концы с концами, город стоил дорого, столица тем паче, а без пригляда бар управители в деревне крали в три руки и слали мало денег. Но в деревне Надежда Осиповна откровенно скучала. Потом, кажется, еще шло в ход (Ольга тоже, естественно, не говорила об этом, – но по другим причинам: речь шла о ней) – maman удалось убедить мужа в том, что барышне здесь не житье: женихов кот наплакал, да и те, что в наличии – бомонд из Новоржева! – Название Новоржев – соседнего городка – в устах Надежды Осиповны было именем нарицательным: знаком захудалости во всех смыслах – и уж точно, беспросветной провинции. Во всех случаях жизни Сергея Львовича было легче всего склонить в чем-то, доказав ему, что где-то, кто-то, как-то – не по рангу его шестьсотлетнему дворянству. Он тут же соглашался. На все отъезды, уезды, приезды, переезды… Был довод еще, что надо бы приследить за первыми шагами Льва на военном поприще. (Неудача карьеры старшего сына была в этом смысле козырной картой. Остался один, и… что хорошего вышло?) Возможно, еще всплывала мысль, что Александру, буде ему выпала ссылка – лучше в самом деле – побыть одному. Ольга сказала, что в доме уже идут сборы. Брат с сестрой еще посидели немного и откланялись.
Надо сказать, вместо радости, какой можно бы ожидать – Александр, возвращаясь, испытывал грусть. Одиночество, что ожидало его, вдруг встало во весь рост – и не показалось вовсе заманчивым. Он не терпел одиночества. Раздражался, бывало, когда ему мешали, – и порой мечтал о нем, лежа в постели и сочиняя, – но предпочитал иметь возможность в любую минуту выйти из него. Так было в Одессе, в Петербурге… и всюду. Он вдруг понял, что всегда тянулся к семье – даже такой нелепой, как его… (Встреча с семьей Раевских тоже сделала свое дело.) Он не любил – быть нелюбимым сыном.
Воротясь домой, он прошел к себе и закрылся в своей комнате. Он не хотел присутствовать при сборах. Лег на кровать ничком и натянул одеяло на голову. Благо, было прохладно… Все уходит. Все уходят. Разъезжаются. Дальше унылая зима в холодной пустоте деревни. Из Одессы писем нет – и не будет. Кто ты такой – чтоб она писала тебе или думала о тебе? Люстдорф остался ручейком, исчезнувшим в степи.
В комнату постучали – он отозвался не сразу. Вошла мать, она редко, признаться, навещала его в его комнате. Раза два или три… Он приподнялся навстречу. Мать была не в чепце, узкий платок, подобие шарфика – стягивал ей лоб. Это было элегантно.
– Мы уезжаем, – сказала она и вдруг пересела – с кресла к нему на кровать.
– Я знаю, – сказал сын.
– Я убедила отца. Не могу сказать, чтоб это было легко! (Хмыкнула, впрочем, невесело, ничего веселого!)
Он взял ее руку, поцеловал.
– Не думай, что я не страдаю вовсе – что все так сложилось у тебя!
– Я понимаю, – сказал сын.
– Может – да не совсем!.. Ты всегда немного страшил меня – своей одинокостью, – сказала она. – Дичок какой-то! И я не знала порой, как к тебе подойти. Но я – мать, и ты мне дорог. (Вздохнула.) Я тоже… была всегда одинока. И ты это тоже не понимал.
– Я люблю вас, maman! – сказал он.
– Но ты не слишком сердись на него – он тоже одинокий человек!
– Я не сержусь, – или, вы правы – не слишком. Я всегда гордился вами… вашей красотой!
– Да брось! Что – красота? Не смеши! Только то, что порой тешит тщеславие. Ты еще поймешь!.. Это то, что исчезает быстрей всего и приносит радости менее всего!
Он поднял голову. В ее глазах стояли слезы. Немного, не слишком… Но для светской женщины – в самый раз. Впервые, может, в его жизни она плакала об нем – теперь это точно относилось к нему. И нелюбимый сын ощутил это сердцем. Под сердцем. Он снова поцеловал ей руку. У самого глаза на мокром месте…
– Я буду скучать по вас! – сказал он.
– Я знаю, – кивнула мать. – Я знаю… – Арина остается с тобой. Мы так решили с отцом. – И вышла. Аккуратно прикрыв за собою дверь.
Потом пришла Ольга и проплакала остаток вечера. Вот уж кто умел плакать самозабвенно! Пришлось отдать ей три носовых платка. Ей не хотелось уезжать. Ей не хотелось оставаться (в деревне). Ей хотелось замуж. Удачно. А потом… Чтоб были стихи брата, веселый круг – простых понятных молодых людей… чтоб танцевали… но чтоб к тому ж обязательно говорили о высоком. (Она все-таки была сестра Пушкина!) А теперь предвкушала с отвращением… что будет вновь – большая, вечно неприбранная квартира… и вечные разговоры о том, как мало денег и как их не торопятся присылать из имений. Болдино, Михайловское… И Михайловское снова станет лишь одним из названий: местом, откуда управитель не шлет денег. И таких приятельниц, как в Тригорском – почти подруг – у нее больше не будет. (Там уж точно не будет, в Петербурге!) Выйти бы одной из них замуж за Александра! Она перебрала мысленно всех тригорских дев – навскидку, немало, – остановилась на Аннет: вот бы славно! Он был бы счастлив – ее брат, Аннет любила б его и никогда б не изменяла, это точно! И ей самой – Ольге – было б легко с Аннет как с невесткой. Но Аннет – не для него, ему будет скучно с ней. И впрямь – в ней какая-то излишняя правильность, все по полочкам. А брат – не виноват, он такой уродился – весь неправильный по природе! Ох-ти!.. И вздыхала. И плакала, и вытирала платочком слезы – и он искал в беспорядке полусломанного шкафа – еще хоть один платок для нее. Нашел – где-то среди тетрадей «Онегина». Как он здесь очутился? (Этот вечный беспорядок в доме!) На вот! На!.. И отирал ее слезы сам, и сам готов был разрыдаться.
Через день все уезжали. Карета и три возка расположились полукольцом со стороны парка. Он вспомнил, как он сам, несколько времени назад – лихо подъехал к дому, с этой стороны. И все высыпали ему навстречу. Тогда было начало, теперь конец? Он тосковал.
Он вышел к бричкам – весь мрачный, в темном старом плаще… И глядел исподлобья уныло – как все кончается. Семья, дом… И как maman и Ольга прощаются с дворовыми. С некоторыми – с бабами – целовались. (И это тоже было – крепостное право!) Все крестились и крестили друг дружку: – Приезжайте! Приезжайте! Когда-то свидимся!.. – Арина была один сплошной крест – только и взмахивала перстами и плакала без остановки. В деревне – это высший миг, когда плачут. (Потому здесь так любят – рождения, свадьбы, похороны, разлуки! Одна Русь, пожалуй, в мире вникнуть смогла в эту вечную печаль всемирной жизни! И, слава Богу, на селе слез не занимать – ручьями текут. Ливмя…) Бабы отирали подолами лица и снова ревели.
Вечером, в Тригорском – укрывшись в одной из комнат, Александр писал Жуковскому в Петербург:
Милый, прибегаю к тебе. Посуди о моем положении. Приехав сюда, был я всеми встречен, как нельзя лучше, но скоро все переменилось: отец, напуганный моей ссылкой, беспрестанно твердил, что и его ожидает та же участь. Пещуров, назначенный за мною смотреть, имел бесстыдство предложить отцу моему должность распечатывать мою переписку, короче – быть моим шпионом; вспыльчивость и раздражительная чувствительность отца не позволяли мне с ним объясниться… Отец начал упрекать брата в том, что я преподаю ему безбожие. Я все молчал. Получают бумагу, до меня касающуюся…
И дальше – все, что нам уже известно. (Пещурова он назвал не слишком уверенный. Грешил он, скорей, на губернатора.)
Прасковья Александровна в тот вечер сказала за столом: – Пушкин нынче ночует у нас! Правда, Александр?
– Прекрасно! – сказал Алексис и зааплодировал. Аннет прибавила: – Можно у меня в комнате! Я перейду к Евпраксии. Пустишь меня? – сестре.
Та пожала плечами: – Пущу, конечно! (Все были радостны.)
– К сожалению, я не могу позволить гостю воспользоваться вашей любезностью! – сказала maman жестко. – Вы не будете возражать, Александр, если мы вам постелем в бане?
– Нет, конечно, разумеется… – быстро согласился Александр.
– Не понимаю, – возмутилась Аннет… – почему он должен ночевать в бане?
– Я не виновата, дочь моя, что все, что касается приличий – вызывает в вас непонимание! В доме, где столько молодых и незамужних девиц – к сожалению, нельзя оставлять на ночлег молодого человека! Тут уж ничего не попишешь! Даже в комнате Алексиса. Я бы не смогла.
– Да я согласен, согласен! – быстро вмешался Александр. Не хватало только ссоры еще в одном доме. И опять – из-за него!
– А времена разве не меняются? – спросила Анна почти дерзко.
– Что касается приличий – нет! – ответила ей maman.
В эту ночь Александр впервые ночевал – в баньке, на склоне холма. Она станет его убежищем, к коему иногда прибегают. (Но об этом дальше.) Он взял с собой несколько писчих листов, и перья, и банку с чернилами… запалил свечу в своей храмине и попытался сочинять. Что-то писал, черкал, писал, черкал… В итоге, вместо художества – у него вылилась такая бумага:
Милостивый государь Борис Антонович!
Государь император высочайше соизволил меня послать в поместье родителей, думая тем облегчить их горесть и участь сына. Неважные обвинения правительства сильно подействовали на сердце моего отца и раздражили мнительность, прости тельную старости и нежной любви его к прочим детям. Решился для его спокойствия и своего собственного просить его императорское величество, да соизволит меня перевести в одну из своих крепостей. Ожидаю сей последней милости от ходатайства вашего превосходительства.
Наутро, раздобывши конверт и никому не сказав ни слова – он надписал адрес:
Барону Адеркасу Борису Антоновичу, псковскому губернатору. И еще прибавил сверху: Его превосходительству…
И попросил кого-то из тригорских слуг, наладившегося в Опочку по делам – забросить конверт на почту…
XIV
Лев уехал. Стихов он взял с собой много, хоть это – польза. Семья теперь редко сбиралась за столом – Александр пропадал в Тригорском. Родители ссорились – это было видно по затравленным глазам отца – если они с Александром сталкивались поутру, они старались не глядеть друг на друга – и не разговаривать, но все же… и по поджатым губкам матери. Когда она бывала чем-то недовольна, ее губы превращались вовсе в узкую щель, а тонкий носик с горбинкой – кой мог принадлежать кому угодно – грекам, римлянам – только никак не негритянским предкам, – высокомерно возносился, наглядно демонстрируя тоску и скуку при виде всех присутствующих. Надо сказать, в семье порой – она злоупотребляла этим свойством своего восхитительного носа. Ольга, по возможности, тоже жалась к Тригорскому – сколько позволяли приличия… там не было весело, но и не было той тоски неудачи, которая проникала собой дом Пушкиных.
Александр досадовал на себя, что дал Льву – тот выпросил, выклянчил – средь прочего, письмо Татьяны… (Он считал это пока наброском – неудачным. Письмо девушки, к тому же семнадцатилетней, к тому же влюбленной!) Начнет там показывать кому ни попадя – несмотря на все клятвы, что ни-ни. Брат бывал легкомыслен – как он сам порой.
Сейчас роман то возникал в нем, как нечто цельное – то терялся, как река в полях – вился и исчезал…, и он даже не знал – хватит ли пороху окончить его. Он был нездоров нравственно. Ссора с отцом и обстановка в доме играли здесь, конечно, важную роль – но не они одни. Сердце вести просит!.. А вести – где их взять? Он снова вспоминал письмо Липранди… Вигель?.. Что мог знать Вигель? Впрочем… а что знает он сам?.. Письмо Жуковскому уехало с братом. Василью Андреичу он среди всего еще сделал доверенность относительно своего письма к губернатору. – Так, на всякий случай. Понимал, что поступок легкомысленный. А что теперь делать? Прошло уже несколько дней, и первые дни он томился ожиданием, которое мешалось как-то с веселым детским любопытством – а что будет? И вдруг почти что про письмо позабыл. Бывает такое! Таилось в нем нечто – вроде излишней уверенности в своей судьбе. Как-то пронесет. Как – он не знал, но… И прошло немного времени – он этот свой подвиг и просто выпустил из виду. От легкомыслия. Забыл напрочь – и все! Дай Бог! Одесса опять поселилась в нем, вороша все сомнения, какие только можно – и внушая все (несбыточные) надежды.
Прошла неделя, больше – он был днем в Тригорском и дурил, как всегда. Врал напропалую. Как встречал на Кавказе страшных разбойников и они его почтили как своего. – Еще был вариант, как они испугались его ногтей и удрали сами – ночью, тайком, приняв его за дьявола. Он любил вранье – истории, которые могли случиться с ним, но не случались, – и со смаком их рассказывал, ему верили и не верили – все равно интересно… ну, нельзя ж, чтоб с человеком все происходило в жизни, надобно что-то и присочинить. Он внутренне сознавал, что это вранье создает ему еще одну – параллельную биографию – для потомков. (И как они будут разбирать – где правда, где нет?) Но считал, что она тоже имеет смысл – ибо отражать будет не только – что на самом деле, – а что могло быть еще (и это интересней всего). Он смеялся про себя – вот после этого – верь историкам! И Тацит врет наполовину. (– А Карамзин? – спрашивал внутренний голос. Он соглашался через силу: – Что ж!.. И Карамзин!)
Но тут появилась Ольга из дому – влетела, раскрасневшаяся – поднялась в гору в один дых – и выпалила – как загнанный гонец:
– Мы уезжаем!
– Кто? куда? – разом откликнулись за столом.
– Все. В Петербург. Кроме тебя, конечно! – она взяла брата за руку и вдруг заплакала навзрыд. Все бросились ее утешать и забыли про все другое. И про него в том числе. Неужели его судьба – приносить только горе? И кому? Самым близким. Сестре. Печальной девочке с огромными глазами, которая любила его и которая все, что хотела – это чтоб с его приездом стало весело в доме. Отплакав свое, Ольга поделилась новостями. Оказывается, после ссоры Александра с отцом – мысль об отъезде настойчиво пробивала мать. (В цепи настояний Надежды Осиповны была, конечно, и темная история Сергея Львовича с Аленой. Но Ольга не знала об этом.)
Отъезд семьи в деревню, в свое время, имел в виду обстоятельства чисто бытовые – никак не сводились концы с концами, город стоил дорого, столица тем паче, а без пригляда бар управители в деревне крали в три руки и слали мало денег. Но в деревне Надежда Осиповна откровенно скучала. Потом, кажется, еще шло в ход (Ольга тоже, естественно, не говорила об этом, – но по другим причинам: речь шла о ней) – maman удалось убедить мужа в том, что барышне здесь не житье: женихов кот наплакал, да и те, что в наличии – бомонд из Новоржева! – Название Новоржев – соседнего городка – в устах Надежды Осиповны было именем нарицательным: знаком захудалости во всех смыслах – и уж точно, беспросветной провинции. Во всех случаях жизни Сергея Львовича было легче всего склонить в чем-то, доказав ему, что где-то, кто-то, как-то – не по рангу его шестьсотлетнему дворянству. Он тут же соглашался. На все отъезды, уезды, приезды, переезды… Был довод еще, что надо бы приследить за первыми шагами Льва на военном поприще. (Неудача карьеры старшего сына была в этом смысле козырной картой. Остался один, и… что хорошего вышло?) Возможно, еще всплывала мысль, что Александру, буде ему выпала ссылка – лучше в самом деле – побыть одному. Ольга сказала, что в доме уже идут сборы. Брат с сестрой еще посидели немного и откланялись.
Надо сказать, вместо радости, какой можно бы ожидать – Александр, возвращаясь, испытывал грусть. Одиночество, что ожидало его, вдруг встало во весь рост – и не показалось вовсе заманчивым. Он не терпел одиночества. Раздражался, бывало, когда ему мешали, – и порой мечтал о нем, лежа в постели и сочиняя, – но предпочитал иметь возможность в любую минуту выйти из него. Так было в Одессе, в Петербурге… и всюду. Он вдруг понял, что всегда тянулся к семье – даже такой нелепой, как его… (Встреча с семьей Раевских тоже сделала свое дело.) Он не любил – быть нелюбимым сыном.
Воротясь домой, он прошел к себе и закрылся в своей комнате. Он не хотел присутствовать при сборах. Лег на кровать ничком и натянул одеяло на голову. Благо, было прохладно… Все уходит. Все уходят. Разъезжаются. Дальше унылая зима в холодной пустоте деревни. Из Одессы писем нет – и не будет. Кто ты такой – чтоб она писала тебе или думала о тебе? Люстдорф остался ручейком, исчезнувшим в степи.
В комнату постучали – он отозвался не сразу. Вошла мать, она редко, признаться, навещала его в его комнате. Раза два или три… Он приподнялся навстречу. Мать была не в чепце, узкий платок, подобие шарфика – стягивал ей лоб. Это было элегантно.
– Мы уезжаем, – сказала она и вдруг пересела – с кресла к нему на кровать.
– Я знаю, – сказал сын.
– Я убедила отца. Не могу сказать, чтоб это было легко! (Хмыкнула, впрочем, невесело, ничего веселого!)
Он взял ее руку, поцеловал.
– Не думай, что я не страдаю вовсе – что все так сложилось у тебя!
– Я понимаю, – сказал сын.
– Может – да не совсем!.. Ты всегда немного страшил меня – своей одинокостью, – сказала она. – Дичок какой-то! И я не знала порой, как к тебе подойти. Но я – мать, и ты мне дорог. (Вздохнула.) Я тоже… была всегда одинока. И ты это тоже не понимал.
– Я люблю вас, maman! – сказал он.
– Но ты не слишком сердись на него – он тоже одинокий человек!
– Я не сержусь, – или, вы правы – не слишком. Я всегда гордился вами… вашей красотой!
– Да брось! Что – красота? Не смеши! Только то, что порой тешит тщеславие. Ты еще поймешь!.. Это то, что исчезает быстрей всего и приносит радости менее всего!
Он поднял голову. В ее глазах стояли слезы. Немного, не слишком… Но для светской женщины – в самый раз. Впервые, может, в его жизни она плакала об нем – теперь это точно относилось к нему. И нелюбимый сын ощутил это сердцем. Под сердцем. Он снова поцеловал ей руку. У самого глаза на мокром месте…
– Я буду скучать по вас! – сказал он.
– Я знаю, – кивнула мать. – Я знаю… – Арина остается с тобой. Мы так решили с отцом. – И вышла. Аккуратно прикрыв за собою дверь.
Потом пришла Ольга и проплакала остаток вечера. Вот уж кто умел плакать самозабвенно! Пришлось отдать ей три носовых платка. Ей не хотелось уезжать. Ей не хотелось оставаться (в деревне). Ей хотелось замуж. Удачно. А потом… Чтоб были стихи брата, веселый круг – простых понятных молодых людей… чтоб танцевали… но чтоб к тому ж обязательно говорили о высоком. (Она все-таки была сестра Пушкина!) А теперь предвкушала с отвращением… что будет вновь – большая, вечно неприбранная квартира… и вечные разговоры о том, как мало денег и как их не торопятся присылать из имений. Болдино, Михайловское… И Михайловское снова станет лишь одним из названий: местом, откуда управитель не шлет денег. И таких приятельниц, как в Тригорском – почти подруг – у нее больше не будет. (Там уж точно не будет, в Петербурге!) Выйти бы одной из них замуж за Александра! Она перебрала мысленно всех тригорских дев – навскидку, немало, – остановилась на Аннет: вот бы славно! Он был бы счастлив – ее брат, Аннет любила б его и никогда б не изменяла, это точно! И ей самой – Ольге – было б легко с Аннет как с невесткой. Но Аннет – не для него, ему будет скучно с ней. И впрямь – в ней какая-то излишняя правильность, все по полочкам. А брат – не виноват, он такой уродился – весь неправильный по природе! Ох-ти!.. И вздыхала. И плакала, и вытирала платочком слезы – и он искал в беспорядке полусломанного шкафа – еще хоть один платок для нее. Нашел – где-то среди тетрадей «Онегина». Как он здесь очутился? (Этот вечный беспорядок в доме!) На вот! На!.. И отирал ее слезы сам, и сам готов был разрыдаться.
Через день все уезжали. Карета и три возка расположились полукольцом со стороны парка. Он вспомнил, как он сам, несколько времени назад – лихо подъехал к дому, с этой стороны. И все высыпали ему навстречу. Тогда было начало, теперь конец? Он тосковал.
Он вышел к бричкам – весь мрачный, в темном старом плаще… И глядел исподлобья уныло – как все кончается. Семья, дом… И как maman и Ольга прощаются с дворовыми. С некоторыми – с бабами – целовались. (И это тоже было – крепостное право!) Все крестились и крестили друг дружку: – Приезжайте! Приезжайте! Когда-то свидимся!.. – Арина была один сплошной крест – только и взмахивала перстами и плакала без остановки. В деревне – это высший миг, когда плачут. (Потому здесь так любят – рождения, свадьбы, похороны, разлуки! Одна Русь, пожалуй, в мире вникнуть смогла в эту вечную печаль всемирной жизни! И, слава Богу, на селе слез не занимать – ручьями текут. Ливмя…) Бабы отирали подолами лица и снова ревели.