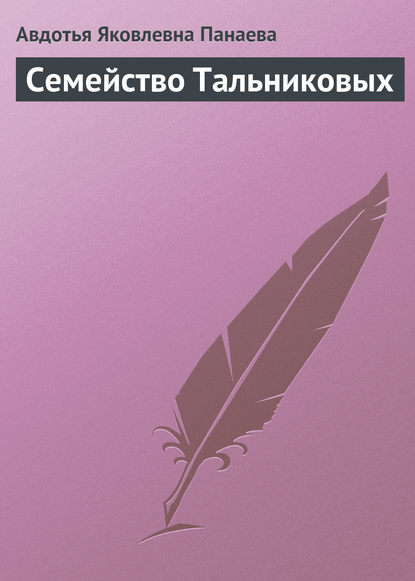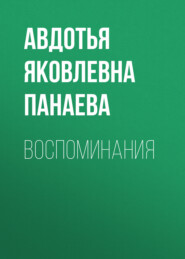По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Семейство Тальниковых
Год написания книги
1848
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Семейство Тальниковых
Авдотья Яковлевна Панаева
«В комнате, освещенной нагорелой свечой, омывали тело умершей – шестимесячной моей сестры. Ее глаза с тусклым и неподвижным взором наводили на меня ужас. В комнате была тишина; ни отец мой, ни мать не плакали; плакала одна кормилица – о золоченом повойнике и шубе, которых лишилась по случаю слишком преждевременной смерти моей сестры: погоди она умирать пять, шесть месяцев, дело кормилицы было бы кончено, и обещанная награда не ушла бы от ее рук…»
Авдотья Панаева
Семейство Тальниковых
Записки, найденные в бумагах покойницы
Глава I
В комнате, освещенной нагорелой свечой, омывали тело умершей – шестимесячной моей сестры. Ее глаза с тусклым и неподвижным взором наводили на меня ужас. В комнате была тишина; ни отец мой, ни мать не плакали; плакала одна кормилица – о золоченом повойнике и шубе, которых лишилась по случаю слишком преждевременной смерти моей сестры: погоди она умирать пять, шесть месяцев, дело кормилицы было бы кончено, и обещанная награда не ушла бы от ее рук.
В первую минуту смерть произвела на меня сильное впечатление, но по совершенному равнодушию окружающих, по отсутствию отца и матери я заключила, что смерть не важная вещь. Периодические ссоры матери с бабушкой казались мне гораздо важнее, по изобильным слезам бабушки и грозным крикам матери, которая требовала отчета: куда девались деньги, выданные на расход, и зачем так скоро вышла провизия?.. Я была всегда на стороне плачущих, потому ли, что сама много плакала, – не знаю; но плачущую бабушку мне было больше жаль, чем сердившуюся мать. За продолжительной ссорой следовало примирение, и новые слезы бабушки, только уже не печальные, а радостные, заключали сцену до следующего месяца, то есть до новой закупки провизии…
Когда я начала помнить себя, мне было около шести лет. В доме у нас жило много родных: две сестры матери, сестра и мать отца. Бабушку мы очень любили, потому что она нас баловала… Маменька мало о нас заботилась, а отец, занятый службой, не обращал ни малейшего внимания на своих детей, число которых аккуратно каждый год увеличивалось. У меня уж было две сестры – Катя и Соня, три брата – Миша, Федя и Ваня… Мы не питали особенной нежности к родителям, которые, с своей стороны, также не очень нас ласкали. Помню один случай: раз маменька уезжала лечиться на целое лето на воды. Наступил день, когда она должна была возвратиться: весь дом ожидал ее, но в тот день она не приехала. Нас уложили спать; но я не могла заснуть: мне очень хотелось видеть маменьку. Когда все ушли из комнаты, я тихонько встала с постели, села у окна и начала смотреть на улицу и прислушиваться к шуму. Но маменька не ехала! Я готова была плакать, сердце у меня сильно билось при малейшем шуме в других комнатах. Наконец весь дом заснул, заснула и я, измученная ожиданием, и мне приснилось, что маменька крепко целует и держит меня на руках: мне стало так весело. Вдруг слышу: маменька приехала! Я сбежала вниз, и первое мое движение было – кинуться к ней. Она, казалось, удивилась моей радости и поцеловала меня. Я заплакала… Меня обступили, начали спрашивать, что со мною, о чем плачу? Я сказала: рада, что вижу маменьку. Все засмеялись, маменька, улыбаясь, взяла меня на руки. Я обхватила ее шею, крепко прижалась к ней и пуще прежнего зарыдала. Она стала уговаривать меня, предлагала гостинцев, но я от них отказалась и продолжала плакать, закрыв лицо руками… Мать решила, что я больна, и, сказав: «Посмотрите, как она дрожит», велела отвести меня в детскую и уложить спать. Я стала проситься опять к ней, но меня не пустили…
Мать нас мало ласкала, мало занималась нами, зато мы мало от нее и терпели; но свирепость, в которую иногда впадал отец, была для нас слишком ощутительна. В минуты своей раздражительности он колотил всех встречных и ломал все, что попадалось ему под руку. И бил ли он детей или свою легавую собаку, выражение лица его было одинаково – желание утолить свою ярость. Он вонзал вилку в спину собаки с таким же злым спокойствием, как и пускал тарелкой в свою жену. Помню, раз мне и трехлетнему брату случилось испытать порыв его бешенства. Была вербная неделя; отец пришел откуда-то домой, спросил завтрак и выпил целый графин водки. В углу той же комнаты играла я с братом в вербы. Отец вздумал принять участие в нашей игре и предложил брату бить себя вербой, сказав: «Увидим, кто больнее ударит…» Брат с восторгом ударил отца, но вслед за тем получил до того сильный удар, что вскрикнул от боли. Отец сказал: «Ну, теперь опять твоя очередь. Не плачь! На то игра: верба хлес – бьет до слез!..» Но брат продолжал плакать, за что получил новый удар, за которым последовало еще несколько медленных, но не менее жестоких ударов. Отец славился своей силой: он сгибал в узел кочергу. Сперва я не смела вступиться за брата: о правах родителей я имела такое понятие, что они могут не только наказывать, но и убивать детей, а несправедливости я еще не понимала. Но вопли брата заставили меня все забыть: я кинулась к нему и заслонила его собой, оставляя на жертву отцу свою открытую шею и грудь. Ничего не заметив, отец стал бить меня. То умолкая, то вскрикивая сильней, я старалась заставить его прекратить жестокую игру, но он, бледный и искаженный от злости, продолжал хлестать вербой ровно и медленно… Не знаю, скоро ли кончилась бы эта сцена и что было бы с нами, если б на крик наш не прибежала мать и не оттащила отца. Мы были окровавлены: мать, как я помню, в первый раз в жизни прижала меня к сердцу, но нежность ее была непродолжительна: опомнясь, она велела мне итти в детскую и грозила наказать, если я осмелюсь еще раз без ее позволения играть в спальне. Отец молча ходил по комнате, как будто приискивая новую пищу своему бешенству. Наконец он спросил еще графин водки, выпил весь, взял шляпу и вышел. Пронзительный визг собаки, попавшейся ему в прихожей, раздался по всему дому.
В такое расположение духа отец впадал обыкновенно от неприятностей по службе, неудач в волокитстве, ревности жены. Помню, раз он при матери поцеловал какую-то хорошенькую женщину. Я готова была кинуться на него, видя слезы матери, которая нисколько не скрывала своего гнева; отец ушел в бешенстве вместе с гостьей…
Между тем семейство с каждым годом прибавлялось. Родители признали нужным для нас воспитание и заставляли нас сидеть за столом с книгой по два часа в день. Учение наше не простиралось далее затверживанья басен с нравоучениями вроде: «Раскаяние не помогает», и некоторых молитв, в которых мы ни слова не понимали. Но ими ограничивалась вся наша религия.
Мы очень часто старались определить себе, что такое чорт, которого мы ясно видели по ночам или в темных комнатах, благодаря нелепым рассказам нянек и кормилиц; с расспросами о нем мы прибегали к тетушкам, которые нельзя сказать, чтоб тоже пользовались жизнию и свободою, а потому нам немало доставалось и от них: недовольные матерью, они вымещали свой гнев на нас. Ответ на наши расспросы был обыкновенно короток и выразителен: «Прочь! Надоели! Выдеру уши», и часто любознательный возвращался с красными ушами, чтоб снова принять участие в прениях о чорте…
Никаких книг, кроме азбуки, я не видала, потому сказки кормилицы казались мне чем-то необыкновенно привлекательным. Если герой или героиня страдали, то мы плакали и просили кормилицу сделать их счастливыми, обещая ей за то сухарей. Сухари играли между нами роль ходячей монеты. Нам давалось в день по четыре сухаря, и они составляли единственную собственность, бывшую в полном нашем распоряжении. Но мне нередко приходилось заменять сухари своими куклами, потому что меня беспрестанно оставляли без чаю. Торговля у нас процветала: даже личные оскорбления выкупались сухарями. Раз, раздраженная насмешками и разными выходками старшей сестры, мешавшей мне играть, я увлеклась гневом и, пренебрегая последствиями, ударила ее в лицо. Оскорбленная с радостию бросилась к двери и угрожала пожаловаться отцу, который в таких случаях жестоко наказывал виновную, не разбирая причин, заставивших прибегнуть к такому сильному средству. Зная, что могу откупиться, я была спокойна и предложила сухари. Но на этот раз сестра, по чувству оскорбленного достоинства, отвергла такой обыкновенный выкуп и предложила мне следующее условие: подавать и убирать ее игрушки, когда она прикажет, в продолжение пяти лет. Я приняла условие, рассчитывая на его нелепость, но ошиблась в расчете. Последствия были печальны. Не знаю почему, жалобы и оправдания мои не имели никакого весу не только у старших, но даже у братьев и сестер; самые младшие могли безнаказанно рвать мои куклы и платья, щипать и толкать меня, проходя мимо, не потому ли, думала я, что я очень черна, но старший брат был так же черен, однакож не страдал от своей черноты, напротив, даже пользовался некоторым весом, по своей силе и упрямству. Сестра нарочно приноровляла свои приказания так, чтобы беспрестанно отрывать меня от моих кукол. Наконец однажды терпение мое лопнуло: я отказалась исполнять ее приказания. Она побежала жаловаться тетеньке. Тетенька находила особенное удовольствие наказывать меня. Угрозы градом посыпались на мою черную голову. Но я не смутилась и наотрез объявила, что «уж довольно: целые три года я была дурой и слушалась сестру, а теперь больше носить ей игрушек ни за что не буду…» Уши, мои бедные уши всегда страдали первые! Тетенька за ухо повела меня в угол; я начала плакать и жаловаться, но дорого заплатила за свое сопротивление: объявили, что не дадут мне есть целую неделю. Меня так часто оставляли без чаю, без обеда, без ужина по целому месяцу, что такое наказание обратилось мне в привычку, и я страдала только в таких случаях, когда, забывшись, подойдешь, бывало, к столу, и вдруг закричат: «А вы-то зачем? Разве забыли, что вы сегодня без чаю!..» Тогда я злилась и плакала… Раз меня оставили без пирожного. Тетенька вздумала подшутить надо мной при посторонних и сказала с злой усмешкой: «Дай свою тарелку, я положу тебе пирожного!..» Я вся вспыхнула, но тотчас оправилась и отвечала, что доктор запретил мне есть это пирожное… Ярость исказила лицо тетушки, она торжественно объявила гостям, что я бесчувственная: смею еще шутить, когда наказана, и прибавила, что мне нужно наказание посильнее. После обеда она привела в исполнение свою мысль…
Но, за исключением этих маленьких неприятностей, до десятилетнего возраста мы жили весело и свободно, предаваясь играм без различия пола, потому что родители нас тоже не различали. Наказание розгами было в одинаковом употреблении как для мальчиков, так и для девочек. Не секли только старшую сестру, которая считалась смирной, умной, прилежной девочкой. Бывало, если у меня нет своего горя, я вступалась за обиженного и за него получала наказание, но сестра ничем не трогалась, спокойно смотрела, как при ней обижают невинного, и никогда не плакала…
Смерть бабушки положила конец золотым дням нашего детства – золотым, потому что скоро мы лишились и тех радостей, которыми при ней пользовались. Бабушка сделалась очень больна, и как ей было уже 60 лет, то она и не могла перенести трудной болезни. В один вечер больной сделалось очень дурно; нас всех уложили ранее обыкновенного, что всегда делалось в торжественных случаях. Не знаю как, но у меня достало духу спрятаться в темном углу комнаты, освещенной одной лампадой, и я видела, как рыдала дочь бабушки – тетенька Александра Семеновна; мать моя тоже плакала, но ее слезы совсем не походили на тетенькины и не трогали меня; отец был серьезен. Бабушка всех их благословила образом, простилась с ними и потребовала внучат, но мать сказала, что она может проститься с ними заочно. Больная не настаивала и, усилив голос, требовала, чтоб мать и отец поклялись перед образом не обижать сироту, которая, рыдая, лежала у ее ног. Мать что-то много говорила умирающей бабушке, та отвечала едва слышными вздохами и качанием головы, как будто в знак благодарности, – и вдруг голова ее быстро наклонилась набок. Отец оттащил громко зарыдавшую мать от постели и увел ее в другую комнату, оставив у ног почти уже мертвой старухи одну ее дочь… Мне стало страшно, я бросилась в детскую, где было тихо и темно, мигом разделась и легла…
Утром нас разбудили, повторяя: «Вставайте, ваша бабушка умерла!» Я вскочила и прямо побежала в комнату, где накануне бабушка благословляла мать и отца, но остановилась на пороге как прикованная, оцепенев от ужаса: сморщенное и неподвижное тело омывали на полу две женщины, грубо вывертывая окоченевшие руки и ноги; лица я сначала не могла видеть, потому что оно было закрыто склоченными седыми волосами; но когда одна из женщин схватила волосы и откинула назад, чтоб их мыть, я узнала бабушку – чуть не вскрикнула от страху и убежала. Заметив мою бледность, стали спрашивать о причине:
– Я видела бабушку, ее моют какие-то женщины! – отвечала я, дрожа.
Меня грозились наказать за любопытство, но за недосугом ограничились угрозой. Когда я потом увидела бабушку, лежавшую на столе в белом чепце и капоте, то не могла понять, отчего так сильно испугалась ее утром.
Почти все жильцы дома перебывали у нас посмотреть на бесчувственное лицо бабушки и на плачущую тетеньку. У гроба читал что-то в нос дьячок с маленькой косичкой, которого мы развлекали расспросами и рассказами. Нежность матери к тетеньке от меня не укрылась: она при всех беспрестанно целовала ее, сажала возле себя и уговаривала есть. Мне было очень жаль тетеньку… Наступил день похорон. Мы радовались, что нас повезут на кладбище, а решились взять нас потому, что не с кем было оставить дома… Комната, где стояло тело, наполнилась народом. Заунывное пение причетников, странные взвизгивания матери стеснили мне дыхание, я также начала горько плакать. Началось прощанье: холодно и задумчиво подошел к гробу отец наш и поцеловал свою мать, которой очень редко приходилось видеть ласку сына при жизни; за ним с криками приблизилась маменька отдать последний долг женщине, потерпевшей от нее много горьких слез и унижения. Поцеловав бабушку, она начала биться, протяжно стонать и упала у гроба. Ее оттащили и принялись ухаживать за ней. Наступила очередь дочери, я думаю, единственного существа, любившего покойницу и имевшего право на последний поцелуй. Тихо рыдая, прильнула она к посинелым губам своей матери, потом к глазам, потом опять к губам – и долго бы оставалась в таком положении, если б отец не оторвал ослабевшую сестру свою от покойницы и не передал ее на руки скучавших родственников. Наступила наша очередь, и я от тяжелого впечатления дрожала вся и рыдала, целуя в последний раз бабушку. За нами последовали с постными лицами родственники и посторонние, за ними прислуга. Вдруг наступило молчание, никто уже не подходил прощаться, но как будто невольно медлили накрыть гроб. Священник спросил: «Все ли простились с усопшей?» Ответа не было, и он сделал рукою знак. Когда наложили крышку на гроб, мне сделалось так тяжело и душно за бабушку, как будто меня заколачивают вместе с ней, – и первый удар молотка до того потряс меня, что я закрыла руками лицо и заплакала. Не знаю, долго ли я плакала, но меня вывел из этого состояния брат, который толкнул меня и сказал:
– Наташа, беги скорей в карету, а то опоздаешь, останешься одна дома!
Испуганная, я побежала за ним из комнаты.
Медленный поезд за гробом закачал меня, и я очень сладко заснула. Когда же нас высадили из кареты, я тотчас побежала в поле, которое увидела теперь в первый раз в жизни. Я собирала цветы и разные мелкие травки, бегала за бабочками и даже одну поймала, что доставило мне неописанную радость; потом я сжалилась над ней и дала ей свободу лететь, но бедная бабочка тоскливо била крыльями и вертелась у меня на руке, – тут только я заметила, что по неосторожности сломала ей одно крылышко… Я готова была плакать, как вдруг услышала пение, которое напомнило мне, где я и зачем я здесь. Я бросила бабочку и, как стрела, пустилась навстречу пению. Запыхавшись, я примкнула к шествию, и мы вошли в сад с каменными куклами, как мне тогда показалось. Процессия остановилась у приготовленной могилы. Мне бросился в глаза червяк, длинный, предлинный, который вертелся с необыкновенной быстротой на взрытой земле. Я начала вглядываться и увидела множество червей, которые отчаянными усилиями старались выползти из земли, чтоб вновь с быстротой в нее же скрыться. Вдруг меня кто-то дернул за платье, я обернулась и увидела двух безобразных, морщинистых старух в черных салопах странного фасону и в черных платках.
– Кого это хоронят, из ваших, что ли?
– Да, это мою бабушку хоронят.
– А которая ваша маменька, полная или худая?
– Нет, полная.
– Ах, она, моя голубушка! Как хорошо плачет! Что ж, это ее мать умерла?
– Нет, та бабушка жива.
– Так это она, моя родная, плачет о чужой матери?
– Как о чужой? Она бабушка.
– Так вот она этой худой-то мать?
– Да, это наша тетенька.
– А кто ваш отец?
– Мой отец? – И я приостановилась. – А вот показался, вот он!
– Нет-с, мы хотим знать, где он служит?
– Он музыкант.
– Что? – спросила одна старуха. – Му-зы-кант?
Старуха произнесла это слово очень протяжно: я повторила им:
– Музыкант!
– У твоей бабушки были деньги? – снова спросила старуха резким тоном.
Мне показалось странным, что она вдруг начала называть меня «ты». Я отвечала холодно:
– Какие деньги?
– Ну, оставила ли твоя бабушка денег твоей тетке?
– Нет!
Я сказала это назло старухам, сама не зная, были деньги у бабушки или нет.
– Ах она, бедная! Сирота, без отца, без матери!
Тут обе старухи принялись вздыхать и соболезновать о горькой участи сироты. Но они скоро замолкли, обратив внимание на суету, происходившую в процессии. Начали опускать гроб в могилу с криками, плачем и пением. Я не могла без отвращения подумать, что бабушку оставят одну в земле и с таким множеством червей… Начали бросать землю на гроб. Мать моя довольно трагически бросила свою горсть земли в могилу, потом она взяла тетеньку за руку и отвела ее от могилы, сказав:
– Полно, полно, теперь уж все кончено!
Тетенька в первый раз вскрикнула и упала на грудь маменьки. Я видела эту сцену и плакала, а когда тетенька упала, я хотела обежать могилу, чтобы стать к ней ближе, но одна из старух схватила меня за руку и сказала:
Авдотья Яковлевна Панаева
«В комнате, освещенной нагорелой свечой, омывали тело умершей – шестимесячной моей сестры. Ее глаза с тусклым и неподвижным взором наводили на меня ужас. В комнате была тишина; ни отец мой, ни мать не плакали; плакала одна кормилица – о золоченом повойнике и шубе, которых лишилась по случаю слишком преждевременной смерти моей сестры: погоди она умирать пять, шесть месяцев, дело кормилицы было бы кончено, и обещанная награда не ушла бы от ее рук…»
Авдотья Панаева
Семейство Тальниковых
Записки, найденные в бумагах покойницы
Глава I
В комнате, освещенной нагорелой свечой, омывали тело умершей – шестимесячной моей сестры. Ее глаза с тусклым и неподвижным взором наводили на меня ужас. В комнате была тишина; ни отец мой, ни мать не плакали; плакала одна кормилица – о золоченом повойнике и шубе, которых лишилась по случаю слишком преждевременной смерти моей сестры: погоди она умирать пять, шесть месяцев, дело кормилицы было бы кончено, и обещанная награда не ушла бы от ее рук.
В первую минуту смерть произвела на меня сильное впечатление, но по совершенному равнодушию окружающих, по отсутствию отца и матери я заключила, что смерть не важная вещь. Периодические ссоры матери с бабушкой казались мне гораздо важнее, по изобильным слезам бабушки и грозным крикам матери, которая требовала отчета: куда девались деньги, выданные на расход, и зачем так скоро вышла провизия?.. Я была всегда на стороне плачущих, потому ли, что сама много плакала, – не знаю; но плачущую бабушку мне было больше жаль, чем сердившуюся мать. За продолжительной ссорой следовало примирение, и новые слезы бабушки, только уже не печальные, а радостные, заключали сцену до следующего месяца, то есть до новой закупки провизии…
Когда я начала помнить себя, мне было около шести лет. В доме у нас жило много родных: две сестры матери, сестра и мать отца. Бабушку мы очень любили, потому что она нас баловала… Маменька мало о нас заботилась, а отец, занятый службой, не обращал ни малейшего внимания на своих детей, число которых аккуратно каждый год увеличивалось. У меня уж было две сестры – Катя и Соня, три брата – Миша, Федя и Ваня… Мы не питали особенной нежности к родителям, которые, с своей стороны, также не очень нас ласкали. Помню один случай: раз маменька уезжала лечиться на целое лето на воды. Наступил день, когда она должна была возвратиться: весь дом ожидал ее, но в тот день она не приехала. Нас уложили спать; но я не могла заснуть: мне очень хотелось видеть маменьку. Когда все ушли из комнаты, я тихонько встала с постели, села у окна и начала смотреть на улицу и прислушиваться к шуму. Но маменька не ехала! Я готова была плакать, сердце у меня сильно билось при малейшем шуме в других комнатах. Наконец весь дом заснул, заснула и я, измученная ожиданием, и мне приснилось, что маменька крепко целует и держит меня на руках: мне стало так весело. Вдруг слышу: маменька приехала! Я сбежала вниз, и первое мое движение было – кинуться к ней. Она, казалось, удивилась моей радости и поцеловала меня. Я заплакала… Меня обступили, начали спрашивать, что со мною, о чем плачу? Я сказала: рада, что вижу маменьку. Все засмеялись, маменька, улыбаясь, взяла меня на руки. Я обхватила ее шею, крепко прижалась к ней и пуще прежнего зарыдала. Она стала уговаривать меня, предлагала гостинцев, но я от них отказалась и продолжала плакать, закрыв лицо руками… Мать решила, что я больна, и, сказав: «Посмотрите, как она дрожит», велела отвести меня в детскую и уложить спать. Я стала проситься опять к ней, но меня не пустили…
Мать нас мало ласкала, мало занималась нами, зато мы мало от нее и терпели; но свирепость, в которую иногда впадал отец, была для нас слишком ощутительна. В минуты своей раздражительности он колотил всех встречных и ломал все, что попадалось ему под руку. И бил ли он детей или свою легавую собаку, выражение лица его было одинаково – желание утолить свою ярость. Он вонзал вилку в спину собаки с таким же злым спокойствием, как и пускал тарелкой в свою жену. Помню, раз мне и трехлетнему брату случилось испытать порыв его бешенства. Была вербная неделя; отец пришел откуда-то домой, спросил завтрак и выпил целый графин водки. В углу той же комнаты играла я с братом в вербы. Отец вздумал принять участие в нашей игре и предложил брату бить себя вербой, сказав: «Увидим, кто больнее ударит…» Брат с восторгом ударил отца, но вслед за тем получил до того сильный удар, что вскрикнул от боли. Отец сказал: «Ну, теперь опять твоя очередь. Не плачь! На то игра: верба хлес – бьет до слез!..» Но брат продолжал плакать, за что получил новый удар, за которым последовало еще несколько медленных, но не менее жестоких ударов. Отец славился своей силой: он сгибал в узел кочергу. Сперва я не смела вступиться за брата: о правах родителей я имела такое понятие, что они могут не только наказывать, но и убивать детей, а несправедливости я еще не понимала. Но вопли брата заставили меня все забыть: я кинулась к нему и заслонила его собой, оставляя на жертву отцу свою открытую шею и грудь. Ничего не заметив, отец стал бить меня. То умолкая, то вскрикивая сильней, я старалась заставить его прекратить жестокую игру, но он, бледный и искаженный от злости, продолжал хлестать вербой ровно и медленно… Не знаю, скоро ли кончилась бы эта сцена и что было бы с нами, если б на крик наш не прибежала мать и не оттащила отца. Мы были окровавлены: мать, как я помню, в первый раз в жизни прижала меня к сердцу, но нежность ее была непродолжительна: опомнясь, она велела мне итти в детскую и грозила наказать, если я осмелюсь еще раз без ее позволения играть в спальне. Отец молча ходил по комнате, как будто приискивая новую пищу своему бешенству. Наконец он спросил еще графин водки, выпил весь, взял шляпу и вышел. Пронзительный визг собаки, попавшейся ему в прихожей, раздался по всему дому.
В такое расположение духа отец впадал обыкновенно от неприятностей по службе, неудач в волокитстве, ревности жены. Помню, раз он при матери поцеловал какую-то хорошенькую женщину. Я готова была кинуться на него, видя слезы матери, которая нисколько не скрывала своего гнева; отец ушел в бешенстве вместе с гостьей…
Между тем семейство с каждым годом прибавлялось. Родители признали нужным для нас воспитание и заставляли нас сидеть за столом с книгой по два часа в день. Учение наше не простиралось далее затверживанья басен с нравоучениями вроде: «Раскаяние не помогает», и некоторых молитв, в которых мы ни слова не понимали. Но ими ограничивалась вся наша религия.
Мы очень часто старались определить себе, что такое чорт, которого мы ясно видели по ночам или в темных комнатах, благодаря нелепым рассказам нянек и кормилиц; с расспросами о нем мы прибегали к тетушкам, которые нельзя сказать, чтоб тоже пользовались жизнию и свободою, а потому нам немало доставалось и от них: недовольные матерью, они вымещали свой гнев на нас. Ответ на наши расспросы был обыкновенно короток и выразителен: «Прочь! Надоели! Выдеру уши», и часто любознательный возвращался с красными ушами, чтоб снова принять участие в прениях о чорте…
Никаких книг, кроме азбуки, я не видала, потому сказки кормилицы казались мне чем-то необыкновенно привлекательным. Если герой или героиня страдали, то мы плакали и просили кормилицу сделать их счастливыми, обещая ей за то сухарей. Сухари играли между нами роль ходячей монеты. Нам давалось в день по четыре сухаря, и они составляли единственную собственность, бывшую в полном нашем распоряжении. Но мне нередко приходилось заменять сухари своими куклами, потому что меня беспрестанно оставляли без чаю. Торговля у нас процветала: даже личные оскорбления выкупались сухарями. Раз, раздраженная насмешками и разными выходками старшей сестры, мешавшей мне играть, я увлеклась гневом и, пренебрегая последствиями, ударила ее в лицо. Оскорбленная с радостию бросилась к двери и угрожала пожаловаться отцу, который в таких случаях жестоко наказывал виновную, не разбирая причин, заставивших прибегнуть к такому сильному средству. Зная, что могу откупиться, я была спокойна и предложила сухари. Но на этот раз сестра, по чувству оскорбленного достоинства, отвергла такой обыкновенный выкуп и предложила мне следующее условие: подавать и убирать ее игрушки, когда она прикажет, в продолжение пяти лет. Я приняла условие, рассчитывая на его нелепость, но ошиблась в расчете. Последствия были печальны. Не знаю почему, жалобы и оправдания мои не имели никакого весу не только у старших, но даже у братьев и сестер; самые младшие могли безнаказанно рвать мои куклы и платья, щипать и толкать меня, проходя мимо, не потому ли, думала я, что я очень черна, но старший брат был так же черен, однакож не страдал от своей черноты, напротив, даже пользовался некоторым весом, по своей силе и упрямству. Сестра нарочно приноровляла свои приказания так, чтобы беспрестанно отрывать меня от моих кукол. Наконец однажды терпение мое лопнуло: я отказалась исполнять ее приказания. Она побежала жаловаться тетеньке. Тетенька находила особенное удовольствие наказывать меня. Угрозы градом посыпались на мою черную голову. Но я не смутилась и наотрез объявила, что «уж довольно: целые три года я была дурой и слушалась сестру, а теперь больше носить ей игрушек ни за что не буду…» Уши, мои бедные уши всегда страдали первые! Тетенька за ухо повела меня в угол; я начала плакать и жаловаться, но дорого заплатила за свое сопротивление: объявили, что не дадут мне есть целую неделю. Меня так часто оставляли без чаю, без обеда, без ужина по целому месяцу, что такое наказание обратилось мне в привычку, и я страдала только в таких случаях, когда, забывшись, подойдешь, бывало, к столу, и вдруг закричат: «А вы-то зачем? Разве забыли, что вы сегодня без чаю!..» Тогда я злилась и плакала… Раз меня оставили без пирожного. Тетенька вздумала подшутить надо мной при посторонних и сказала с злой усмешкой: «Дай свою тарелку, я положу тебе пирожного!..» Я вся вспыхнула, но тотчас оправилась и отвечала, что доктор запретил мне есть это пирожное… Ярость исказила лицо тетушки, она торжественно объявила гостям, что я бесчувственная: смею еще шутить, когда наказана, и прибавила, что мне нужно наказание посильнее. После обеда она привела в исполнение свою мысль…
Но, за исключением этих маленьких неприятностей, до десятилетнего возраста мы жили весело и свободно, предаваясь играм без различия пола, потому что родители нас тоже не различали. Наказание розгами было в одинаковом употреблении как для мальчиков, так и для девочек. Не секли только старшую сестру, которая считалась смирной, умной, прилежной девочкой. Бывало, если у меня нет своего горя, я вступалась за обиженного и за него получала наказание, но сестра ничем не трогалась, спокойно смотрела, как при ней обижают невинного, и никогда не плакала…
Смерть бабушки положила конец золотым дням нашего детства – золотым, потому что скоро мы лишились и тех радостей, которыми при ней пользовались. Бабушка сделалась очень больна, и как ей было уже 60 лет, то она и не могла перенести трудной болезни. В один вечер больной сделалось очень дурно; нас всех уложили ранее обыкновенного, что всегда делалось в торжественных случаях. Не знаю как, но у меня достало духу спрятаться в темном углу комнаты, освещенной одной лампадой, и я видела, как рыдала дочь бабушки – тетенька Александра Семеновна; мать моя тоже плакала, но ее слезы совсем не походили на тетенькины и не трогали меня; отец был серьезен. Бабушка всех их благословила образом, простилась с ними и потребовала внучат, но мать сказала, что она может проститься с ними заочно. Больная не настаивала и, усилив голос, требовала, чтоб мать и отец поклялись перед образом не обижать сироту, которая, рыдая, лежала у ее ног. Мать что-то много говорила умирающей бабушке, та отвечала едва слышными вздохами и качанием головы, как будто в знак благодарности, – и вдруг голова ее быстро наклонилась набок. Отец оттащил громко зарыдавшую мать от постели и увел ее в другую комнату, оставив у ног почти уже мертвой старухи одну ее дочь… Мне стало страшно, я бросилась в детскую, где было тихо и темно, мигом разделась и легла…
Утром нас разбудили, повторяя: «Вставайте, ваша бабушка умерла!» Я вскочила и прямо побежала в комнату, где накануне бабушка благословляла мать и отца, но остановилась на пороге как прикованная, оцепенев от ужаса: сморщенное и неподвижное тело омывали на полу две женщины, грубо вывертывая окоченевшие руки и ноги; лица я сначала не могла видеть, потому что оно было закрыто склоченными седыми волосами; но когда одна из женщин схватила волосы и откинула назад, чтоб их мыть, я узнала бабушку – чуть не вскрикнула от страху и убежала. Заметив мою бледность, стали спрашивать о причине:
– Я видела бабушку, ее моют какие-то женщины! – отвечала я, дрожа.
Меня грозились наказать за любопытство, но за недосугом ограничились угрозой. Когда я потом увидела бабушку, лежавшую на столе в белом чепце и капоте, то не могла понять, отчего так сильно испугалась ее утром.
Почти все жильцы дома перебывали у нас посмотреть на бесчувственное лицо бабушки и на плачущую тетеньку. У гроба читал что-то в нос дьячок с маленькой косичкой, которого мы развлекали расспросами и рассказами. Нежность матери к тетеньке от меня не укрылась: она при всех беспрестанно целовала ее, сажала возле себя и уговаривала есть. Мне было очень жаль тетеньку… Наступил день похорон. Мы радовались, что нас повезут на кладбище, а решились взять нас потому, что не с кем было оставить дома… Комната, где стояло тело, наполнилась народом. Заунывное пение причетников, странные взвизгивания матери стеснили мне дыхание, я также начала горько плакать. Началось прощанье: холодно и задумчиво подошел к гробу отец наш и поцеловал свою мать, которой очень редко приходилось видеть ласку сына при жизни; за ним с криками приблизилась маменька отдать последний долг женщине, потерпевшей от нее много горьких слез и унижения. Поцеловав бабушку, она начала биться, протяжно стонать и упала у гроба. Ее оттащили и принялись ухаживать за ней. Наступила очередь дочери, я думаю, единственного существа, любившего покойницу и имевшего право на последний поцелуй. Тихо рыдая, прильнула она к посинелым губам своей матери, потом к глазам, потом опять к губам – и долго бы оставалась в таком положении, если б отец не оторвал ослабевшую сестру свою от покойницы и не передал ее на руки скучавших родственников. Наступила наша очередь, и я от тяжелого впечатления дрожала вся и рыдала, целуя в последний раз бабушку. За нами последовали с постными лицами родственники и посторонние, за ними прислуга. Вдруг наступило молчание, никто уже не подходил прощаться, но как будто невольно медлили накрыть гроб. Священник спросил: «Все ли простились с усопшей?» Ответа не было, и он сделал рукою знак. Когда наложили крышку на гроб, мне сделалось так тяжело и душно за бабушку, как будто меня заколачивают вместе с ней, – и первый удар молотка до того потряс меня, что я закрыла руками лицо и заплакала. Не знаю, долго ли я плакала, но меня вывел из этого состояния брат, который толкнул меня и сказал:
– Наташа, беги скорей в карету, а то опоздаешь, останешься одна дома!
Испуганная, я побежала за ним из комнаты.
Медленный поезд за гробом закачал меня, и я очень сладко заснула. Когда же нас высадили из кареты, я тотчас побежала в поле, которое увидела теперь в первый раз в жизни. Я собирала цветы и разные мелкие травки, бегала за бабочками и даже одну поймала, что доставило мне неописанную радость; потом я сжалилась над ней и дала ей свободу лететь, но бедная бабочка тоскливо била крыльями и вертелась у меня на руке, – тут только я заметила, что по неосторожности сломала ей одно крылышко… Я готова была плакать, как вдруг услышала пение, которое напомнило мне, где я и зачем я здесь. Я бросила бабочку и, как стрела, пустилась навстречу пению. Запыхавшись, я примкнула к шествию, и мы вошли в сад с каменными куклами, как мне тогда показалось. Процессия остановилась у приготовленной могилы. Мне бросился в глаза червяк, длинный, предлинный, который вертелся с необыкновенной быстротой на взрытой земле. Я начала вглядываться и увидела множество червей, которые отчаянными усилиями старались выползти из земли, чтоб вновь с быстротой в нее же скрыться. Вдруг меня кто-то дернул за платье, я обернулась и увидела двух безобразных, морщинистых старух в черных салопах странного фасону и в черных платках.
– Кого это хоронят, из ваших, что ли?
– Да, это мою бабушку хоронят.
– А которая ваша маменька, полная или худая?
– Нет, полная.
– Ах, она, моя голубушка! Как хорошо плачет! Что ж, это ее мать умерла?
– Нет, та бабушка жива.
– Так это она, моя родная, плачет о чужой матери?
– Как о чужой? Она бабушка.
– Так вот она этой худой-то мать?
– Да, это наша тетенька.
– А кто ваш отец?
– Мой отец? – И я приостановилась. – А вот показался, вот он!
– Нет-с, мы хотим знать, где он служит?
– Он музыкант.
– Что? – спросила одна старуха. – Му-зы-кант?
Старуха произнесла это слово очень протяжно: я повторила им:
– Музыкант!
– У твоей бабушки были деньги? – снова спросила старуха резким тоном.
Мне показалось странным, что она вдруг начала называть меня «ты». Я отвечала холодно:
– Какие деньги?
– Ну, оставила ли твоя бабушка денег твоей тетке?
– Нет!
Я сказала это назло старухам, сама не зная, были деньги у бабушки или нет.
– Ах она, бедная! Сирота, без отца, без матери!
Тут обе старухи принялись вздыхать и соболезновать о горькой участи сироты. Но они скоро замолкли, обратив внимание на суету, происходившую в процессии. Начали опускать гроб в могилу с криками, плачем и пением. Я не могла без отвращения подумать, что бабушку оставят одну в земле и с таким множеством червей… Начали бросать землю на гроб. Мать моя довольно трагически бросила свою горсть земли в могилу, потом она взяла тетеньку за руку и отвела ее от могилы, сказав:
– Полно, полно, теперь уж все кончено!
Тетенька в первый раз вскрикнула и упала на грудь маменьки. Я видела эту сцену и плакала, а когда тетенька упала, я хотела обежать могилу, чтобы стать к ней ближе, но одна из старух схватила меня за руку и сказала: