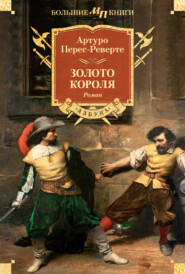По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Капитан Алатристе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Капитан Алатристе
Артуро Перес-Реверте
Мир приключений. Большие книгиПриключения капитана Алатристе #1
По страницам популярного цикла историко-приключенческих романов Переса-Реверте со шпагой в руке шагает бесстрашный воин армии испанского короля, а в свободное от сражений время дуэлянт, авантюрист, благородный разбойник и наемный убийца, человек чести Диего Алатристе, которого за его неимоверную храбрость называют капитаном. Он всегда ходит по острию клинка, а судьба то несправедлива к нему, то благосклонна – Алатристе наживает себе врагов, вступает в схватку с могущественной испанской инквизицией, участвует в долгой осаде Бреды, воспетой великим Веласкесом на знаменитой картине, отвоевывает золото у контрабандистов, нелегально вывозящих его из Нового Света. И что при этом достается ему? Слава? Богатство? Нет. Потому что есть в мире ценности, которых не заменит ни звон металла, ни награды из холодных вельможных рук. Честь превыше всего – честь и достоинство.
Артуро Перес-Реверте – бывший военный журналист, прославленный автор блестящих исторических, военных, приключенческих, детективных романов, переведенных на сорок языков, обладатель престижнейших литературных наград; цикл об Алатристе – один из высочайших его литературных взлетов. «Капитан Алатристе, – писал о цикле коллега автора Альберто Монтанер, – удостоился чести стать одним из тех персонажей, что вошли в клуб литературных мифов и навеки поселились в коллективном воображении. Серьезное достижение, если учесть, что испанцев в этом клубе всего ничего: Эль Сид, Дон Жуан да Дон Кихот».
Артуро Перес-Реверте
Капитан Алатристе
Arturo Pеrez-Reverte
EL CAPITАN ALATRISTE
Copyright © 1996, Arturo y Carlota Pеrez-Reverte
All rights reserved © А. С. Богдановский, перевод, 2004
© Н. Ю. Ванханен, перевод стихотворений, 2004, 2005
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Азбука®
* * *
Как под рокот барабана
Под командой капитана
Шли мы, братцы, в дальний путь,
Капитан страдал от раны,
Помни, братцы, капитана,
Помянуть не позабудь.
Э. Марки?на. Солнце село во Фландрии[1 - Здесь и далее стихи, кроме указанных особо, – в переводе А. Богдановского.]
I
Таверна «У турка»
Нет, он был не самый честный и не самый милосердный человек на свете. А вот потягаться с ним в отваге смогли бы немногие. Звали его Диего Алатристе-и-Тенорио, некогда служил он в солдатах, воевал во Фландрии, а в пору нашего с ним знакомства жил в Мадриде. Жил, по правде говоря, скудно и трудно, кое-как сводя концы с концами, зарабатывая себе на пропитание разными малопочтенными занятиями: ну, например, превосходно владея шпагой, предлагал свои услуги тем, у кого не хватало мужества или мастерства справиться с собственными неприятностями самим. Вот и приглашали нашего капитана вступиться за честь обманутого мужа, доказать невесть откуда взявшимся наследникам всю неосновательность их притязаний, а с кого-то, скажем, получить просроченный или недоплаченный карточный должок. Ну и прочее в том же роде. Не судите, господа, слишком строго – в те времена в испанской столице многие кормились, так сказать, с острия клинка, поджидая жертву где-нибудь в кустах или затевая с ней ссору на перекрестке. С такими делами Диего Алатристе справлялся блистательно. Проворен был он в тот миг, когда шпаги вылетали из ножен, искусен в обращении с узким длинным кинжалом, именуемым еще бискайцем, к помощи которого так охотно прибегают профессиональные головорезы. Ну, значит, в правой – шпага, в левой – бискаец. Противник, чинно став в позицию, намеревается парировать и наносить удары по всем правилам фехтовальной изысканности, и тут вдруг откуда-то снизу по самую рукоять въезжает ему прямо в брюхо кинжал, стремительный, как молния, и не менее смертоносный. Да… Говорю ж вам, господа, времена были лихие.
Итак, капитан Алатристе хлеб свой насущный добывал шпагой. Кстати, насколько я знаю, «капитан» – это было не звание, а прозвище. Пристало же оно к нему издавна, с тех пор как он служил в королевской пехоте и однажды ночью вместе с двадцатью девятью товарищами под началом настоящего капитана должен был переплыть полузамерзшую речку и, со шпагой в зубах, раздевшись до исподнего, чтоб не выделяться на снегу – господи, чего только не сделаешь во славу Испании! – незаметно подобраться к аванпостам противника и напасть на голландцев врасплох. Почему на голландцев? Потому что в тот год воевали мы с голландцами, которые высказались в том смысле, что знать нас больше не знают и видеть не хотят, то есть вздумали провозгласить независимость. Вышло в конечном счете по-ихнему, хоть и доставалось им от нас крепко. Ну, замысел состоял в том, чтобы форсировать реку, закрепиться на берегу, на отмели, у запруды или еще дьявол знает где и держаться, пока на рассвете войска его – нашего то есть – королевского величества не пойдут в атаку и не соединятся с ними. Короче, передовое охранение, как полагается, перекололи, не дав даже «мама» сказать. Когда околевшие от холода наши стали выпрыгивать из воды и для сугреву резать еретиков, те дрыхли как сурки и так вот, не просыпаясь, отправились прямо в пекло, ну или где им, проклятым лютеранам, уготовано место. Все было хорошо, одно плохо: пришел рассвет, настало утро, а на выручку к нашим храбрецам никто не подоспел, главные силы испанского войска так и не ударили. Как потом выяснилось, чего-то там между собой не поделили наши полководцы. Чтоб не рассусоливать, скажу, что тридцать испанцев с капитаном во главе брошены оказались на произвол судьбы, предоставлены самим себе – хоть молись, хоть бранись, хоть помирать ложись – и окружены голландцами, которые были весьма расположены сквитаться с ними за своих зарезанных товарищей. Тухлое вышло дело, тухлей, чем у Непобедимой армады, что утопла при нашем славном государе Филиппе Втором. Денек выдался долгий и, прямо сказать, тяжкий. Для ясности упомяну лишь, что с наступлением темноты только двоим удалось вернуться на наш берег. И одним из этих двоих был Диего Алатристе, который, когда настоящего капитана еще при самом начале, в первой же стычке пропороли насквозь, так что стальное острие вышло из-под лопатки пяди на две, вскричал: «Слушай мою команду!» – вот и стали к нему обращаться «капитан», хоть он и не успел толком походить в этом чине. Калиф на час, капитан на день, командир прижатого к реке отряда обреченных, которые дорого продали свою шкуру и один за другим, матерясь, как пристало истинным кастильцам, убыли на тот свет. Что ж, бывает – война убивает, вода топит. Нам, испанцам, не привыкать.
Ну, короче. Вторым из тех, кто уцелел в том бою и выбрался на наш берег, был мой отец. Звали его Лопе Бальбоа, был он родом из провинции Гипускоа и тоже не трус. Говорили, что они с Диего Алатристе – закадычные друзья, почти братья, и, должно быть, правду говорили, ибо, когда при штурме бастиона Юлих отца моего прошила аркебузная пуля – отчего он и не попал на картину «Сдача Бреды», не в пример своему другу и тезке Алатристе, которого-то художник Веласкес как раз запечатлел на ней справа, прямо за лошадиным крупом, – капитан поклялся, что не оставит меня и, как подрасту, выведет в люди. По этой самой причине, едва лишь минуло мне тринадцать, мать сложила в котомку штаны да рубашку, освященные четки да краюшку хлеба и отправила меня к капитану, благо было с кем – двоюродный ее брат очень кстати ехал в Мадрид. Так вот и поступил я к другу моего отца не то на службу, не то в услужение.
Положа руку на сердце, скажу, что едва ли женщина, подарившая мне жизнь, так легко бы отпустила меня, знай она получше, к кому я попаду. Думается мне, однако, что чин, пусть и ненастоящий, возвысил его обладателя в глазах моей родительницы. Примите также в расчет и то, что при слабом здоровье у нее на руках были еще две дочери. А потому она обрадовалась, что избавится от лишнего рта, и дала мне возможность попытать счастья в столице. Таким-то вот манером, не обременяя себя подробными расспросами о грядущем моем благодетеле, снарядила она сынка в дорогу, сопроводив пространным письмом, которое написал под ее диктовку наш приходский священник, а в письме этом напоминала Диего Алатристе, какие обязательства взял он, какие обещания дал в память дружества с моим покойным отцом. Помнится, когда я только попал к капитану, он совсем недавно вернулся из Фландрии и жуткая рана, полученная им под Флёрюсом, была еще свежа и доставляла ему много мучений, так что, затаясь на своем топчане, подобно мышке, робкой и пугливой, слышал я, как всю ночь напролет ходит он по комнате из угла в угол, как мерит ее шагами вдоль и поперек, не в силах забыться сном. Когда же боль на время отступала, вперемежку слетали с его уст строчка Лопе, куплет какой-то песенки, брань или обращенное к самому себе замечание, свидетельствующее о том, что он воспринимает все, что стряслось с ним, как должное и даже находит в этом нечто забавное. Капитану вообще свойственно было считать всякое несчастье или беду не более чем злой шуткой, которую по извращенности вкуса и в видах собственного удовольствия шутит над ним время от времени какой-то давний его знакомец. Не тем ли объяснялось и своеобразие его остроумия – бесстрастно-горького и безнадежно-мрачного?
Давно все это было – так давно, что иные даты стали путаться у меня в памяти. Однако твердо помню – то, о чем я собираюсь вам поведать, произошло в тысяча шестьсот двадцать каком-то году. История с людьми в масках и двумя англичанами породила немало толков при дворе, а капитана, хоть он чудом и спас свою шкуру, и без того изрядно попорченную голландскими солдатами, берберийскими пиратами, да и турками не раз дырявленную, наделила двумя врагами, не дававшими ему покою и роздыху до самой могилы. Я имею в виду Луиса де Алькесара, исполнявшего при нашем государе секретарские обязанности, и опаснейшего наемного убийцу, молчаливого итальянского головореза по имени Гвальтерио Малатеста, который до такой степени привык убивать в спину, что впадал в глубочайшую тоску всякий раз, как должен был нанести смертельный удар, глядя жертве в глаза, ибо в сем случае мнилось ему, будто он лишился умения своего и навыка. В тот самый год влюбился я, как телок, влюбился впервые и навсегда в Анхелику де Алькесар, существо порочное и испорченное, воплощенное зло, принявшее облик беленькой девочки лет одиннадцати-двенадцати. Но впрочем, обо всем по порядку.
Я был крещен именем Иньиго. И это было первое слово, которое произнес капитан Алатристе, выйдя из тюрьмы, где за долги просидел три недели, кормясь от щедрот казны. Что касается щедрот – не поймите меня буквально, ибо и в этой каталажке, и во всех прочих исправительных заведениях того времени арестант получал лишь те блага – включая и пресловутый корм, – какие мог оплатить из собственного кармана. А у капитана в кармане оказалась лишь полузадушенная арканом блоха – зато, по счастью, остались друзья на воле. И они его не бросили в беде и заключении, тяготы которого помогали сносить всякая съестная всячина, при моем посредстве передаваемая ему Каридад Непрухой, содержательницей таверны «У турка», и сколько-то там реалов, собранных его приятелями – доном Франсиско де Кеведо, Хуаном Вигонем и кое-кем еще. Что же до всего прочего – а под «прочим» я разумею неотъемлемые от каталажки неприятности, – капитан был из тех, кто одинаково хорошо умеет себя поставить и за себя постоять. В те времена очень даже в ходу среди арестантов был прискорбный камерный обычай освобождать своих же товарищей по несчастью от излишнего добра, то есть от добротной одежды или обувки. Но Диего Алатристе был в Мадриде человек известный, ну а тот, кто не знавал его прежде, очень скоро получал возможность убедиться, что обходиться с капитаном следует как можно – или нельзя – более учтиво: оно для здоровья полезней. Как впоследствии выяснилось, ввергнутый в узилище капитан первым делом подошел к самому отпетому громиле, державшему в страхе всю камеру, и, после любезного приветствия, приставил ему к горлу короткий нож, на бойнях именуемый обвалочным, который сумел пронести благодаря нескольким медякам, вовремя сунутым надзирателю. Этот демарш возымел последствия чудодейственные. После того как капитан столь недвусмысленно обнародовал свои житейские воззрения, никто уже более не осмеливался докучать ему, так что он, завернувшись в плащ и выбрав уголок почище, спокойно ложился спать, и лучшей защитой служила ему репутация человека, с которым шутки плохи. Великодушно делимые на всех передачи от Каридад и вино, приобретению коего споспешествовали приятели на воле, в изрядной степени помогли упрочить дружеские связи с сокамерниками, не исключая и того самого, с кем в первый день вышла небольшая, как сказал бы дон Франсиско Кеведо, разно… гм!.. стопица. Тот был родом из Кордовы, носил неблагозвучное имя Бартоло Типун и при ближайшем рассмотрении оказался вовсе не таким уж закоренелым злодеем, хоть и неоднократно по вине буйного своего нрава помещаем бывал за решетку. Да что говорить, в избытке обладал Диего Алатристе этим даром – он бы и в аду завел друзей.
Знаете, так давно это было, что даже не верится. Я запамятовал, какой в ту пору год стукнул нашему столетию – двадцать второй или двадцать третий, – но помню точно, что, когда капитан вышел из тюрьмы, от синей студеной свежести мадридского утра перехватывало дыхание. С того дня, который – оба мы тогда об этом даже не догадывались – так круто переменил нашу с капитаном жизнь, прошло немало времени и немало воды утекло под мостами Мансанареса, но, как сейчас, вижу я перед собой осунувшегося, обросшего щетиной Диего Алатристе: вот переступил он порог, и обитая гвоздями деревянная черная дверь закрылась у него за спиной. Вижу, как он сощурился и заморгал от ударившего в лицо ослепительного утреннего сияния, вижу густые усы, закрывающие верхнюю губу, вижу стройную фигуру в плаще, вижу, как, заметив меня на каменной скамье посреди площади, он улыбнулся одними глазами – светлыми, чуть сощуренными. Надо сказать, взгляд у капитана был какой-то особенный: обычно пронзительно-ясный и будто подернутый тонким ледком, как вода в озерце зимним утром, он порою вдруг теплел, делаясь дружелюбным и приветливым, и тогда казалось, что жаркий луч пробил ледяную корку, хотя лицо сохраняло бесстрастную и невозмутимую значительность. Была у него и другая улыбка – приберегалась для тех случаев, когда грозила опасность или томила печаль: тогда, встопорщивая ус, слегка кривились влево уголки губ и на лице появлялась либо угроза, неотвратимая, как разящий удар шпаги – он, впрочем, следовал без промедления, – либо глубокая скорбь. Последнее случалось в те дни, когда капитан в полном молчании и совершенном одиночестве выпивал в один присест несколько бутылок вина. Высосет литра три с лишним – и ничего: только время от времени характерным своим жестом утрет усы, вперив неподвижный взгляд в стену. «Призраков отгоняю», – говаривал он в таких случаях, хотя ни разу не удалось ему сделать так, чтобы они сгинули навсегда.
В то утро, заметив, что я поджидаю его на площади, он улыбнулся мне своей первой улыбкой: лицо осталось каменно-непроницаемым, речи сохранили суровую краткость, но глаза, выдавая истинные его чувства, засветились приветливо. Потом огляделся по сторонам и, явно довольный тем, что у ворот его не подкарауливает никто из кредиторов, подошел ко мне, сбросил, не боясь озябнуть, плащ, туго свернул его и сунул мне в руки со словами:
– Иньиго, сожги его. Клопы кишмя кишат.
От плаща, как и от его владельца, пахло сильно и скверно. Прочая одежда капитана тоже полна была этими кровожадными тварями так, словно он собрался разводить их на продажу. Но это выяснилось через час, в банях Мендо Тосканца, отставного солдата, некогда служившего в Неаполе, а ныне – цирюльника. Он чрезвычайно ценил и уважал капитана. Появившись в его заведении со сменой чистого белья и верхним платьем, извлеченными из горбатого сундука, который заменял нам гардероб, я обнаружил, что Диего Алатристе стоит в деревянной лохани, полной грязной воды, и вытирается. Он был уже на славу выбрит тосканцем, и короткие каштановые, еще влажные волосы, причесанные на прямой пробор, открывали широкий лоб, посмуглевший под солнцем тюремного дворика и украшенный маленьким шрамом чуть выше левой брови. Когда капитан вытерся и отбросил полотенце, обнаружились и другие памятные отметины, мне, впрочем, уже известные. Один шрам полумесяцем тянулся от правого соска к пупку. Другой зигзагом пересекал бедро. Все три были следами ран, именуемых колотыми, резаными, рублеными, тогда как четвертый, на спине, напоминал звезду и тем самым непреложно свидетельствовал о происхождении огнестрельном. Пятая, еще не вполне затянувшаяся рана, которая так ныла по ночам, не давая капитану заснуть, являла собой лиловатый рубец чуть не в ладонь шириной, помещалась на левой лопатке, получена была в битве при Флёрюсе больше года назад, но время от времени открывалась и нагнаивалась. Впрочем, в тот день, о котором я веду речь, она была в пристойном состоянии.
Я разглядывал капитана, а он тем временем неспешно и рассеянно одевался: натянул темно-серый колет и – поверх заштопанных во многих местах чулок – штаны, сшитые по валлонской моде, то есть собранные в коленях и зашнурованные. Туго перетянул стан кожаным поясом, который я в его отсутствие не забывал усердно смазывать свиным салом, пристегнул к нему шпагу с массивной поперечной рукоятью, иначе еще именуемой крестовиной, – чужие клинки оставили на чашке и эфесе множество зазубрин, вмятин и царапин. Хорошая длинная шпага работы толедского оружейника – от протяжного «з-з-з-зык», с которым она выскальзывала из ножен или в ножны возвращалась, мурашки шли по коже. Завершив туалет, капитан погляделся в выщербленное зеркало и промолвил с усталой улыбкой:
– Клянусь Богом, сейчас умру от жары.
Не добавив к этому ни слова, он спустился по лестнице, вышел на улицу и прямиком двинулся к таверне «У турка». Оставшись без плаща, капитан выбрал солнечную сторону и зашагал по ней с высоко поднятой головой. Отвечая на приветствия знакомых, он подносил руку к своей широкополой шляпе с вылинявшим и потрепанным красным пером, а при встрече с дамами из общества – снимал ее вовсе. Я поспевал следом, разглядывая уличных мальчишек, игравших на мостовой, зеленщиц, толпившихся в колоннаде, и праздных зевак, галдевших у церкви иезуитов. Никогда не была мне свойственна чрезмерная наивность, да и месяцы, проведенные в Мадриде, возымели должное действие, обтесав меня, так сказать, и ошкурив, но все же был я в ту пору очень юн – сущий молокосос – и с неуемным любопытством взирал на открывающийся мне мир, стараясь не упустить самомалейшей подробности его устройства. Тем временем сзади зацокали копыта мулов, загремели по мостовой колеса и с нами поравнялась карета. Поначалу я лишь мельком взглянул на нее: мало ли экипажей катит по улице Толедо, выходящей прямо к Пласа-Майор и к королевскому дворцу? Но, повернув голову, увидел дверцу без герба и в окошке – девочку с белокурыми локонами. Я раньше и не представлял себе, что бывают глаза такой синевы, такой чистоты и что могут они так переворачивать душу. Мгновенье мы смотрели друг на друга, а потом карета загрохотала вниз по улице, увозя синие глаза и их обладательницу прочь. В тот миг я затрепетал, толком не понимая почему. О, знать бы, что минуту назад взглянул на меня сам дьявол!
– Придется подраться, – повторил дон Франсиско Кеведо.
Стол был уставлен порожними бутылками, а ведь известно, что всякий раз, как дон Франсиско опрокинет сколько-то стаканов «Сан-Мартин-де-Вальдеиглесиас» – что происходило с завидной регулярностью, – он хватается за шпагу и лезет в драку, причем все равно с кем. Дон Франсиско Кеведо, забулдыга и задира, поэт и рыцарь ордена Сантьяго[2 - В тексте романов упоминаются религиозно-рыцарские ордены Сантьяго и Калатравы. К XVII в. членство в них превратилось в почетное отличие – во главе ордена Калатравы стоял сам король. На принадлежность к тому или иному ордену указывал вышитый на одежде крест определенной формы: у рыцарей Сантьяго – с заостренным нижним концом, символизировавшим острие меча; у рыцарей Калатравы – со стилизованным изображением распустившихся лилий или готической буквы «М» (в честь Девы Марии). – Здесь и далее, кроме оговоренных особо, примеч. переводчика.], подслеповатый волокита, был остер на язык, тяжел на руку, стихи его были изрядны, а неурядицы – бесчисленны. Он кочевал из тюрьмы в каталажку, из ссылки в изгнание, ибо нашему всемилостивейшему государю Филиппу Четвертому и его доблестному министру графу Оливаресу, как и всем мадридцам, чрезвычайно нравились бьющие не в бровь, а в глаз стихи дона Франсиско, но вовсе не улыбалось быть в стихах этих главными героями. Так что бывало не раз и не два, что после появления очередного сонета или эпиграммы, принадлежащих перу неведомого автора, хотя в том, что перо это держала длань дона Франсиско, сомнений не возникало ни у кого, – полицейские, иначе называемые альгвасилами, вламывались в дом, где он жил, или в кабак, где пил, или в притон, где спал, и почтительно приглашали его следовать за ними, изымая, так сказать, из обращения на сколько-то дней или месяцев. Поэт был упрям и горд, голосу благоразумия внимать не желал, и подобные происшествия случались часто, а характер Кеведо портился непоправимо. Тем не менее он оставался душой всякого застолья и верным, испытанным другом своих друзей. Был среди них и капитан Алатристе. Оба захаживали в таверну «У турка», где занимали лучший стол, неизменно оставляемый для них вышеупомянутой Каридад Непрухой, которая в былые дни ласки свои расточала за деньги всем желающим, а теперь дарила бесплатно – но одному лишь капитану. Компанию Диего Алатристе и дону Франсиско составляли в тот день еще несколько завсегдатаев – лиценциат Кальсонес, Хуан Вигонь, преподобный Перес и Фадрике Кривой, аптекарь с Пуэрта-Серрада.
– Нет, придется подраться, – упорствовал поэт.
Как я уже сказал, винные пары произвели на него свое обычное одушевляющее действие. Опрокинув табурет, он вскочил, взялся за рукоять шпаги и метнул испепеляющий взгляд на двоих чужестранцев за соседним столом: повесив свои длинные плащи и портупеи со шпагами на вбитые в стену гвозди, они мирно выпивали и только что похвалили нашего поэта за стихотворение, написанное отнюдь не им, а совсем наоборот – заклятым его врагом и главным соперником на ниве изящной словесности доном Луисом де Гонгорой, которого дон Франсиско Кеведо люто ненавидел и обвинял во всех смертных грехах, называя содомитом и иудейской собакой. Чужестранцы пали жертвой добросовестного заблуждения и отнюдь не хотели обидеть дона Франсиско, но не таков был дон Франсиско, чтобы стерпеть обиду.
Свиным я сальцем строчки свои смажу,
Чтоб пасть на них не разевал поганец, –
Быть может, тем предотвращу покражу…
Так, не слишком твердо держась на ногах, начал он стихотворную отповедь, но собутыльники держали его, не давая выхватить шпагу и наброситься на чужестранцев, которые пытались объясниться и извиниться.
– Нет, черт возьми, это им так не сойдет! – Одолевая икоту, поэт пытался высвободиться, а другой рукой поправлял съехавшие очки. – Не-ет, сейчас мы всё – ик! – расставим по местам!.. До печенок меня до… – ик! – …стали, значит дело дошло до стали!
– Стоит ли так горячиться из-за сущих пустяков, дон Франсиско? – рассудительно молвил капитан.
– Это не я горячусь! – свирепо распушив усы и не сводя глаз с незнакомцев, отвечал поэт. – Это им сейчас станет горячо! Это дворяне? Какие, к черту, дворяне? Дворняжки они, а не дворяне! Я бы даже сказал – шавки!
После таких слов чужестранцам ничего не оставалось, как, прихватив шпаги, двинуться к выходу, чтобы подождать оскорбителя на улице, а капитан и прочие, поняв, что дело заходит слишком далеко, обратились к ним с покорнейшей просьбой принять в расчет помраченное вином сознание дона Франсиско и отступить без боя, ибо нет чести в том, чтобы скрестить оружие с мертвецки пьяным, как не будет и бесчестья, если они благоразумно удалятся, не доводя дело до греха.
– Bella gerant alii[3 - Пусть воюют другие (лат. Овидий. Героиды, 13, 84).], – попытался увещевать поэта преподобный Перес.
Этот священник-иезуит был настоятелем соседней церкви Святых Петра и Павла. Его добродушие и латинские изречения, произносимые им с неотразимой убедительностью, обычно помогали уладить ссору. Но эти двое чужестранцев латыни не знали, зато оскорбительное замечание насчет дворян и дворняжек пропустить мимо ушей никак не могли. Кроме того, увещеваниям клирика помешал лиценциат Кальсонес, присяжный крючкотвор и природный сутяга, дневавший и ночевавший в судах и умевший превратить любое дело, за которое брался, в бесконечный процесс, длившийся, пока клиента не высасывали досуха, до самого донышка.
– Только до смерти не убивай их, дон Франсиско, – глумливо молвил он. – Чтоб было с кого судебные издержки взыскать.
После этого обстановка в таверне стала стремительно приближаться к той, о каких на следующий день оповещает газета в разделе «Происшествия». Капитан же Алатристе, хоть и не оставлял попыток утихомирить приятеля, осознал все же, что шпагу обнажить придется, – не оставлять же дона Франсиско одного.
– Aio te vincere posse[4 - Знаменитый двусмысленный ответ Дельфийского оракула эпирскому царю Пирру, означающий либо: «Эакид [то есть Пирр] может победить римлян», либо: «Римляне могут победить Эакида».], – смиренно произнес преподобный Перес.
Артуро Перес-Реверте
Мир приключений. Большие книгиПриключения капитана Алатристе #1
По страницам популярного цикла историко-приключенческих романов Переса-Реверте со шпагой в руке шагает бесстрашный воин армии испанского короля, а в свободное от сражений время дуэлянт, авантюрист, благородный разбойник и наемный убийца, человек чести Диего Алатристе, которого за его неимоверную храбрость называют капитаном. Он всегда ходит по острию клинка, а судьба то несправедлива к нему, то благосклонна – Алатристе наживает себе врагов, вступает в схватку с могущественной испанской инквизицией, участвует в долгой осаде Бреды, воспетой великим Веласкесом на знаменитой картине, отвоевывает золото у контрабандистов, нелегально вывозящих его из Нового Света. И что при этом достается ему? Слава? Богатство? Нет. Потому что есть в мире ценности, которых не заменит ни звон металла, ни награды из холодных вельможных рук. Честь превыше всего – честь и достоинство.
Артуро Перес-Реверте – бывший военный журналист, прославленный автор блестящих исторических, военных, приключенческих, детективных романов, переведенных на сорок языков, обладатель престижнейших литературных наград; цикл об Алатристе – один из высочайших его литературных взлетов. «Капитан Алатристе, – писал о цикле коллега автора Альберто Монтанер, – удостоился чести стать одним из тех персонажей, что вошли в клуб литературных мифов и навеки поселились в коллективном воображении. Серьезное достижение, если учесть, что испанцев в этом клубе всего ничего: Эль Сид, Дон Жуан да Дон Кихот».
Артуро Перес-Реверте
Капитан Алатристе
Arturo Pеrez-Reverte
EL CAPITАN ALATRISTE
Copyright © 1996, Arturo y Carlota Pеrez-Reverte
All rights reserved © А. С. Богдановский, перевод, 2004
© Н. Ю. Ванханен, перевод стихотворений, 2004, 2005
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Азбука®
* * *
Как под рокот барабана
Под командой капитана
Шли мы, братцы, в дальний путь,
Капитан страдал от раны,
Помни, братцы, капитана,
Помянуть не позабудь.
Э. Марки?на. Солнце село во Фландрии[1 - Здесь и далее стихи, кроме указанных особо, – в переводе А. Богдановского.]
I
Таверна «У турка»
Нет, он был не самый честный и не самый милосердный человек на свете. А вот потягаться с ним в отваге смогли бы немногие. Звали его Диего Алатристе-и-Тенорио, некогда служил он в солдатах, воевал во Фландрии, а в пору нашего с ним знакомства жил в Мадриде. Жил, по правде говоря, скудно и трудно, кое-как сводя концы с концами, зарабатывая себе на пропитание разными малопочтенными занятиями: ну, например, превосходно владея шпагой, предлагал свои услуги тем, у кого не хватало мужества или мастерства справиться с собственными неприятностями самим. Вот и приглашали нашего капитана вступиться за честь обманутого мужа, доказать невесть откуда взявшимся наследникам всю неосновательность их притязаний, а с кого-то, скажем, получить просроченный или недоплаченный карточный должок. Ну и прочее в том же роде. Не судите, господа, слишком строго – в те времена в испанской столице многие кормились, так сказать, с острия клинка, поджидая жертву где-нибудь в кустах или затевая с ней ссору на перекрестке. С такими делами Диего Алатристе справлялся блистательно. Проворен был он в тот миг, когда шпаги вылетали из ножен, искусен в обращении с узким длинным кинжалом, именуемым еще бискайцем, к помощи которого так охотно прибегают профессиональные головорезы. Ну, значит, в правой – шпага, в левой – бискаец. Противник, чинно став в позицию, намеревается парировать и наносить удары по всем правилам фехтовальной изысканности, и тут вдруг откуда-то снизу по самую рукоять въезжает ему прямо в брюхо кинжал, стремительный, как молния, и не менее смертоносный. Да… Говорю ж вам, господа, времена были лихие.
Итак, капитан Алатристе хлеб свой насущный добывал шпагой. Кстати, насколько я знаю, «капитан» – это было не звание, а прозвище. Пристало же оно к нему издавна, с тех пор как он служил в королевской пехоте и однажды ночью вместе с двадцатью девятью товарищами под началом настоящего капитана должен был переплыть полузамерзшую речку и, со шпагой в зубах, раздевшись до исподнего, чтоб не выделяться на снегу – господи, чего только не сделаешь во славу Испании! – незаметно подобраться к аванпостам противника и напасть на голландцев врасплох. Почему на голландцев? Потому что в тот год воевали мы с голландцами, которые высказались в том смысле, что знать нас больше не знают и видеть не хотят, то есть вздумали провозгласить независимость. Вышло в конечном счете по-ихнему, хоть и доставалось им от нас крепко. Ну, замысел состоял в том, чтобы форсировать реку, закрепиться на берегу, на отмели, у запруды или еще дьявол знает где и держаться, пока на рассвете войска его – нашего то есть – королевского величества не пойдут в атаку и не соединятся с ними. Короче, передовое охранение, как полагается, перекололи, не дав даже «мама» сказать. Когда околевшие от холода наши стали выпрыгивать из воды и для сугреву резать еретиков, те дрыхли как сурки и так вот, не просыпаясь, отправились прямо в пекло, ну или где им, проклятым лютеранам, уготовано место. Все было хорошо, одно плохо: пришел рассвет, настало утро, а на выручку к нашим храбрецам никто не подоспел, главные силы испанского войска так и не ударили. Как потом выяснилось, чего-то там между собой не поделили наши полководцы. Чтоб не рассусоливать, скажу, что тридцать испанцев с капитаном во главе брошены оказались на произвол судьбы, предоставлены самим себе – хоть молись, хоть бранись, хоть помирать ложись – и окружены голландцами, которые были весьма расположены сквитаться с ними за своих зарезанных товарищей. Тухлое вышло дело, тухлей, чем у Непобедимой армады, что утопла при нашем славном государе Филиппе Втором. Денек выдался долгий и, прямо сказать, тяжкий. Для ясности упомяну лишь, что с наступлением темноты только двоим удалось вернуться на наш берег. И одним из этих двоих был Диего Алатристе, который, когда настоящего капитана еще при самом начале, в первой же стычке пропороли насквозь, так что стальное острие вышло из-под лопатки пяди на две, вскричал: «Слушай мою команду!» – вот и стали к нему обращаться «капитан», хоть он и не успел толком походить в этом чине. Калиф на час, капитан на день, командир прижатого к реке отряда обреченных, которые дорого продали свою шкуру и один за другим, матерясь, как пристало истинным кастильцам, убыли на тот свет. Что ж, бывает – война убивает, вода топит. Нам, испанцам, не привыкать.
Ну, короче. Вторым из тех, кто уцелел в том бою и выбрался на наш берег, был мой отец. Звали его Лопе Бальбоа, был он родом из провинции Гипускоа и тоже не трус. Говорили, что они с Диего Алатристе – закадычные друзья, почти братья, и, должно быть, правду говорили, ибо, когда при штурме бастиона Юлих отца моего прошила аркебузная пуля – отчего он и не попал на картину «Сдача Бреды», не в пример своему другу и тезке Алатристе, которого-то художник Веласкес как раз запечатлел на ней справа, прямо за лошадиным крупом, – капитан поклялся, что не оставит меня и, как подрасту, выведет в люди. По этой самой причине, едва лишь минуло мне тринадцать, мать сложила в котомку штаны да рубашку, освященные четки да краюшку хлеба и отправила меня к капитану, благо было с кем – двоюродный ее брат очень кстати ехал в Мадрид. Так вот и поступил я к другу моего отца не то на службу, не то в услужение.
Положа руку на сердце, скажу, что едва ли женщина, подарившая мне жизнь, так легко бы отпустила меня, знай она получше, к кому я попаду. Думается мне, однако, что чин, пусть и ненастоящий, возвысил его обладателя в глазах моей родительницы. Примите также в расчет и то, что при слабом здоровье у нее на руках были еще две дочери. А потому она обрадовалась, что избавится от лишнего рта, и дала мне возможность попытать счастья в столице. Таким-то вот манером, не обременяя себя подробными расспросами о грядущем моем благодетеле, снарядила она сынка в дорогу, сопроводив пространным письмом, которое написал под ее диктовку наш приходский священник, а в письме этом напоминала Диего Алатристе, какие обязательства взял он, какие обещания дал в память дружества с моим покойным отцом. Помнится, когда я только попал к капитану, он совсем недавно вернулся из Фландрии и жуткая рана, полученная им под Флёрюсом, была еще свежа и доставляла ему много мучений, так что, затаясь на своем топчане, подобно мышке, робкой и пугливой, слышал я, как всю ночь напролет ходит он по комнате из угла в угол, как мерит ее шагами вдоль и поперек, не в силах забыться сном. Когда же боль на время отступала, вперемежку слетали с его уст строчка Лопе, куплет какой-то песенки, брань или обращенное к самому себе замечание, свидетельствующее о том, что он воспринимает все, что стряслось с ним, как должное и даже находит в этом нечто забавное. Капитану вообще свойственно было считать всякое несчастье или беду не более чем злой шуткой, которую по извращенности вкуса и в видах собственного удовольствия шутит над ним время от времени какой-то давний его знакомец. Не тем ли объяснялось и своеобразие его остроумия – бесстрастно-горького и безнадежно-мрачного?
Давно все это было – так давно, что иные даты стали путаться у меня в памяти. Однако твердо помню – то, о чем я собираюсь вам поведать, произошло в тысяча шестьсот двадцать каком-то году. История с людьми в масках и двумя англичанами породила немало толков при дворе, а капитана, хоть он чудом и спас свою шкуру, и без того изрядно попорченную голландскими солдатами, берберийскими пиратами, да и турками не раз дырявленную, наделила двумя врагами, не дававшими ему покою и роздыху до самой могилы. Я имею в виду Луиса де Алькесара, исполнявшего при нашем государе секретарские обязанности, и опаснейшего наемного убийцу, молчаливого итальянского головореза по имени Гвальтерио Малатеста, который до такой степени привык убивать в спину, что впадал в глубочайшую тоску всякий раз, как должен был нанести смертельный удар, глядя жертве в глаза, ибо в сем случае мнилось ему, будто он лишился умения своего и навыка. В тот самый год влюбился я, как телок, влюбился впервые и навсегда в Анхелику де Алькесар, существо порочное и испорченное, воплощенное зло, принявшее облик беленькой девочки лет одиннадцати-двенадцати. Но впрочем, обо всем по порядку.
Я был крещен именем Иньиго. И это было первое слово, которое произнес капитан Алатристе, выйдя из тюрьмы, где за долги просидел три недели, кормясь от щедрот казны. Что касается щедрот – не поймите меня буквально, ибо и в этой каталажке, и во всех прочих исправительных заведениях того времени арестант получал лишь те блага – включая и пресловутый корм, – какие мог оплатить из собственного кармана. А у капитана в кармане оказалась лишь полузадушенная арканом блоха – зато, по счастью, остались друзья на воле. И они его не бросили в беде и заключении, тяготы которого помогали сносить всякая съестная всячина, при моем посредстве передаваемая ему Каридад Непрухой, содержательницей таверны «У турка», и сколько-то там реалов, собранных его приятелями – доном Франсиско де Кеведо, Хуаном Вигонем и кое-кем еще. Что же до всего прочего – а под «прочим» я разумею неотъемлемые от каталажки неприятности, – капитан был из тех, кто одинаково хорошо умеет себя поставить и за себя постоять. В те времена очень даже в ходу среди арестантов был прискорбный камерный обычай освобождать своих же товарищей по несчастью от излишнего добра, то есть от добротной одежды или обувки. Но Диего Алатристе был в Мадриде человек известный, ну а тот, кто не знавал его прежде, очень скоро получал возможность убедиться, что обходиться с капитаном следует как можно – или нельзя – более учтиво: оно для здоровья полезней. Как впоследствии выяснилось, ввергнутый в узилище капитан первым делом подошел к самому отпетому громиле, державшему в страхе всю камеру, и, после любезного приветствия, приставил ему к горлу короткий нож, на бойнях именуемый обвалочным, который сумел пронести благодаря нескольким медякам, вовремя сунутым надзирателю. Этот демарш возымел последствия чудодейственные. После того как капитан столь недвусмысленно обнародовал свои житейские воззрения, никто уже более не осмеливался докучать ему, так что он, завернувшись в плащ и выбрав уголок почище, спокойно ложился спать, и лучшей защитой служила ему репутация человека, с которым шутки плохи. Великодушно делимые на всех передачи от Каридад и вино, приобретению коего споспешествовали приятели на воле, в изрядной степени помогли упрочить дружеские связи с сокамерниками, не исключая и того самого, с кем в первый день вышла небольшая, как сказал бы дон Франсиско Кеведо, разно… гм!.. стопица. Тот был родом из Кордовы, носил неблагозвучное имя Бартоло Типун и при ближайшем рассмотрении оказался вовсе не таким уж закоренелым злодеем, хоть и неоднократно по вине буйного своего нрава помещаем бывал за решетку. Да что говорить, в избытке обладал Диего Алатристе этим даром – он бы и в аду завел друзей.
Знаете, так давно это было, что даже не верится. Я запамятовал, какой в ту пору год стукнул нашему столетию – двадцать второй или двадцать третий, – но помню точно, что, когда капитан вышел из тюрьмы, от синей студеной свежести мадридского утра перехватывало дыхание. С того дня, который – оба мы тогда об этом даже не догадывались – так круто переменил нашу с капитаном жизнь, прошло немало времени и немало воды утекло под мостами Мансанареса, но, как сейчас, вижу я перед собой осунувшегося, обросшего щетиной Диего Алатристе: вот переступил он порог, и обитая гвоздями деревянная черная дверь закрылась у него за спиной. Вижу, как он сощурился и заморгал от ударившего в лицо ослепительного утреннего сияния, вижу густые усы, закрывающие верхнюю губу, вижу стройную фигуру в плаще, вижу, как, заметив меня на каменной скамье посреди площади, он улыбнулся одними глазами – светлыми, чуть сощуренными. Надо сказать, взгляд у капитана был какой-то особенный: обычно пронзительно-ясный и будто подернутый тонким ледком, как вода в озерце зимним утром, он порою вдруг теплел, делаясь дружелюбным и приветливым, и тогда казалось, что жаркий луч пробил ледяную корку, хотя лицо сохраняло бесстрастную и невозмутимую значительность. Была у него и другая улыбка – приберегалась для тех случаев, когда грозила опасность или томила печаль: тогда, встопорщивая ус, слегка кривились влево уголки губ и на лице появлялась либо угроза, неотвратимая, как разящий удар шпаги – он, впрочем, следовал без промедления, – либо глубокая скорбь. Последнее случалось в те дни, когда капитан в полном молчании и совершенном одиночестве выпивал в один присест несколько бутылок вина. Высосет литра три с лишним – и ничего: только время от времени характерным своим жестом утрет усы, вперив неподвижный взгляд в стену. «Призраков отгоняю», – говаривал он в таких случаях, хотя ни разу не удалось ему сделать так, чтобы они сгинули навсегда.
В то утро, заметив, что я поджидаю его на площади, он улыбнулся мне своей первой улыбкой: лицо осталось каменно-непроницаемым, речи сохранили суровую краткость, но глаза, выдавая истинные его чувства, засветились приветливо. Потом огляделся по сторонам и, явно довольный тем, что у ворот его не подкарауливает никто из кредиторов, подошел ко мне, сбросил, не боясь озябнуть, плащ, туго свернул его и сунул мне в руки со словами:
– Иньиго, сожги его. Клопы кишмя кишат.
От плаща, как и от его владельца, пахло сильно и скверно. Прочая одежда капитана тоже полна была этими кровожадными тварями так, словно он собрался разводить их на продажу. Но это выяснилось через час, в банях Мендо Тосканца, отставного солдата, некогда служившего в Неаполе, а ныне – цирюльника. Он чрезвычайно ценил и уважал капитана. Появившись в его заведении со сменой чистого белья и верхним платьем, извлеченными из горбатого сундука, который заменял нам гардероб, я обнаружил, что Диего Алатристе стоит в деревянной лохани, полной грязной воды, и вытирается. Он был уже на славу выбрит тосканцем, и короткие каштановые, еще влажные волосы, причесанные на прямой пробор, открывали широкий лоб, посмуглевший под солнцем тюремного дворика и украшенный маленьким шрамом чуть выше левой брови. Когда капитан вытерся и отбросил полотенце, обнаружились и другие памятные отметины, мне, впрочем, уже известные. Один шрам полумесяцем тянулся от правого соска к пупку. Другой зигзагом пересекал бедро. Все три были следами ран, именуемых колотыми, резаными, рублеными, тогда как четвертый, на спине, напоминал звезду и тем самым непреложно свидетельствовал о происхождении огнестрельном. Пятая, еще не вполне затянувшаяся рана, которая так ныла по ночам, не давая капитану заснуть, являла собой лиловатый рубец чуть не в ладонь шириной, помещалась на левой лопатке, получена была в битве при Флёрюсе больше года назад, но время от времени открывалась и нагнаивалась. Впрочем, в тот день, о котором я веду речь, она была в пристойном состоянии.
Я разглядывал капитана, а он тем временем неспешно и рассеянно одевался: натянул темно-серый колет и – поверх заштопанных во многих местах чулок – штаны, сшитые по валлонской моде, то есть собранные в коленях и зашнурованные. Туго перетянул стан кожаным поясом, который я в его отсутствие не забывал усердно смазывать свиным салом, пристегнул к нему шпагу с массивной поперечной рукоятью, иначе еще именуемой крестовиной, – чужие клинки оставили на чашке и эфесе множество зазубрин, вмятин и царапин. Хорошая длинная шпага работы толедского оружейника – от протяжного «з-з-з-зык», с которым она выскальзывала из ножен или в ножны возвращалась, мурашки шли по коже. Завершив туалет, капитан погляделся в выщербленное зеркало и промолвил с усталой улыбкой:
– Клянусь Богом, сейчас умру от жары.
Не добавив к этому ни слова, он спустился по лестнице, вышел на улицу и прямиком двинулся к таверне «У турка». Оставшись без плаща, капитан выбрал солнечную сторону и зашагал по ней с высоко поднятой головой. Отвечая на приветствия знакомых, он подносил руку к своей широкополой шляпе с вылинявшим и потрепанным красным пером, а при встрече с дамами из общества – снимал ее вовсе. Я поспевал следом, разглядывая уличных мальчишек, игравших на мостовой, зеленщиц, толпившихся в колоннаде, и праздных зевак, галдевших у церкви иезуитов. Никогда не была мне свойственна чрезмерная наивность, да и месяцы, проведенные в Мадриде, возымели должное действие, обтесав меня, так сказать, и ошкурив, но все же был я в ту пору очень юн – сущий молокосос – и с неуемным любопытством взирал на открывающийся мне мир, стараясь не упустить самомалейшей подробности его устройства. Тем временем сзади зацокали копыта мулов, загремели по мостовой колеса и с нами поравнялась карета. Поначалу я лишь мельком взглянул на нее: мало ли экипажей катит по улице Толедо, выходящей прямо к Пласа-Майор и к королевскому дворцу? Но, повернув голову, увидел дверцу без герба и в окошке – девочку с белокурыми локонами. Я раньше и не представлял себе, что бывают глаза такой синевы, такой чистоты и что могут они так переворачивать душу. Мгновенье мы смотрели друг на друга, а потом карета загрохотала вниз по улице, увозя синие глаза и их обладательницу прочь. В тот миг я затрепетал, толком не понимая почему. О, знать бы, что минуту назад взглянул на меня сам дьявол!
– Придется подраться, – повторил дон Франсиско Кеведо.
Стол был уставлен порожними бутылками, а ведь известно, что всякий раз, как дон Франсиско опрокинет сколько-то стаканов «Сан-Мартин-де-Вальдеиглесиас» – что происходило с завидной регулярностью, – он хватается за шпагу и лезет в драку, причем все равно с кем. Дон Франсиско Кеведо, забулдыга и задира, поэт и рыцарь ордена Сантьяго[2 - В тексте романов упоминаются религиозно-рыцарские ордены Сантьяго и Калатравы. К XVII в. членство в них превратилось в почетное отличие – во главе ордена Калатравы стоял сам король. На принадлежность к тому или иному ордену указывал вышитый на одежде крест определенной формы: у рыцарей Сантьяго – с заостренным нижним концом, символизировавшим острие меча; у рыцарей Калатравы – со стилизованным изображением распустившихся лилий или готической буквы «М» (в честь Девы Марии). – Здесь и далее, кроме оговоренных особо, примеч. переводчика.], подслеповатый волокита, был остер на язык, тяжел на руку, стихи его были изрядны, а неурядицы – бесчисленны. Он кочевал из тюрьмы в каталажку, из ссылки в изгнание, ибо нашему всемилостивейшему государю Филиппу Четвертому и его доблестному министру графу Оливаресу, как и всем мадридцам, чрезвычайно нравились бьющие не в бровь, а в глаз стихи дона Франсиско, но вовсе не улыбалось быть в стихах этих главными героями. Так что бывало не раз и не два, что после появления очередного сонета или эпиграммы, принадлежащих перу неведомого автора, хотя в том, что перо это держала длань дона Франсиско, сомнений не возникало ни у кого, – полицейские, иначе называемые альгвасилами, вламывались в дом, где он жил, или в кабак, где пил, или в притон, где спал, и почтительно приглашали его следовать за ними, изымая, так сказать, из обращения на сколько-то дней или месяцев. Поэт был упрям и горд, голосу благоразумия внимать не желал, и подобные происшествия случались часто, а характер Кеведо портился непоправимо. Тем не менее он оставался душой всякого застолья и верным, испытанным другом своих друзей. Был среди них и капитан Алатристе. Оба захаживали в таверну «У турка», где занимали лучший стол, неизменно оставляемый для них вышеупомянутой Каридад Непрухой, которая в былые дни ласки свои расточала за деньги всем желающим, а теперь дарила бесплатно – но одному лишь капитану. Компанию Диего Алатристе и дону Франсиско составляли в тот день еще несколько завсегдатаев – лиценциат Кальсонес, Хуан Вигонь, преподобный Перес и Фадрике Кривой, аптекарь с Пуэрта-Серрада.
– Нет, придется подраться, – упорствовал поэт.
Как я уже сказал, винные пары произвели на него свое обычное одушевляющее действие. Опрокинув табурет, он вскочил, взялся за рукоять шпаги и метнул испепеляющий взгляд на двоих чужестранцев за соседним столом: повесив свои длинные плащи и портупеи со шпагами на вбитые в стену гвозди, они мирно выпивали и только что похвалили нашего поэта за стихотворение, написанное отнюдь не им, а совсем наоборот – заклятым его врагом и главным соперником на ниве изящной словесности доном Луисом де Гонгорой, которого дон Франсиско Кеведо люто ненавидел и обвинял во всех смертных грехах, называя содомитом и иудейской собакой. Чужестранцы пали жертвой добросовестного заблуждения и отнюдь не хотели обидеть дона Франсиско, но не таков был дон Франсиско, чтобы стерпеть обиду.
Свиным я сальцем строчки свои смажу,
Чтоб пасть на них не разевал поганец, –
Быть может, тем предотвращу покражу…
Так, не слишком твердо держась на ногах, начал он стихотворную отповедь, но собутыльники держали его, не давая выхватить шпагу и наброситься на чужестранцев, которые пытались объясниться и извиниться.
– Нет, черт возьми, это им так не сойдет! – Одолевая икоту, поэт пытался высвободиться, а другой рукой поправлял съехавшие очки. – Не-ет, сейчас мы всё – ик! – расставим по местам!.. До печенок меня до… – ик! – …стали, значит дело дошло до стали!
– Стоит ли так горячиться из-за сущих пустяков, дон Франсиско? – рассудительно молвил капитан.
– Это не я горячусь! – свирепо распушив усы и не сводя глаз с незнакомцев, отвечал поэт. – Это им сейчас станет горячо! Это дворяне? Какие, к черту, дворяне? Дворняжки они, а не дворяне! Я бы даже сказал – шавки!
После таких слов чужестранцам ничего не оставалось, как, прихватив шпаги, двинуться к выходу, чтобы подождать оскорбителя на улице, а капитан и прочие, поняв, что дело заходит слишком далеко, обратились к ним с покорнейшей просьбой принять в расчет помраченное вином сознание дона Франсиско и отступить без боя, ибо нет чести в том, чтобы скрестить оружие с мертвецки пьяным, как не будет и бесчестья, если они благоразумно удалятся, не доводя дело до греха.
– Bella gerant alii[3 - Пусть воюют другие (лат. Овидий. Героиды, 13, 84).], – попытался увещевать поэта преподобный Перес.
Этот священник-иезуит был настоятелем соседней церкви Святых Петра и Павла. Его добродушие и латинские изречения, произносимые им с неотразимой убедительностью, обычно помогали уладить ссору. Но эти двое чужестранцев латыни не знали, зато оскорбительное замечание насчет дворян и дворняжек пропустить мимо ушей никак не могли. Кроме того, увещеваниям клирика помешал лиценциат Кальсонес, присяжный крючкотвор и природный сутяга, дневавший и ночевавший в судах и умевший превратить любое дело, за которое брался, в бесконечный процесс, длившийся, пока клиента не высасывали досуха, до самого донышка.
– Только до смерти не убивай их, дон Франсиско, – глумливо молвил он. – Чтоб было с кого судебные издержки взыскать.
После этого обстановка в таверне стала стремительно приближаться к той, о каких на следующий день оповещает газета в разделе «Происшествия». Капитан же Алатристе, хоть и не оставлял попыток утихомирить приятеля, осознал все же, что шпагу обнажить придется, – не оставлять же дона Франсиско одного.
– Aio te vincere posse[4 - Знаменитый двусмысленный ответ Дельфийского оракула эпирскому царю Пирру, означающий либо: «Эакид [то есть Пирр] может победить римлян», либо: «Римляне могут победить Эакида».], – смиренно произнес преподобный Перес.