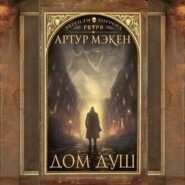По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дом душ
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Этот человек безумец? Кто это?
– Он не безумец, а негодяй. Мелкий валлийский пройдоха по имени Ричардс. В последние годы он устроил в Нью-Барнете какую-то часовню, и моя бедная супруга – а она так и не нашла приходскую церковь себе по вкусу, – она в этот год исправно посещала его проклятую сектантскую лавочку. Это и довело ее до грани. Да уж; ему я позавчера намял бока и ничуть не боюсь вызова в суд. Я его знаю, а он знает, что я его знаю.
Старик Никсон прошептал что-то на ухо Дарнеллу и слабо хохотнул, повторив свою формулу в третий раз:
– Позавчера я намял ему бока.
Дарнелл мог только бормотать сожаления и выразить надежду, что миссис Никсон поправится.
Старик покачал головой:
– Боюсь, на это надежды нет. Я обращался к лучшим специалистам, но они ничего не могут поделать, в чем и расписались.
Наконец он попросил позвать его племянницу, и Дарнелл вышел и подготовил Мэри как сумел. Она с трудом приняла новости о том, что ее тетя – безнадежная сумасшедшая, поскольку миссис Никсон, всю жизнь будучи невероятно глупой, естественным образом убедила родственников в том, что здорова, как все. В семействе Рейнольдсов, как и у большинства из нас, нехватка воображения всегда приравнивается к здравомыслию, и хотя немногие слышал о Ломброзо, мы его готовые последователи. Мы всегда верили, что поэты безумны, а если статистика, к сожалению, показывает, что на самом деле немногие поэты обретались в психиатрических лечебницах, то нас успокаивает хотя бы знание, что почти у всех поэтов была чахотка, а уж она, вне всяких сомнений, – как и пьянство, – тоже своего рода малое безумие.
– Но правда ли это? – спросила Мэри наконец. – Ты уверен, что дядя тебя не обманывает? Тетя всегда выглядела в своем уме.
Наконец ее помогло убедить воспоминание, что тетя Мэриан по утрам всегда вставала очень рано, и тогда они перешли в гостиную и поговорили со стариком. Его очевидные доброта и честность покорили Мэри вопреки несгибаемой вере в басни тетушки, и ушел он с обещанием навестить их снова.
Миссис Дарнелл сказала, что устала, и отправилась ко сну; а Эдвард вернулся в сад и начал ходить туда-сюда, собираясь с мыслями. Неизмеримое облегчение от знания, что миссис Никсон все-таки не переедет к ним жить, показало ему, что, несмотря на смирение, его страх и в самом деле был очень велик. Сняв с души этот камень, он был волен задуматься о жизни, не ограничивая мысли жутким вторжением, которого так опасался. Он радостно вздохнул и, прогуливаясь взад-вперед, смаковал аромат ночи – хоть и слабый в этом замурованном кирпичом пригороде, напоминавший-таки после многих лет благоухание ночного мира, каким он его познал в ту свою короткую детскую поездку; благоухание, что подымалось от земли, когда пламя солнца уходило за гору и его оставшееся свечение бледнело в небе и на полях. А когда Дарнелл восстановил, как мог, утраченные грезы о зачарованном крае, вернулись и другие образы из детства, забытые и все же не забытые, дремавшие неслышными в темных закоулках памяти, но готовые выступить вперед. Он вспомнил одну фантазию, что долго его преследовала. В один жаркий день той памятной поездки в деревню, лежа в полусне в лесу, он «придумывал», будто к нему из голубых туманов и зеленого света под листьями вышла маленькая спутница – белая девочка с длинными черными волосами, и она играла с ним и нашептывала на ухо свои секреты, пока отец крепко спал под деревом; и с того летнего полудня она всегда была рядом, день за днем; навещала в зелени Лондона, и время от времени даже в недавние годы, посреди жары и суеты Сити, ощущалось ее присутствие. Последний визит он запомнил очень хорошо: было это за несколько недель до свадьбы, и он вскинул озадаченный взгляд из глубин какого-то бессмысленного занятия, гадая, почему в душном воздухе вдруг повеяло запахом зеленой листвы, почему в ушах раздался шепот деревьев и шум речки в камышах; а затем его целиком обуял тот внезапный восторг, который Эдвард наделил именем и характером. Тогда он понял, что и унылая плоть человека может быть как огонь; а теперь, оглядываясь с новой точки зрения на это и другие переживания, осознал, что не принимал, не ценил все настоящее в жизни; что доходило оно, быть может, благодаря лишь его отрицательным сторонам. И все же, задумавшись, он видел, что через все его существование тянется цепочка свидетелей: снова и снова голоса нашептывали ему на ухо слова на странном языке, в котором он теперь признал свой родной; на самой обычной улице встречались видения истинной страны его происхождения; и он увидел, что во всех перипетиях и происшествиях мира присутствовали посланники, готовые направить его стопы к великому путешествию.
Через пару недель после визита мистера Никсона Дарнелл взял ежегодный отпуск.
Об Уолтоне-на-Мысе или чем-то подобном не шло и речи, поскольку он согласился с желанием жены отложить значительную сумму на черный день. Но погода была хорошей, и Эдвард коротал время в своем саду под деревом или отправлялся в долгие бесцельные прогулки по западным окраинам Лондона, что знакомы с тем давним ощущением какой-то великой невыразимой красоты, скрытой за тусклыми и неопрятными завесами бесконечных серых улиц. Однажды, в день проливного дождя, Дарнелл пошел в «комнату с коробками» и принялся разбирать бумаги в старом кожаном сундуке – обрывки семейной истории: одни – отцовским почерком, другие – выцветшими чернилами, – и попадались там древние тетради с рукописями еще более давних времен, и в них чернила были глянцевей и черней любых жидкостей, что поставляли канцелярские магазины современности. Дарнелл повесил у себя в комнате портрет предка и приобрел прочный кухонный стол со стулом; так что Мэри, глядя, как он штудирует старые документы, уже подумывала назвать комнату «кабинетом мистера Дарнелла». Долгие годы он не удостаивал эти семейные реликвии и взглядом, но с часа, когда о них напомнило дождливое утро, не унимался в исследованиях до самого конца отпуска. Это стало его новым интересом, и в голове начала складываться смутная картина предков и их жизни в старом сером доме в речной долине, в том западном краю источников, ручьев и темных, древних лесов. Были среди сора старых позабытых бумажек вещицы и причудливей простых записок о семейной истории, и когда он вернулся на работу в Сити, кое-кому из коллег даже показалось, будто он неуловимо изменился внешне; но он только рассмеялся на вопрос о том, где был и чем занимался. Зато Мэри заметила, что отныне каждый вечер он по меньшей мере час проводил в комнате с коробками; она очень жалела о времени, потраченном на чтение старых бумажек о мертвых людях. А однажды днем, во время их довольно унылой прогулки в сторону Актона, Дарнелл задержался у какого-то безнадежного букинистического магазина, и проглядев ряды потрепанных книжек в витрине, зашел и приобрел два томика. Это оказались словарь и учебник грамматики латинского языка, и она с удивлением выслушала заявление мужа о том, что он освоит латынь.
Но и все его поведение казалось ей неуловимо изменившимся; и Мэри уже начала переживать, хотя и не смогла бы облечь свои страхи в слова. Но она все же поняла, что тем летом их жизни изменились неописуемым и неподвластным ее мысли образом, и ничто уже не было как прежде. Если Мэри выглядывала на унылую улицу с редкими зеваками, та была обычной – и все-таки изменившейся, а если открывала окно рано поутру, ветер дышал иначе, принося какое-то послание, которое она не могла понять. И день за днем проходили как всегда, но даже четыре стены казались не вполне знакомыми, и голоса мужчин и женщин звучали со странными обертонами, – вернее, с эхом музыки, принесшейся с неведомых холмов. И день за днем, когда Мэри занималась делами по дому, ходила от лавки к лавке в сети безрадостных улиц, рокового лабиринта серого запустения со всех сторон, в ее сознание приходили почти увиденные образы какого-то другого мира, словно шла она во сне и в любое мгновение ее ждали свет и пробуждение, когда угаснет серость и явятся во всей красе давно вожделенные края?. Вновь и вновь казалось, будто тайное откроется даже неповоротливому разуму; и блуждая от улицы к улице мрачного и усталого пригорода, глядя на серые материальные стены, Мэри видела, будто через них сияет свет, и вновь и вновь до ее носа доносилось таинственное благоухание фимиама с кромки того мира, что не столь непостижим, сколь невыразим, а ее уши ласкал сон о напеве, что намекал на тайные хоры вдоль всех его дорог. Она боролась с этими ощущениями, отказывалась им поддаваться, когда все давление авторитетного трехсотлетнего мнения направлялось на то, чтобы затоптать истинное знание, – в конце концов лишь с тем результатом, что мы можем обрести истину, только пойдя наперекор опасениям. И так Мэри проводила дни в странном духовном смущении, цепляясь за повсеместные вещи и повсеместные мысли, словно боялась, что однажды утром проснется в неведомом мире и изменившейся жизни. А Эдвард день за днем уезжал на свои труды и возвращался по вечерам, всегда с сиянием в глазах и на лице, с изумленным взглядом все заметнее день ото дня, словно для него завеса истончилась и скоро исчезнет вовсе.
От этих великих перемен в себе и муже Мэри отшатывалась, – быть может, в испуге от того, что если задать вопрос, ответ окажется слишком чудесным. Уж лучше приучать себя волноваться о мелочах; она спрашивала себя, чем могут так притягивать старые хроники, которые, как она думала, штудировал Эдвард ночь за ночью в холодной комнате наверху. По его приглашению она их проглядывала и не увидела ничего интересного; были там одна-две грубоватые зарисовки, чернилами и пером, старого дома на западе: места бесформенного и фантастического, украшенного странными колоннами и еще более странными узорами на выступающем крыльце; и с одной стороны крыша ниспадала почти до земли, а посредине над зданием высилось что-то наподобие башни. Затем – документы, сплошь имена и даты, тут и там – герб на полях, и она наткнулась на череду нескладных валлийских имен, связанных словечком «ап», в как будто бесконечной цепочке. Была там бумага, покрытая ничего для нее не значившими значками и рисунками, и затем тетради со старомодными текстами, по большей части – на латыни, как ей сказал муж; на вкус Мэри, собрание столь же бессмысленное, сколько трактат о конических сечениях. Однако ночь за ночью Дарнелл запирался с пыльными свитками, а когда спускался к ней, его лицо как никогда несло блеск какого-то великого путешествия. И однажды вечером она спросила, что же его так заинтересовало в бумагах, которые он ей показывал.
Вопрос мужа обрадовал. Отчего-то последние несколько недель они почти не разговаривали, и теперь он ударился в рассказы о хрониках древнего рода, из которого произошел, о старом странном доме из серого камня между лесом и рекой. Родословная уходила далеко в старину, говорил он, в туманы прошлого, дальше норманнов, дальше саксов, во времена римлян, и многие сотни лет они были мелкими королями с могучей крепостью высоко на холме, в сердце леса; и тот курган сохранился по сей день, и с него за деревьями видно по одну сторону гору и по другую – желтое море. Настоящей фамилией семейства было не «Дарнелл» – ее в шестнадцатом веке взял некий Иоло ап Талиесин ап Иорвет[38 - Вероятно, имя «Талиесин» – отсылка к Талиесину (ок. 534 – ок. 599), древнейшему из валлийских поэтов, чьи произведения сохранились до наших дней, и персонажу легенд и литературных произведений.Имя «Иорвет» – отсылка к Лливелину ап Иорверту (ок. 1173–1240), правителю королевства Гвинед, в древности расположенного на территории Уэльса.Существовал и Иоло Моргануг, он же Эдвард Уильямс (1747–1826) – поэт и мистификатор, исследователь валлийского бардизма и друидизма, автор произведений, которые выдавал за древние.], но почему, Дарнелл вроде бы не понимал и сам. А потом рассказал, как его род век от века утрачивал богатства, покуда не остались лишь серый дом и пара акров земли вдоль реки.
– И знаешь, Мэри, – сказал он, – я предлагаю отправиться и пожить там денек-другой. Мой двоюродный дед, кому теперь принадлежит то место, заработал в молодости целое состояние и, полагаю, оставит все его мне. Я знаю, что я его единственный родственник. Как же было бы странно. Какая перемена после здешней жизни.
– Ты никогда об этом не рассказывал. Не думаешь, что твой двоюродный дед оставит дом и деньги тому, кого хорошо знает? Ты же не видел его с самого детства, верно?
– Нет, но мы списываемся раз в год. И судя по тому, что я слышал от отца, уверен, что старик никогда не отдаст дом кому-то вне семьи. Как думаешь, тебе бы там понравилось?
– Не знаю. Там не слишком одиноко?
– Пожалуй. Забыл, видно ли оттуда другие дома, но поблизости точно никто не живет. Зато какая перемена! Ни Сити, ни улиц, ни мельтешащих туда-сюда прохожих; только шум ветра да зеленые листья с зелеными холмами, только песнь голосов земли… – Он вдруг прервался, будто испугался, что выдаст какой-то секрет, что еще нельзя называть; и в самом деле, когда он заговорил о смене улочки в Шепердс-Буше на старинный дом в лесах на дальнем западе, перемена словно уже охватила его, а голос звучал старинным напевом. Мэри пристально посмотрела на супруга и дотронулась до его руки, и он сделал глубокий вдох перед тем как заговорить снова.
– Это старая кровь зовет на старую землю. Я и забыл, что служу клерком в Сити.
В нем и впрямь вдруг заговорила старая кровь; воскрес старый дух, что много веков хранил верность секретам, к которым ныне безразлично большинство из нас, которые ныне день за днем оживали в его сердце больше и больше, крепли так, что уже не скроешь. Он и в самом деле почти чувствовал себя человеком из той истории, который из-за внезапного удара электрическим током перестал видеть то, что его окружало на лондонских улицах, и взамен взирал на море и берег острова в Антиподах[39 - Антипод – точка на планете, диаметрально противоположная данной. Так в Великобритании называли Австралию и Океанию.]; ведь Дарнелл только насилу цеплялся за те интересы и атмосферу, что до недавнего времени представляли для него весь мир; и в пейзаж лондонского пригорода вторглись, так сказать, серый дом, лес и река, – символы другой сферы.
Но Эдвард продолжал, сдержанней, рассказывать о далеких предках, и что одного из них, самого далекого, называли святым, потому как он якобы владел неизвестными секретами, что в бумагах часто назывались «Тайными песнями святаго Иоло». А затем резко перескочил к воспоминаниям об отце и странной неизменной жизни в грязных комнатах на задворках Лондона; о выходящих на улицы штукатурных фасадах – его первых воспоминаниях; о забытых площадях Северного Лондона, о своем родителе – хмуром бородатом мужчине, как будто все время витавшем в грезах, словно и он искал образ края где-то за прочными стенами, края, где есть чащобные сады и множество сияющих холмов, где источники и пруды поблескивают под листвой леса.
– Кажется, – продолжал Эдвард, – мой отец зарабатывал на жизнь, если это можно назвать жизнью, в Государственном архиве и Британском музее. Он находил старые купчие для юристов и сельских пасторов. Получал мало, мы вечно переезжали с места на место – и вечно в отдаленные места, где все казалось обветшавшим. Мы никогда не знакомились с соседями, никогда долго не задерживались на одном месте, но у отца водилось с полдесятка друзей, таких же стариков, и они довольно часто нас навещали; а потом, если хватало денег, слугу из пансиона посылали за пивом, и они сидели и курили ночь напролет. Я мало что знал о его друзьях, но у них всех был один и тот же вид – вид тоски по чему-то скрытому. Они говорили о тайнах, которых я никогда не понимал, почти никогда – о своей жизни, а если и затрагивали житейские темы, было видно, что они считают такие вещи, как деньги и их отсутствие, маловажными безделушками. Когда я вырос и устроился в Сити, встретил других молодых людей и услышал их речи, то задумался, не тронуты ли малость отец с его друзьями; но теперь-то я все знаю.
И вот так ночь за ночью Дарнелл беседовал с женой, словно бесцельно переходя из грязных меблированных комнат, где провел детство в обществе отца и других искателей, в старый дом, укрытый в далекой западной долине, и к старому роду, что так долго наблюдал заход солнца над горой. Но на самом деле, о чем бы ни шла речь, говорил он только об одном, и Мэри чувствовала, что под его словами, как бы равнодушно они ни звучали, скрыта цель, – и что они отправятся в великое и чудесное приключение.
И так день за днем мир становился все волшебней; день за днем осуществлялось отделение, счищалась вульгарность. Дарнелл не гнушался ни одним орудием, что могло пригодиться в его работе; и теперь воскресным утром не прохлаждался дома, не сопровождал жену в то готическое святотатство, что притворялось церковью. Они нашли на задних улочках маленькую церковь совсем другого рода, и Дарнелл, обнаруживши в одной из тетрадей максиму Incredibilia sola Credenda[40 - Невероятное заслуживает доверия (лат.). Адаптация изречения богослова и отца церкви Тертуллиана (прим. 160 – прим. 240), которое звучало следующим образом: «Certum est, quia impossibile est (Это достоверно, потому что это невозможно)». Цитата взята из трактата «О плоти Христовой».], скоро понял, как важна и славна служба, где он участвовал. Наши глупые предки вбили нам в головы, что можно поумнеть, штудируя книги о «науке», возясь с пробирками, геологическими образцами, микроскопическими препарациями и тому подобным; но те, кто отринул подобные глупости, знают, что должны читать не о «науке», а о службе, и что душа мудреет за созерцанием мистических церемоний и сложных, необычных обрядов. Вот в чем Дарнелл нашел чудесный таинственный язык, говоривший одновременно и секретнее, и откровеннее формальных религий; и увидел, что в каком-то смысле весь мир есть лишь великая церемония или таинство, учившая за всей видимостью скрытой и трансцендентной доктрине. Так он нашел в ритуале той церкви идеальный образ мира; образ очищенный, возвышенный и просветленный, священный дом из сияющих и прозрачных камней, где горящие факелы значительнее мерцающих звезд, а тлеющий фимиам – вернее нарастающего тумана. Его душа шла с процессией в стихарях в белом и торжественном порядке, в том мистическом танце, что означает восторг и радость всех радостей, и, узрев Любовь сраженную и вновь победоносно восставшую, он знал, что узрел в этом знаке консумацию всех вещей, Свадьбу Свадеб, мистерию превыше всех мистерий со времен основания мира. И день за днем дом его жизни становился все волшебнее.
И в то же время он стал задаваться вопросом: раз в Новой Жизни есть новые и неслыханные радости, нет ли в ней и столь же новых и неслыханных опасностей? В рукописях, сулящих донести внешний смысл таинственных «Тайных песен святаго Иоло», имелась главка под заголовком Fons Sacer non in communem usum convertendus est[41 - Священный источник не подлежит общему пользованию (лат.).], и приложив все силы, а также учебник и словарь, Дарнелл сумел разобрать не самую сложную латынь своего предка. Особая книга, содержавшая эту главу, была одной из самых необычных в собрании, поскольку имела название Terra de Iolo[42 - Земля Иоло (лат.).] и на первый взгляд, изобретательно скрывая истинный свой символизм, якобы описывала сады, поля, леса, дороги, съемные участки и водоемы во владении предков Дарнелла. Здесь же он прочитал о Священном Источнике, укрытом в Лесу Мудрецов – Sylva Sapientum, – том «обильном ключе, какой ни одному жаркому лету не иссушить, ни одному наводнению не осквернить, каковой есть источник жизни для жаждущих жизни, поток очищения для тех, кто очиститься желает, и лекарство добродетели столь целительной, что благодаря силе Господней и заступничеству Святых Его зарастают и самые тяжелые раны». Но святость этого источника следовало оберегать вечно, не применяя для обычных целей или удовлетворения телесной жажды; только почитать «как воду, освященную жрецом». И более поздняя по времени приписка на полях отчасти разъяснила Дарнеллу смысл этих запретов. Его предостерегали не пользоваться Источником Жизни ради смертной роскоши, ради новых ощущений, ради того, чтобы стала удобоваримей пресная чаша повседневного существования. «Ибо, – говорил автор, – мы призваны сюда не рассиживаться, как зрители в театре, глядя на разыгранную перед нами пьесу, а стоять на самой цене и там пылко разыгрывать свои роли в великой и чудесной мистерии».
Дарнелл не вполне понимал описанное искушение. Хотя он недалеко прошел по пути и только опробовал то, что перелилось из мистического кладезя, но уже видел, как чары преображают весь мир вокруг, пронизывают его жизнь странным смыслом и романтикой. Лондон чудился городом из «Тысячи и одной ночи», а хитросплетения его улиц – зачарованным лабиринтом; длинные авеню с горящими фонарями – звездными системами, а огромность города являла для Дарнелла образ бескрайней Вселенной. Он отлично мог представить, как приятно находиться в таком мире, сидеть в стороне и грезить, любуясь странным торжеством, что разыгрывается перед ним; но Священный Источник предназначался не для повседневного использования, а лишь для очищения души и исцеления тяжелых ран духа. Должна быть новая метаморфоза: Лондон уже стал Багдадом – в конце концов быть ему Сионом, или, выражаясь языком одной из старинных рукописей, Градом Чаши.
Но существовали и угрозы мрачнее, на которые довольно неопределенно намекало «Рукописи Иоло» (как их прозывал отец). Были там намеки на страшный край, куда может попасть душа, на трансмутацию, смерти подобную, на заклинания, способные призвать силы наивысшего зла из темных закоулков, – словом, на ту сферу, что большинству из нас представляется грубой и несколько детской символикой черной магии. И вновь у Дарнелла было лишь смутное представление о том, что имелось в виду. Он поймал себя на том, что вспоминает странный случай, который произошел давно и оставался все эти годы в памяти неуслышанным, среди множества незначительных эпизодов детства, а теперь встал перед мысленным взором отчетливый, ясный и полный смысла. Это случилось в тот памятный визит в старый дом на западе – и вернулась вся сцена в мельчайших подробностях, и даже зазвучали в ушах голоса. Вспомнился ему серый и неподвижный день тяжелой духоты: он стоял на лужайке после завтрака и дивился великому покою и тишине мира. Ни листика не шелохнулось в деревьях на лужайке, ни шепотка не донеслось от обильной кроны леса; цветы испускали сладкое и тяжелое благоухание, словно выдыхали грезы летней ночи, вьющаяся речка дальше в долине виделась тусклым серебром под тем тусклым и серебристым небом, а далекие холмы, леса и поля вовсе пропадали в тумане. Застойность воздуха приковала Дарнелла к месту, словно чарами; все утро он стоял, прислонившись к поручню, отделявшему газон от луга, упивался мистическим дыханием лета и глядел, как поля светлеют от внезапного расцвета сияющих цветов, когда прозрачный туман на миг истончился под скрывшимся солнцем. Пока он так глядел, мимо к дому прошел человек, утомленный духотой и с неким ужасом в глазах; но Дарнелл оставался на своем посту, покуда не прозвенел старый колокол в башне и они не отужинали все вместе – хозяева и слуги – в темном прохладном зале, выходившем на застывшую листву леса. Он видел, что его дядя чем-то огорчен, и, когда они доели, услышал, как он говорит отцу о неприятностях на ферме; и было решено, что днем все поедут в какое-то место со странным названием. Но когда пришло время, мистер Дарнелл слишком глубоко погрузился в старинные книги и табачный дым в своем углу, чтобы его тревожить, и тогда Эдвард с дядей вышли к легкой тележке одни. Они стремглав промчались по узкой грунтовке на дорогу, следовавшую излучинам реки, и пересекли мост у Каэрмаэна рядом с замшелыми римскими стенами, а затем, обогнув запустелую гулкую деревню, поехали по широкой и белой закрытой дороге, и пыль извести следовала за ними, точно облако. Затем они вдруг свернули на север путем, которого Эдвард еще никогда не видел. Был он таким узким, что едва хватало места для их тележки, и шел по скале, и валы по бокам росли высоко над ними, пока они забирались по крутому склону, и прятали свет неухоженные изгороди. И папоротники на валах становились все гуще и зеленее, и капало на них из невидимых родников; и старик сказал, что зимой дорога превращается в бурный поток воды, и никому по ней тогда не проехать. Они продолжали путь, то поднимаясь, то вновь спускаясь, не покидая глубокую лощину под сплетенными дикими ветвями, и мальчик без толку гадал, как выглядит край вокруг. А теперь потемнел сам воздух, и изгородь на одном валу стала не меньше чем опушкой темного и шуршащего леса, серые известняковые камни сменились темно-красной землей, усеянной зелеными кочками и пронизанной жилами мергеля, и вдруг в тишине птица завела из чащобы леса мелодию, что звала сердце в другой мир, пела душе ребенка о блаженном царстве фейри за лесами, где исцеляются человеческие раны. И вот так наконец, после множества изгибов и извивов, выехали они на голое высокогорье, где дорога расширялась и становилась лугом, а вдоль его края были разбросаны три-четыре старых коттеджа, и в одном из них находилась маленькая таверна. Здесь они остановились, и вышел мужчина, привязал уставшую лошадь, налил ей воды; а старый мистер Дарнелл взял ребенка за руку и повел тропинкой через поля. Теперь мальчик видел край вокруг, но был тот землей странной, неизведанной; находились они в сердце долов и холмов, никогда им не виденных, и спускались по заросшему крутому склону, где узкая тропинка петляла между дроком и орляком выше человеческого роста, и солнце просвечивало лишь временами, и внизу, в узкой долине, проглядывал блик белой воды, где журчал и зыбился от камешка к камешку ручеек. Они прошли по склону и через заросли, а затем, укрытые темно-зелеными садами, вышли к длинному и низкому беленому дому с каменной крышей, причудливо раскрашенной мхом и лишайником. Мистер Дарнелл постучался в тяжелую дубовую дверь, и они вошли в темную комнату, куда свет проникал только через толстое стекло в глубоко посаженном окне. Потолок держали массивные балки, а огромный камин испускал запах горелого дерева, который Дарнелл не забудет никогда, и показалось ему, что комната полна женщин, перепуганных и говоривших одновременно. Мистер Дарнелл поманил к себе высокого седого старика в коротких штанах из рубчатого плиса, и мальчик, сидя на высоком стуле с прямой спинкой, видел, как старик и дядя в разговоре ходили по садовой тропинке под окном. На миг женщины бросили перешептываться, и одна принесла ему из холодных внутренних покоев стакан молока и яблоко; тут вдруг из комнаты наверху разнесся истошный и страшный вопль, а затем – девичьим голосом – еще более страшная песня. Ничего подобного ребенок еще не слышал, но уже будучи мужчиной и вспомнив все, он знал, с чем можно сравнить песню – с тем заклинанием, что призывало ангелов и архангелов для великого Жертвоприношения. Но как эта песня заклинает небесное войско, так же она призывает и всю иерархию зла, рати Лилит и Самаэля[43 - Самаэль – начальник демонов и ангел смерти в Талмуде, дух зла в каббале. Противник архангела Михаила.Лилит – первая жена Адама в Талмуде и каббале. После расставания с ним стала демоницей и супругой Самаэля.]; и слова, что звенели с тем страшным напевом – neumata inferorum[44 - Ветры ада (лат.).], – были на неведомом языке, какой на земле слышали немногие.
Женщины переглянулись с ужасом в глазах, и он увидел, как пара самых старших неуклюже описывает у груди странный знак. Потом они снова заговорили, и ему вспомнился отрывок из их речи.
– Она была там, – сказала одна, неопределенно указывая куда-то себе через плечо.
– Ей уж не найти путь, – ответила другая. – Все, кто туда уходил, не возвращались.
– В наши дни там ничего нет.
– Откуда тебе знать, Гвенллиан[45 - Также имя Гвенллиан принадлежит валлийской национальной героине, принцессе-воительнице из начала XII века.]? Не нам об том судить.
– Моя прабабка знавала кой-кого, кто там побывал, – сказала одна древняя старуха. – И рассказывала, как их потом забирали.
И тут в дверях появился дядя, и они уехали той же дорогой, какой приехали. Больше Эдвард Дарнелл об этом не слышал, как и не узнал, умерла или оправилась девушка от странного приступа; но в детстве та сцена преследовала его воображение, а теперь воспоминание о ней пришло с неким обертоном предупреждения – символом опасностей, что могут подстерегать на пути.
Далее продолжать историю Эдварда Дарнелла и жены его Мэри невозможно, ведь с этого момента их легенда полна невозможных событий и приобретает сходство с историями о Граале. Верно то, что в этом мире они изменили свою жизнь, как король Артур, но за это описание в каких-либо подробностях не возьмется ни один хроникер. Действительно, Дарнелл и сам написал небольшую книжицу, главным образом состоящую из странных стихов, какие могли бы выйти из-под руки вдохновленного дитя, а отчасти – из «записок и восклицаний» на той странной вульгарной латыни, которой он нахватался из «Рукописей Иоло»; но существуют опасения, что и этой работе, даже опубликованной во всей полноте, не пролить свет на его загадочную историю. Он назвал свой литературный экзерсис In Exitu Israel[46 - «По исходе Израиля», псалом 113.] и написал на титульной странице девиз – не иначе как собственного сочинения: «Nunc certe scio quod omnia legenda; omnes histori?, omnes fabul?, omnis Scriptura sint de ME narrate»[47 - Теперь я точно знаю, что надо прочитать все; что все истории, все басни, все Писания говорят обо МНЕ (лат.).]. Сразу бросается в глаза, что латыни он учился не у Цицерона; но именно на этом диалекте он излагает великую историю «Новой Жизни», как она была ему явлена. «Стихи» и того причудливей. Один – под заглавием (странно напоминающим старомодные книги) «Строки, написанные в Лондоне при взгляде с высоты на частную школу, вдруг озаренную Солнцем», – начинаются так:
В тот день, когда один гулял,
Чудесный камень отыскал:
Лежал забытым на пути,
Где ни одной живой души.
И я, взглянувши на него,
Обрел Сокровище свое.
К нему щекой скорей приник,
Укрыл в объятьях сей же миг,
Затем унес его в тайник.
И каждый день к нему ходил,
Его вид радость приносил;
И подносил ему цветы,
Секретные слова, хвалы.
О, камень, ты так мудр и ал –
Осколок рая я достал,
Звезду, чей свет есть жизнь!
О, море, бесконечный океан!
Ты пламя, что всегда горит
Все взоры лишь к себе манит;
Сдувая пыль унылых дней
Ты мир наш делаешь светлей,
И так, куда ни посмотрю,
Тебе осанну я пою.
Горит вдруг золотом река,
– Он не безумец, а негодяй. Мелкий валлийский пройдоха по имени Ричардс. В последние годы он устроил в Нью-Барнете какую-то часовню, и моя бедная супруга – а она так и не нашла приходскую церковь себе по вкусу, – она в этот год исправно посещала его проклятую сектантскую лавочку. Это и довело ее до грани. Да уж; ему я позавчера намял бока и ничуть не боюсь вызова в суд. Я его знаю, а он знает, что я его знаю.
Старик Никсон прошептал что-то на ухо Дарнеллу и слабо хохотнул, повторив свою формулу в третий раз:
– Позавчера я намял ему бока.
Дарнелл мог только бормотать сожаления и выразить надежду, что миссис Никсон поправится.
Старик покачал головой:
– Боюсь, на это надежды нет. Я обращался к лучшим специалистам, но они ничего не могут поделать, в чем и расписались.
Наконец он попросил позвать его племянницу, и Дарнелл вышел и подготовил Мэри как сумел. Она с трудом приняла новости о том, что ее тетя – безнадежная сумасшедшая, поскольку миссис Никсон, всю жизнь будучи невероятно глупой, естественным образом убедила родственников в том, что здорова, как все. В семействе Рейнольдсов, как и у большинства из нас, нехватка воображения всегда приравнивается к здравомыслию, и хотя немногие слышал о Ломброзо, мы его готовые последователи. Мы всегда верили, что поэты безумны, а если статистика, к сожалению, показывает, что на самом деле немногие поэты обретались в психиатрических лечебницах, то нас успокаивает хотя бы знание, что почти у всех поэтов была чахотка, а уж она, вне всяких сомнений, – как и пьянство, – тоже своего рода малое безумие.
– Но правда ли это? – спросила Мэри наконец. – Ты уверен, что дядя тебя не обманывает? Тетя всегда выглядела в своем уме.
Наконец ее помогло убедить воспоминание, что тетя Мэриан по утрам всегда вставала очень рано, и тогда они перешли в гостиную и поговорили со стариком. Его очевидные доброта и честность покорили Мэри вопреки несгибаемой вере в басни тетушки, и ушел он с обещанием навестить их снова.
Миссис Дарнелл сказала, что устала, и отправилась ко сну; а Эдвард вернулся в сад и начал ходить туда-сюда, собираясь с мыслями. Неизмеримое облегчение от знания, что миссис Никсон все-таки не переедет к ним жить, показало ему, что, несмотря на смирение, его страх и в самом деле был очень велик. Сняв с души этот камень, он был волен задуматься о жизни, не ограничивая мысли жутким вторжением, которого так опасался. Он радостно вздохнул и, прогуливаясь взад-вперед, смаковал аромат ночи – хоть и слабый в этом замурованном кирпичом пригороде, напоминавший-таки после многих лет благоухание ночного мира, каким он его познал в ту свою короткую детскую поездку; благоухание, что подымалось от земли, когда пламя солнца уходило за гору и его оставшееся свечение бледнело в небе и на полях. А когда Дарнелл восстановил, как мог, утраченные грезы о зачарованном крае, вернулись и другие образы из детства, забытые и все же не забытые, дремавшие неслышными в темных закоулках памяти, но готовые выступить вперед. Он вспомнил одну фантазию, что долго его преследовала. В один жаркий день той памятной поездки в деревню, лежа в полусне в лесу, он «придумывал», будто к нему из голубых туманов и зеленого света под листьями вышла маленькая спутница – белая девочка с длинными черными волосами, и она играла с ним и нашептывала на ухо свои секреты, пока отец крепко спал под деревом; и с того летнего полудня она всегда была рядом, день за днем; навещала в зелени Лондона, и время от времени даже в недавние годы, посреди жары и суеты Сити, ощущалось ее присутствие. Последний визит он запомнил очень хорошо: было это за несколько недель до свадьбы, и он вскинул озадаченный взгляд из глубин какого-то бессмысленного занятия, гадая, почему в душном воздухе вдруг повеяло запахом зеленой листвы, почему в ушах раздался шепот деревьев и шум речки в камышах; а затем его целиком обуял тот внезапный восторг, который Эдвард наделил именем и характером. Тогда он понял, что и унылая плоть человека может быть как огонь; а теперь, оглядываясь с новой точки зрения на это и другие переживания, осознал, что не принимал, не ценил все настоящее в жизни; что доходило оно, быть может, благодаря лишь его отрицательным сторонам. И все же, задумавшись, он видел, что через все его существование тянется цепочка свидетелей: снова и снова голоса нашептывали ему на ухо слова на странном языке, в котором он теперь признал свой родной; на самой обычной улице встречались видения истинной страны его происхождения; и он увидел, что во всех перипетиях и происшествиях мира присутствовали посланники, готовые направить его стопы к великому путешествию.
Через пару недель после визита мистера Никсона Дарнелл взял ежегодный отпуск.
Об Уолтоне-на-Мысе или чем-то подобном не шло и речи, поскольку он согласился с желанием жены отложить значительную сумму на черный день. Но погода была хорошей, и Эдвард коротал время в своем саду под деревом или отправлялся в долгие бесцельные прогулки по западным окраинам Лондона, что знакомы с тем давним ощущением какой-то великой невыразимой красоты, скрытой за тусклыми и неопрятными завесами бесконечных серых улиц. Однажды, в день проливного дождя, Дарнелл пошел в «комнату с коробками» и принялся разбирать бумаги в старом кожаном сундуке – обрывки семейной истории: одни – отцовским почерком, другие – выцветшими чернилами, – и попадались там древние тетради с рукописями еще более давних времен, и в них чернила были глянцевей и черней любых жидкостей, что поставляли канцелярские магазины современности. Дарнелл повесил у себя в комнате портрет предка и приобрел прочный кухонный стол со стулом; так что Мэри, глядя, как он штудирует старые документы, уже подумывала назвать комнату «кабинетом мистера Дарнелла». Долгие годы он не удостаивал эти семейные реликвии и взглядом, но с часа, когда о них напомнило дождливое утро, не унимался в исследованиях до самого конца отпуска. Это стало его новым интересом, и в голове начала складываться смутная картина предков и их жизни в старом сером доме в речной долине, в том западном краю источников, ручьев и темных, древних лесов. Были среди сора старых позабытых бумажек вещицы и причудливей простых записок о семейной истории, и когда он вернулся на работу в Сити, кое-кому из коллег даже показалось, будто он неуловимо изменился внешне; но он только рассмеялся на вопрос о том, где был и чем занимался. Зато Мэри заметила, что отныне каждый вечер он по меньшей мере час проводил в комнате с коробками; она очень жалела о времени, потраченном на чтение старых бумажек о мертвых людях. А однажды днем, во время их довольно унылой прогулки в сторону Актона, Дарнелл задержался у какого-то безнадежного букинистического магазина, и проглядев ряды потрепанных книжек в витрине, зашел и приобрел два томика. Это оказались словарь и учебник грамматики латинского языка, и она с удивлением выслушала заявление мужа о том, что он освоит латынь.
Но и все его поведение казалось ей неуловимо изменившимся; и Мэри уже начала переживать, хотя и не смогла бы облечь свои страхи в слова. Но она все же поняла, что тем летом их жизни изменились неописуемым и неподвластным ее мысли образом, и ничто уже не было как прежде. Если Мэри выглядывала на унылую улицу с редкими зеваками, та была обычной – и все-таки изменившейся, а если открывала окно рано поутру, ветер дышал иначе, принося какое-то послание, которое она не могла понять. И день за днем проходили как всегда, но даже четыре стены казались не вполне знакомыми, и голоса мужчин и женщин звучали со странными обертонами, – вернее, с эхом музыки, принесшейся с неведомых холмов. И день за днем, когда Мэри занималась делами по дому, ходила от лавки к лавке в сети безрадостных улиц, рокового лабиринта серого запустения со всех сторон, в ее сознание приходили почти увиденные образы какого-то другого мира, словно шла она во сне и в любое мгновение ее ждали свет и пробуждение, когда угаснет серость и явятся во всей красе давно вожделенные края?. Вновь и вновь казалось, будто тайное откроется даже неповоротливому разуму; и блуждая от улицы к улице мрачного и усталого пригорода, глядя на серые материальные стены, Мэри видела, будто через них сияет свет, и вновь и вновь до ее носа доносилось таинственное благоухание фимиама с кромки того мира, что не столь непостижим, сколь невыразим, а ее уши ласкал сон о напеве, что намекал на тайные хоры вдоль всех его дорог. Она боролась с этими ощущениями, отказывалась им поддаваться, когда все давление авторитетного трехсотлетнего мнения направлялось на то, чтобы затоптать истинное знание, – в конце концов лишь с тем результатом, что мы можем обрести истину, только пойдя наперекор опасениям. И так Мэри проводила дни в странном духовном смущении, цепляясь за повсеместные вещи и повсеместные мысли, словно боялась, что однажды утром проснется в неведомом мире и изменившейся жизни. А Эдвард день за днем уезжал на свои труды и возвращался по вечерам, всегда с сиянием в глазах и на лице, с изумленным взглядом все заметнее день ото дня, словно для него завеса истончилась и скоро исчезнет вовсе.
От этих великих перемен в себе и муже Мэри отшатывалась, – быть может, в испуге от того, что если задать вопрос, ответ окажется слишком чудесным. Уж лучше приучать себя волноваться о мелочах; она спрашивала себя, чем могут так притягивать старые хроники, которые, как она думала, штудировал Эдвард ночь за ночью в холодной комнате наверху. По его приглашению она их проглядывала и не увидела ничего интересного; были там одна-две грубоватые зарисовки, чернилами и пером, старого дома на западе: места бесформенного и фантастического, украшенного странными колоннами и еще более странными узорами на выступающем крыльце; и с одной стороны крыша ниспадала почти до земли, а посредине над зданием высилось что-то наподобие башни. Затем – документы, сплошь имена и даты, тут и там – герб на полях, и она наткнулась на череду нескладных валлийских имен, связанных словечком «ап», в как будто бесконечной цепочке. Была там бумага, покрытая ничего для нее не значившими значками и рисунками, и затем тетради со старомодными текстами, по большей части – на латыни, как ей сказал муж; на вкус Мэри, собрание столь же бессмысленное, сколько трактат о конических сечениях. Однако ночь за ночью Дарнелл запирался с пыльными свитками, а когда спускался к ней, его лицо как никогда несло блеск какого-то великого путешествия. И однажды вечером она спросила, что же его так заинтересовало в бумагах, которые он ей показывал.
Вопрос мужа обрадовал. Отчего-то последние несколько недель они почти не разговаривали, и теперь он ударился в рассказы о хрониках древнего рода, из которого произошел, о старом странном доме из серого камня между лесом и рекой. Родословная уходила далеко в старину, говорил он, в туманы прошлого, дальше норманнов, дальше саксов, во времена римлян, и многие сотни лет они были мелкими королями с могучей крепостью высоко на холме, в сердце леса; и тот курган сохранился по сей день, и с него за деревьями видно по одну сторону гору и по другую – желтое море. Настоящей фамилией семейства было не «Дарнелл» – ее в шестнадцатом веке взял некий Иоло ап Талиесин ап Иорвет[38 - Вероятно, имя «Талиесин» – отсылка к Талиесину (ок. 534 – ок. 599), древнейшему из валлийских поэтов, чьи произведения сохранились до наших дней, и персонажу легенд и литературных произведений.Имя «Иорвет» – отсылка к Лливелину ап Иорверту (ок. 1173–1240), правителю королевства Гвинед, в древности расположенного на территории Уэльса.Существовал и Иоло Моргануг, он же Эдвард Уильямс (1747–1826) – поэт и мистификатор, исследователь валлийского бардизма и друидизма, автор произведений, которые выдавал за древние.], но почему, Дарнелл вроде бы не понимал и сам. А потом рассказал, как его род век от века утрачивал богатства, покуда не остались лишь серый дом и пара акров земли вдоль реки.
– И знаешь, Мэри, – сказал он, – я предлагаю отправиться и пожить там денек-другой. Мой двоюродный дед, кому теперь принадлежит то место, заработал в молодости целое состояние и, полагаю, оставит все его мне. Я знаю, что я его единственный родственник. Как же было бы странно. Какая перемена после здешней жизни.
– Ты никогда об этом не рассказывал. Не думаешь, что твой двоюродный дед оставит дом и деньги тому, кого хорошо знает? Ты же не видел его с самого детства, верно?
– Нет, но мы списываемся раз в год. И судя по тому, что я слышал от отца, уверен, что старик никогда не отдаст дом кому-то вне семьи. Как думаешь, тебе бы там понравилось?
– Не знаю. Там не слишком одиноко?
– Пожалуй. Забыл, видно ли оттуда другие дома, но поблизости точно никто не живет. Зато какая перемена! Ни Сити, ни улиц, ни мельтешащих туда-сюда прохожих; только шум ветра да зеленые листья с зелеными холмами, только песнь голосов земли… – Он вдруг прервался, будто испугался, что выдаст какой-то секрет, что еще нельзя называть; и в самом деле, когда он заговорил о смене улочки в Шепердс-Буше на старинный дом в лесах на дальнем западе, перемена словно уже охватила его, а голос звучал старинным напевом. Мэри пристально посмотрела на супруга и дотронулась до его руки, и он сделал глубокий вдох перед тем как заговорить снова.
– Это старая кровь зовет на старую землю. Я и забыл, что служу клерком в Сити.
В нем и впрямь вдруг заговорила старая кровь; воскрес старый дух, что много веков хранил верность секретам, к которым ныне безразлично большинство из нас, которые ныне день за днем оживали в его сердце больше и больше, крепли так, что уже не скроешь. Он и в самом деле почти чувствовал себя человеком из той истории, который из-за внезапного удара электрическим током перестал видеть то, что его окружало на лондонских улицах, и взамен взирал на море и берег острова в Антиподах[39 - Антипод – точка на планете, диаметрально противоположная данной. Так в Великобритании называли Австралию и Океанию.]; ведь Дарнелл только насилу цеплялся за те интересы и атмосферу, что до недавнего времени представляли для него весь мир; и в пейзаж лондонского пригорода вторглись, так сказать, серый дом, лес и река, – символы другой сферы.
Но Эдвард продолжал, сдержанней, рассказывать о далеких предках, и что одного из них, самого далекого, называли святым, потому как он якобы владел неизвестными секретами, что в бумагах часто назывались «Тайными песнями святаго Иоло». А затем резко перескочил к воспоминаниям об отце и странной неизменной жизни в грязных комнатах на задворках Лондона; о выходящих на улицы штукатурных фасадах – его первых воспоминаниях; о забытых площадях Северного Лондона, о своем родителе – хмуром бородатом мужчине, как будто все время витавшем в грезах, словно и он искал образ края где-то за прочными стенами, края, где есть чащобные сады и множество сияющих холмов, где источники и пруды поблескивают под листвой леса.
– Кажется, – продолжал Эдвард, – мой отец зарабатывал на жизнь, если это можно назвать жизнью, в Государственном архиве и Британском музее. Он находил старые купчие для юристов и сельских пасторов. Получал мало, мы вечно переезжали с места на место – и вечно в отдаленные места, где все казалось обветшавшим. Мы никогда не знакомились с соседями, никогда долго не задерживались на одном месте, но у отца водилось с полдесятка друзей, таких же стариков, и они довольно часто нас навещали; а потом, если хватало денег, слугу из пансиона посылали за пивом, и они сидели и курили ночь напролет. Я мало что знал о его друзьях, но у них всех был один и тот же вид – вид тоски по чему-то скрытому. Они говорили о тайнах, которых я никогда не понимал, почти никогда – о своей жизни, а если и затрагивали житейские темы, было видно, что они считают такие вещи, как деньги и их отсутствие, маловажными безделушками. Когда я вырос и устроился в Сити, встретил других молодых людей и услышал их речи, то задумался, не тронуты ли малость отец с его друзьями; но теперь-то я все знаю.
И вот так ночь за ночью Дарнелл беседовал с женой, словно бесцельно переходя из грязных меблированных комнат, где провел детство в обществе отца и других искателей, в старый дом, укрытый в далекой западной долине, и к старому роду, что так долго наблюдал заход солнца над горой. Но на самом деле, о чем бы ни шла речь, говорил он только об одном, и Мэри чувствовала, что под его словами, как бы равнодушно они ни звучали, скрыта цель, – и что они отправятся в великое и чудесное приключение.
И так день за днем мир становился все волшебней; день за днем осуществлялось отделение, счищалась вульгарность. Дарнелл не гнушался ни одним орудием, что могло пригодиться в его работе; и теперь воскресным утром не прохлаждался дома, не сопровождал жену в то готическое святотатство, что притворялось церковью. Они нашли на задних улочках маленькую церковь совсем другого рода, и Дарнелл, обнаруживши в одной из тетрадей максиму Incredibilia sola Credenda[40 - Невероятное заслуживает доверия (лат.). Адаптация изречения богослова и отца церкви Тертуллиана (прим. 160 – прим. 240), которое звучало следующим образом: «Certum est, quia impossibile est (Это достоверно, потому что это невозможно)». Цитата взята из трактата «О плоти Христовой».], скоро понял, как важна и славна служба, где он участвовал. Наши глупые предки вбили нам в головы, что можно поумнеть, штудируя книги о «науке», возясь с пробирками, геологическими образцами, микроскопическими препарациями и тому подобным; но те, кто отринул подобные глупости, знают, что должны читать не о «науке», а о службе, и что душа мудреет за созерцанием мистических церемоний и сложных, необычных обрядов. Вот в чем Дарнелл нашел чудесный таинственный язык, говоривший одновременно и секретнее, и откровеннее формальных религий; и увидел, что в каком-то смысле весь мир есть лишь великая церемония или таинство, учившая за всей видимостью скрытой и трансцендентной доктрине. Так он нашел в ритуале той церкви идеальный образ мира; образ очищенный, возвышенный и просветленный, священный дом из сияющих и прозрачных камней, где горящие факелы значительнее мерцающих звезд, а тлеющий фимиам – вернее нарастающего тумана. Его душа шла с процессией в стихарях в белом и торжественном порядке, в том мистическом танце, что означает восторг и радость всех радостей, и, узрев Любовь сраженную и вновь победоносно восставшую, он знал, что узрел в этом знаке консумацию всех вещей, Свадьбу Свадеб, мистерию превыше всех мистерий со времен основания мира. И день за днем дом его жизни становился все волшебнее.
И в то же время он стал задаваться вопросом: раз в Новой Жизни есть новые и неслыханные радости, нет ли в ней и столь же новых и неслыханных опасностей? В рукописях, сулящих донести внешний смысл таинственных «Тайных песен святаго Иоло», имелась главка под заголовком Fons Sacer non in communem usum convertendus est[41 - Священный источник не подлежит общему пользованию (лат.).], и приложив все силы, а также учебник и словарь, Дарнелл сумел разобрать не самую сложную латынь своего предка. Особая книга, содержавшая эту главу, была одной из самых необычных в собрании, поскольку имела название Terra de Iolo[42 - Земля Иоло (лат.).] и на первый взгляд, изобретательно скрывая истинный свой символизм, якобы описывала сады, поля, леса, дороги, съемные участки и водоемы во владении предков Дарнелла. Здесь же он прочитал о Священном Источнике, укрытом в Лесу Мудрецов – Sylva Sapientum, – том «обильном ключе, какой ни одному жаркому лету не иссушить, ни одному наводнению не осквернить, каковой есть источник жизни для жаждущих жизни, поток очищения для тех, кто очиститься желает, и лекарство добродетели столь целительной, что благодаря силе Господней и заступничеству Святых Его зарастают и самые тяжелые раны». Но святость этого источника следовало оберегать вечно, не применяя для обычных целей или удовлетворения телесной жажды; только почитать «как воду, освященную жрецом». И более поздняя по времени приписка на полях отчасти разъяснила Дарнеллу смысл этих запретов. Его предостерегали не пользоваться Источником Жизни ради смертной роскоши, ради новых ощущений, ради того, чтобы стала удобоваримей пресная чаша повседневного существования. «Ибо, – говорил автор, – мы призваны сюда не рассиживаться, как зрители в театре, глядя на разыгранную перед нами пьесу, а стоять на самой цене и там пылко разыгрывать свои роли в великой и чудесной мистерии».
Дарнелл не вполне понимал описанное искушение. Хотя он недалеко прошел по пути и только опробовал то, что перелилось из мистического кладезя, но уже видел, как чары преображают весь мир вокруг, пронизывают его жизнь странным смыслом и романтикой. Лондон чудился городом из «Тысячи и одной ночи», а хитросплетения его улиц – зачарованным лабиринтом; длинные авеню с горящими фонарями – звездными системами, а огромность города являла для Дарнелла образ бескрайней Вселенной. Он отлично мог представить, как приятно находиться в таком мире, сидеть в стороне и грезить, любуясь странным торжеством, что разыгрывается перед ним; но Священный Источник предназначался не для повседневного использования, а лишь для очищения души и исцеления тяжелых ран духа. Должна быть новая метаморфоза: Лондон уже стал Багдадом – в конце концов быть ему Сионом, или, выражаясь языком одной из старинных рукописей, Градом Чаши.
Но существовали и угрозы мрачнее, на которые довольно неопределенно намекало «Рукописи Иоло» (как их прозывал отец). Были там намеки на страшный край, куда может попасть душа, на трансмутацию, смерти подобную, на заклинания, способные призвать силы наивысшего зла из темных закоулков, – словом, на ту сферу, что большинству из нас представляется грубой и несколько детской символикой черной магии. И вновь у Дарнелла было лишь смутное представление о том, что имелось в виду. Он поймал себя на том, что вспоминает странный случай, который произошел давно и оставался все эти годы в памяти неуслышанным, среди множества незначительных эпизодов детства, а теперь встал перед мысленным взором отчетливый, ясный и полный смысла. Это случилось в тот памятный визит в старый дом на западе – и вернулась вся сцена в мельчайших подробностях, и даже зазвучали в ушах голоса. Вспомнился ему серый и неподвижный день тяжелой духоты: он стоял на лужайке после завтрака и дивился великому покою и тишине мира. Ни листика не шелохнулось в деревьях на лужайке, ни шепотка не донеслось от обильной кроны леса; цветы испускали сладкое и тяжелое благоухание, словно выдыхали грезы летней ночи, вьющаяся речка дальше в долине виделась тусклым серебром под тем тусклым и серебристым небом, а далекие холмы, леса и поля вовсе пропадали в тумане. Застойность воздуха приковала Дарнелла к месту, словно чарами; все утро он стоял, прислонившись к поручню, отделявшему газон от луга, упивался мистическим дыханием лета и глядел, как поля светлеют от внезапного расцвета сияющих цветов, когда прозрачный туман на миг истончился под скрывшимся солнцем. Пока он так глядел, мимо к дому прошел человек, утомленный духотой и с неким ужасом в глазах; но Дарнелл оставался на своем посту, покуда не прозвенел старый колокол в башне и они не отужинали все вместе – хозяева и слуги – в темном прохладном зале, выходившем на застывшую листву леса. Он видел, что его дядя чем-то огорчен, и, когда они доели, услышал, как он говорит отцу о неприятностях на ферме; и было решено, что днем все поедут в какое-то место со странным названием. Но когда пришло время, мистер Дарнелл слишком глубоко погрузился в старинные книги и табачный дым в своем углу, чтобы его тревожить, и тогда Эдвард с дядей вышли к легкой тележке одни. Они стремглав промчались по узкой грунтовке на дорогу, следовавшую излучинам реки, и пересекли мост у Каэрмаэна рядом с замшелыми римскими стенами, а затем, обогнув запустелую гулкую деревню, поехали по широкой и белой закрытой дороге, и пыль извести следовала за ними, точно облако. Затем они вдруг свернули на север путем, которого Эдвард еще никогда не видел. Был он таким узким, что едва хватало места для их тележки, и шел по скале, и валы по бокам росли высоко над ними, пока они забирались по крутому склону, и прятали свет неухоженные изгороди. И папоротники на валах становились все гуще и зеленее, и капало на них из невидимых родников; и старик сказал, что зимой дорога превращается в бурный поток воды, и никому по ней тогда не проехать. Они продолжали путь, то поднимаясь, то вновь спускаясь, не покидая глубокую лощину под сплетенными дикими ветвями, и мальчик без толку гадал, как выглядит край вокруг. А теперь потемнел сам воздух, и изгородь на одном валу стала не меньше чем опушкой темного и шуршащего леса, серые известняковые камни сменились темно-красной землей, усеянной зелеными кочками и пронизанной жилами мергеля, и вдруг в тишине птица завела из чащобы леса мелодию, что звала сердце в другой мир, пела душе ребенка о блаженном царстве фейри за лесами, где исцеляются человеческие раны. И вот так наконец, после множества изгибов и извивов, выехали они на голое высокогорье, где дорога расширялась и становилась лугом, а вдоль его края были разбросаны три-четыре старых коттеджа, и в одном из них находилась маленькая таверна. Здесь они остановились, и вышел мужчина, привязал уставшую лошадь, налил ей воды; а старый мистер Дарнелл взял ребенка за руку и повел тропинкой через поля. Теперь мальчик видел край вокруг, но был тот землей странной, неизведанной; находились они в сердце долов и холмов, никогда им не виденных, и спускались по заросшему крутому склону, где узкая тропинка петляла между дроком и орляком выше человеческого роста, и солнце просвечивало лишь временами, и внизу, в узкой долине, проглядывал блик белой воды, где журчал и зыбился от камешка к камешку ручеек. Они прошли по склону и через заросли, а затем, укрытые темно-зелеными садами, вышли к длинному и низкому беленому дому с каменной крышей, причудливо раскрашенной мхом и лишайником. Мистер Дарнелл постучался в тяжелую дубовую дверь, и они вошли в темную комнату, куда свет проникал только через толстое стекло в глубоко посаженном окне. Потолок держали массивные балки, а огромный камин испускал запах горелого дерева, который Дарнелл не забудет никогда, и показалось ему, что комната полна женщин, перепуганных и говоривших одновременно. Мистер Дарнелл поманил к себе высокого седого старика в коротких штанах из рубчатого плиса, и мальчик, сидя на высоком стуле с прямой спинкой, видел, как старик и дядя в разговоре ходили по садовой тропинке под окном. На миг женщины бросили перешептываться, и одна принесла ему из холодных внутренних покоев стакан молока и яблоко; тут вдруг из комнаты наверху разнесся истошный и страшный вопль, а затем – девичьим голосом – еще более страшная песня. Ничего подобного ребенок еще не слышал, но уже будучи мужчиной и вспомнив все, он знал, с чем можно сравнить песню – с тем заклинанием, что призывало ангелов и архангелов для великого Жертвоприношения. Но как эта песня заклинает небесное войско, так же она призывает и всю иерархию зла, рати Лилит и Самаэля[43 - Самаэль – начальник демонов и ангел смерти в Талмуде, дух зла в каббале. Противник архангела Михаила.Лилит – первая жена Адама в Талмуде и каббале. После расставания с ним стала демоницей и супругой Самаэля.]; и слова, что звенели с тем страшным напевом – neumata inferorum[44 - Ветры ада (лат.).], – были на неведомом языке, какой на земле слышали немногие.
Женщины переглянулись с ужасом в глазах, и он увидел, как пара самых старших неуклюже описывает у груди странный знак. Потом они снова заговорили, и ему вспомнился отрывок из их речи.
– Она была там, – сказала одна, неопределенно указывая куда-то себе через плечо.
– Ей уж не найти путь, – ответила другая. – Все, кто туда уходил, не возвращались.
– В наши дни там ничего нет.
– Откуда тебе знать, Гвенллиан[45 - Также имя Гвенллиан принадлежит валлийской национальной героине, принцессе-воительнице из начала XII века.]? Не нам об том судить.
– Моя прабабка знавала кой-кого, кто там побывал, – сказала одна древняя старуха. – И рассказывала, как их потом забирали.
И тут в дверях появился дядя, и они уехали той же дорогой, какой приехали. Больше Эдвард Дарнелл об этом не слышал, как и не узнал, умерла или оправилась девушка от странного приступа; но в детстве та сцена преследовала его воображение, а теперь воспоминание о ней пришло с неким обертоном предупреждения – символом опасностей, что могут подстерегать на пути.
Далее продолжать историю Эдварда Дарнелла и жены его Мэри невозможно, ведь с этого момента их легенда полна невозможных событий и приобретает сходство с историями о Граале. Верно то, что в этом мире они изменили свою жизнь, как король Артур, но за это описание в каких-либо подробностях не возьмется ни один хроникер. Действительно, Дарнелл и сам написал небольшую книжицу, главным образом состоящую из странных стихов, какие могли бы выйти из-под руки вдохновленного дитя, а отчасти – из «записок и восклицаний» на той странной вульгарной латыни, которой он нахватался из «Рукописей Иоло»; но существуют опасения, что и этой работе, даже опубликованной во всей полноте, не пролить свет на его загадочную историю. Он назвал свой литературный экзерсис In Exitu Israel[46 - «По исходе Израиля», псалом 113.] и написал на титульной странице девиз – не иначе как собственного сочинения: «Nunc certe scio quod omnia legenda; omnes histori?, omnes fabul?, omnis Scriptura sint de ME narrate»[47 - Теперь я точно знаю, что надо прочитать все; что все истории, все басни, все Писания говорят обо МНЕ (лат.).]. Сразу бросается в глаза, что латыни он учился не у Цицерона; но именно на этом диалекте он излагает великую историю «Новой Жизни», как она была ему явлена. «Стихи» и того причудливей. Один – под заглавием (странно напоминающим старомодные книги) «Строки, написанные в Лондоне при взгляде с высоты на частную школу, вдруг озаренную Солнцем», – начинаются так:
В тот день, когда один гулял,
Чудесный камень отыскал:
Лежал забытым на пути,
Где ни одной живой души.
И я, взглянувши на него,
Обрел Сокровище свое.
К нему щекой скорей приник,
Укрыл в объятьях сей же миг,
Затем унес его в тайник.
И каждый день к нему ходил,
Его вид радость приносил;
И подносил ему цветы,
Секретные слова, хвалы.
О, камень, ты так мудр и ал –
Осколок рая я достал,
Звезду, чей свет есть жизнь!
О, море, бесконечный океан!
Ты пламя, что всегда горит
Все взоры лишь к себе манит;
Сдувая пыль унылых дней
Ты мир наш делаешь светлей,
И так, куда ни посмотрю,
Тебе осанну я пою.
Горит вдруг золотом река,