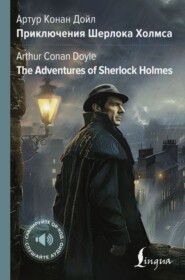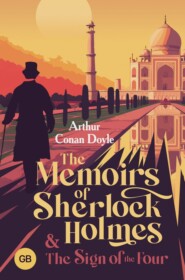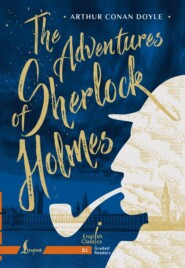По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Маракотова бездна
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Задача пионера науки всегда состояла в том, чтобы опровергать то, что было доказано. Пошевелите-ка мозгами, молодой человек! Весь последний месяц вы вылавливали самые нежные глубоководные формы жизни – существа столь нежные, что вам еле-еле удавалось перенести их из сетки в банку, не повредив их чувствительных покровов. Что же, это подтверждает существование чрезвычайного давления?
– Давление уравновешивалось, – ответил я. – Оно одинаково изнутри и снаружи.
– Пустые слова! – крикнул Маракот, нетерпеливо дёрнув головой. – Вы вытаскивали круглых рыб, как, например, gastrostomus globulus. Разве их не расплющило бы в лепёшку, если бы давление было таково, как вы полагаете? Или же посмотрите на наши глубинные тралы. Ведь они не сплющиваются даже на самых больших глубинах.
– Но опыт водолазов…
– Конечно, его следует учитывать. Они действительно замечают увеличение давления, испытывая его действие на самый, пожалуй, чувствительный орган тела – внутреннее ухо[4 - У млекопитающих в ухе различают три отдела: внешнее ухо, состоящее из ушной раковины и наружного слухового прохода; среднее ухо, или барабанную перепонку; и внутреннее ухо, или лабиринт, с так называемыми полукружными каналами и улиткой. Внутреннее ухо содержит в себе окончание слухового нерва.]. Но по моим предположениям, мы совершенно не будем подвергаться давлению. Нас опустят вниз в стальной клетке с толстыми хрустальными окнами для наблюдений. Если давление недостаточно сильно, чтобы вдавить внутрь четыре сантиметра закалённой двухромоникелевой стали, оно не повредит нам. Мы продолжим эксперимент братьев Уильямсон в Насау, с которым вы, наверно, знакомы. Если мой расчёт ошибочен – ну что ж, вы говорите, от вас никто не зависит… Мы умрём во время великого опыта. Конечно, если вы предпочитаете уклониться, я могу отправиться один.
Мне показалось, что это самый безумный из всех мыслимых проектов, но вы знаете, как трудно отказаться от вызова. Я решил оттянуть время для решения.
– На какую глубину вы намерены опуститься, сэр? – спросил я.
Над его столом была приколота карта; он укрепил конец циркуля в точке к юго-западу от Канарских островов.
– В прошлом году я зондировал эти места, – сказал он. – Там есть очень глубокая впадина. Семь тысяч шестьсот двадцать метров. Я первый сообщил об этой впадине. Надеюсь, в будущем вы найдёте её на картах под названием Маракотова бездна.
– Неужто вы собираетесь спуститься в эту бездну, сэр? – воскликнул я.
– Нет, нет, – с улыбкой ответил Маракот. – Ни наша спускная цепь, ни трубки для воздуха не достигают больше полумили! Но я хотел объяснить вам, что вокруг этой глубокой впадины, которая, несомненно, была образована вулканическими силами, находится приподнятый хребет или узкое плато, которое лежит на глубине трёхсот фатомов[5 - Фатом равен 1,82 м.].
– Трёхсот фатомов? Треть мили! – воскликнул я.
– Да, примерно треть мили. Я хочу, чтобы нас спустили в маленькой наблюдательной кабинке именно на это плато. Там мы сделаем все возможные наблюдения. С судном нас будет соединять разговорная трубка, и мы сможем передавать наши приказания. С этим не будет никаких затруднений. Когда захотим, чтобы нас подняли, достаточно будет лишь сказать об этом в трубку.
– А воздух?
– Будет накачиваться к нам вниз.
– Но ведь там будет совершенно темно!
– Боюсь, что да. Опыты Фоля и Сарасена на Женевском озере доказывают, что на такую глубину не проникают даже ультрафиолетовые лучи. Но какое это имеет значение? Мы будем снабжены мощным электрическим током от судовых машин, дополненным шестью двухвольтовыми сухими элементами Хэллесена, соединёнными между собой, чтобы давать ток в двенадцать вольт. Вместе с сигнальной лампой Люка военного образца в качестве подвижного рефлектора нам этого вполне хватит. Что ещё вас смущает?
– А если наши воздушные трубки запутаются?
– Не запутаются! А на всякий случай у нас есть сжатый воздух, которого нам хватит на сутки. Ну как, удовлетворяют вас мои пояснения? Согласны вы? – спросил Маракот.
Решение предстояло нелёгкое. Мозг мой быстро работал, а воображение – ещё того быстрее. Я уже явственно представлял себе этот чёрный ящик, опущенный в первобытные глубины, чувствовал спёртый воздух, видел, как гнутся стены камеры, как вода разрывает их в местах скрепления и проникает во все щели и трещины, которые всё расширяются… Мне предстояло умереть медленной, ужасной смертью! Но я поднял взгляд: огненные глаза старика были устремлены на меня и в них светилось воодушевление мученика науки. Энтузиазм такого рода заразителен, и если это – безумие, то по крайней мере благородное и бескорыстное. Пламя его перекинулось на меня, я вскочил и протянул ему руку.
– Доктор, я с вами до конца! – воскликнул я.
– Я так и знал, – ответил он. – Я вас выбирал не за ваши поверхностные научные знания, мой молодой друг, – улыбаясь, добавил он, – а также и не за ваше близкое знакомство с крабами. Есть другие качества, которые могут оказаться для нас куда важнее. Это верность и мужество.
Поймав меня таким образом на кусок сахара, он отпустил меня. И все мои планы на будущее рассыпались в прах. Ну, вот сейчас отвалит последняя береговая шлюпка! Спрашивают, нет ли писем на берег. Вы или никогда уже больше не услышите обо мне, мой дорогой Толбот, или получите письмо, стоящее того, чтобы его прочитать. Если от меня не будет вестей, можете зафрахтовать плавучий надгробный памятник и прикрепить его на якоре где-нибудь южнее Канарских островов, написав на нём: „Здесь или где-либо поблизости покоится всё, что оставили рыбы от моего друга Сайреса Дж. Хедли“».
Второй документ – неразборчивая радиограмма, которую уловили разные суда, в том числе и почтовый пароход «Аройя». Она была принята в три часа дня 3 октября 1926 года, и это доказывает, что она была отправлена всего через два дня после отплытия «Стратфорда» с Больших Канарских островов, что подтверждается и письмом Хедли. Это приблизительно совпадает с тем временем, когда норвежское судно видело гибнущую в циклоне яхту в двухстах милях от порта Санта-Крус.
Радиограмма гласила:
«Лежим на боку. Положение безнадёжное. Только что потеряли Маракота, Хедли, Сканлэна.
Местоположение непонятно. Носовой платок Хедли на конце глубоководного лота. Господь да поможет нам…
Это было то последнее непонятное сообщение, которое дошло со злополучного судна, и конец радиограммы такой странный, что его сочли бредом радиотелеграфиста. Однако сама радиограмма, казалось, не оставляла сомнения относительно судьбы судна.
Объяснение этого случая, если это можно принять в качестве объяснения, следует искать в записках, найденных в стеклянном шаре, и прежде всего я нахожу нужным расширить появившийся в печати очень краткий отчёт о находке этого шара. Я беру его дословно из вахтенного журнала «Арабеллы Ноулз», направлявшейся под командой Амоса Грина с грузом угля из Кардифа в Буэнос-Айрес.
«Среда, 5 января 1927 года. Широта 27° 14?, западная долгота 28°. Спокойная погода. Голубое небо с низкими перистыми облаками. Море как стекло. Во вторую склянку средней вахты первый помощник доложил, что заметил сверкающий предмет, который выпрыгнул из моря и затем упал обратно. Его первое впечатление было, что это какая-то неизвестная ему рыба, но, посмотрев в подзорную трубу, он увидел, что это серебряный шар, такой лёгкий, что он не плыл, а скорее лежал на поверхности воды. Меня вызвали, и я увидел шар величиной с футбольный мяч, ярко сверкавший почти в полумиле от нашего судна. Я застопорил машины и послал бот со вторым помощником, который подобрал шар и доставил его на борт.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что шар этот сделан из какого-то очень гибкого стекла и наполнен столь лёгким газом, что, когда его подбрасывали в воздух, он плавал, как детский воздушный шарик. Он был почти прозрачен, и мы разглядели внутри его что-то вроде свёртка бумаг. Сделан он был из такого упругого материала, что нам далеко не сразу удалось разбить его и добраться до бумаги. Молоток его не брал, и он разбился, только когда главный механик положил его в машину. К сожалению, он разлетелся в искрящуюся пыль, так что нам не удалось найти ни кусочка, чтобы установить, из чего же он был сделан. Однако бумага осталась цела, и, прочитав её, мы заключили, что она имеет большое значение, и решили вручить её британскому консулу, как только достигнем Ла-Платы. Вот уже тридцать пять лет я плаваю на судах, но с такой загадочной историей я столкнулся впервые; то же говорят все, кто находится сейчас на борту. Предоставляю разбираться в этом людям поумней меня».
Вот всё, что мы знаем о том, откуда взялись записки Сайреса Дж. Хедли, которые мы сейчас приведём без малейших искажений.
«Кому я пишу? Смело могу сказать: всему миру, – но так как это адрес весьма неточный, то укажу определённее: моему другу сэру Джеймсу Толботу из Оксфордского университета, хотя бы потому, что последнее моё письмо было адресовано ему, а это можно рассматривать как продолжение. Я готов к тому, что, если даже шар увидит свет солнца и не будет проглочен акулой, есть лишь один шанс из тысячи, что среди бесконечных водных пространств он попадётся на глаза человеку. Но всё же попробовать стоит, да и Маракот тоже посылает шар, так что вполне возможно, что рассказ о наших удивительных приключениях станет известен миру. Поверят ли нам – это, я полагаю, уже другой вопрос, но когда люди увидят прозрачный шар, наполненный неведомым им газом, надеюсь, они поймут, что внутри находится нечто не совсем обыкновенное. Во всяком случае, вы, Толбот, не бросите мои заметки, не прочтя их.
Если кто-нибудь захочет узнать, как всё это началось и что мы собирались сделать, он сможет найти эти сведения в письме, которое я вам писал 1 октября прошлого года, в день отплытия из Санта-Круса. Знай я наперёд, что? нам придётся пережить, я бы прыгнул в последнюю отходящую лодку! А впрочем, наверно, даже зная, что нас ожидает, я всё же принял бы предложение доктора Маракота и прошёл бы через всё до конца. Да, я даже уверен в этом: я всё равно не отказался бы.
Итак, я начинаю рассказ с того дня, как мы отплыли из Санта-Круса. Едва мы вышли из гавани, старик Маракот преобразился. Наконец-то наступило время действовать, и вся его энергия, так долго лежавшая под спудом, вырвалась наружу. Уверяю вас, он сразу забрал всю власть на яхте, подчинив себе и заставив склониться перед своей волей всё и всех. Сухой, рассеянный ворчун-учёный внезапно исчез, уступив место воплощению мощной динамо-машины, пышущей энергией и потрескивающей от напора громадной скрытой силы. Его глаза сверкали из-за стёкол очков, как прожекторы. Он, казалось, находился сразу везде и всюду, отмечая наше направление на карте, препираясь с капитаном, командуя Биллом Сканлэном, давая мне множество разных поручений, и при этом во всех его действиях была система, все они вели к одной цели. Он неожиданно обнаружил солидные познания в электричестве и механике и бо?льшую часть времени проводил у машины, которую Сканлэн методично собирал под его непосредственным наблюдением.
– Ну, мистер Хедли, дело идёт на лад, – сказал Билл на второе утро. – Пойдёмте ко мне, взглянете на эту диковинную штуку. Доктор, оказывается, великолепный парень и механик первый сорт.
Ощущение у меня было не из приятных: мне казалось, что я осматриваю собственный гроб, но всё же, должен признаться, выглядел он весьма впечатляюще. Стальной пол был накрепко приклёпан к четырём стальным стенкам, и в каждой было по круглому окну-иллюминатору. В крыше находился небольшой входной трап, второй трап был в полу. Вся кабинка висела на тонком, но невероятно крепком стальном канате, который навёртывался на барабан и разматывался или наматывался сильным двигателем, который обычно приводил в действие глубоководные тралы „Стратфорда“. Насколько я понял, канат был длиной около полумили, и конец его был закреплён на железных тумбах на палубе. Резиновые трубки для подачи воздуха были такой же длины; с ними вместе тянулся телефонный провод и изолированный кабель, подающий электроэнергию от судовых динамо к нашим прожекторам; кроме них, в стальной каюте стояли на всякий случай запасные аккумуляторы.
К вечеру остановили машины. Барометр показывал низкое давление, и густые чёрные тучи, застилавшие горизонт, предупреждали о приближении непогоды. Вдали был виден барк под норвежским флагом, и мы рассмотрели, как он зарифлял паруса, готовясь к шторму. Но в ту минуту всё было благополучно, и „Стратфорд“ мягко покачивался на синих волнах океана, кое-где пенившихся белыми гребешками от пассатного ветра.
Билл Сканлэн заглянул ко мне в лабораторию в несколько более взволнованном состоянии, чем следовало при его спокойном темпераменте.
– Послушайте, мистер Хедли, – сказал он, – они спустили эту ловушку на самое дно трюма. Как по-вашему, неужто хозяин хочет в ней спускаться?
– Именно, Билл! И я с ним вместе.
– Так-так, значит, теперь двое свихнулись. Но я буду себя чувствовать последним негодяем, коли пущу вас одних.
– Да вам-то что там делать, Билл?
– Не меньше, чем вам, сэр! Да я весь пожелтею от зависти, если вы спуститесь без меня. Мерибэнкс послал меня сюда наблюдать за машиной, и если она спускается на дно моря, значит и моё место на дне моря. Где эта стальная мышеловка, там и Билл Сканлэн, и мне совершенно безразлично, сошли все с ума или нет.
Спорить с ним было бесполезно. Итак, к нашему клубу самоубийц примкнул ещё один, и мы стали ждать дальнейших распоряжений.
Вся ночь прошла в интенсивной работе, и утром мы спустились в трюм, готовые к погружению. Стальная кабинка была уже наполовину вставлена в вырез дна „Стратфорда“, и мы один за другим спустились в неё через верхний трап, который закрыли за нами и завинтили наглухо, после того как капитан Хови с самой похоронной миной пожал нам руки на прощание. Потом кабинку спустили ещё на несколько метров, закрыли герметическую камеру и впустили воду, чтобы испытать нашу каюту в воде. Кабинка выдержала испытание прекрасно, каждая часть оказалась точно пригнанной, и никакой течи не наблюдалось.
Кабинка действительно была очень удобная, и я восхищался продуманностью её устройства. Электрическое освещение было пока выключено, субтропическое солнце, преломляясь в бутылочно-зелёной воде, бросало в иллюминаторы фантастический мягкий свет. Там и сям мелькали серебряные рыбки, как чёрточки на зелёном фоне. По стенам кабинки шли диваны, над ними помещался циферблат глубиномера, термометр и другие приборы. Под диванами стояли баллоны со сжатым воздухом на случай, если испортятся проводящие воздух трубки. Концы этих трубок уходили к потолку, а рядом с ними висел телефонный аппарат. Мы услышали траурный голос капитана.
– Вы определённо решили погружаться? – спросил он.
– У нас всё в порядке, – нетерпеливо ответил профессор. – Опускайте медленно, и пусть кто-нибудь всё время дежурит у приёмника. Я буду сообщать о нашем положении. Когда мы достигнем дна, оставайтесь на месте, пока не получите распоряжений. Я не хочу давать слишком большую нагрузку канату, так что спускайте медленно, со скоростью двух-трёх узлов в час. А теперь – вниз!
Последние слова он выкрикнул как безумный. Это был величайший момент его жизни, плод взлелеянной им мечты. На одно мгновение меня пронзила мысль, что мы находимся во власти ловкого и хитрого маньяка. Билл Сканлэн, видимо, подумал то же; он посмотрел на меня с горестной усмешкой и дотронулся до своего лба. Но после этой единственной дикой вспышки Маракот тотчас же взял себя в руки. В самом деле, достаточно было взглянуть на порядок и предусмотрительность, которые проявлялись в каждой детали вокруг нас, чтобы отбросить опасения за его рассудок.
– Давление уравновешивалось, – ответил я. – Оно одинаково изнутри и снаружи.
– Пустые слова! – крикнул Маракот, нетерпеливо дёрнув головой. – Вы вытаскивали круглых рыб, как, например, gastrostomus globulus. Разве их не расплющило бы в лепёшку, если бы давление было таково, как вы полагаете? Или же посмотрите на наши глубинные тралы. Ведь они не сплющиваются даже на самых больших глубинах.
– Но опыт водолазов…
– Конечно, его следует учитывать. Они действительно замечают увеличение давления, испытывая его действие на самый, пожалуй, чувствительный орган тела – внутреннее ухо[4 - У млекопитающих в ухе различают три отдела: внешнее ухо, состоящее из ушной раковины и наружного слухового прохода; среднее ухо, или барабанную перепонку; и внутреннее ухо, или лабиринт, с так называемыми полукружными каналами и улиткой. Внутреннее ухо содержит в себе окончание слухового нерва.]. Но по моим предположениям, мы совершенно не будем подвергаться давлению. Нас опустят вниз в стальной клетке с толстыми хрустальными окнами для наблюдений. Если давление недостаточно сильно, чтобы вдавить внутрь четыре сантиметра закалённой двухромоникелевой стали, оно не повредит нам. Мы продолжим эксперимент братьев Уильямсон в Насау, с которым вы, наверно, знакомы. Если мой расчёт ошибочен – ну что ж, вы говорите, от вас никто не зависит… Мы умрём во время великого опыта. Конечно, если вы предпочитаете уклониться, я могу отправиться один.
Мне показалось, что это самый безумный из всех мыслимых проектов, но вы знаете, как трудно отказаться от вызова. Я решил оттянуть время для решения.
– На какую глубину вы намерены опуститься, сэр? – спросил я.
Над его столом была приколота карта; он укрепил конец циркуля в точке к юго-западу от Канарских островов.
– В прошлом году я зондировал эти места, – сказал он. – Там есть очень глубокая впадина. Семь тысяч шестьсот двадцать метров. Я первый сообщил об этой впадине. Надеюсь, в будущем вы найдёте её на картах под названием Маракотова бездна.
– Неужто вы собираетесь спуститься в эту бездну, сэр? – воскликнул я.
– Нет, нет, – с улыбкой ответил Маракот. – Ни наша спускная цепь, ни трубки для воздуха не достигают больше полумили! Но я хотел объяснить вам, что вокруг этой глубокой впадины, которая, несомненно, была образована вулканическими силами, находится приподнятый хребет или узкое плато, которое лежит на глубине трёхсот фатомов[5 - Фатом равен 1,82 м.].
– Трёхсот фатомов? Треть мили! – воскликнул я.
– Да, примерно треть мили. Я хочу, чтобы нас спустили в маленькой наблюдательной кабинке именно на это плато. Там мы сделаем все возможные наблюдения. С судном нас будет соединять разговорная трубка, и мы сможем передавать наши приказания. С этим не будет никаких затруднений. Когда захотим, чтобы нас подняли, достаточно будет лишь сказать об этом в трубку.
– А воздух?
– Будет накачиваться к нам вниз.
– Но ведь там будет совершенно темно!
– Боюсь, что да. Опыты Фоля и Сарасена на Женевском озере доказывают, что на такую глубину не проникают даже ультрафиолетовые лучи. Но какое это имеет значение? Мы будем снабжены мощным электрическим током от судовых машин, дополненным шестью двухвольтовыми сухими элементами Хэллесена, соединёнными между собой, чтобы давать ток в двенадцать вольт. Вместе с сигнальной лампой Люка военного образца в качестве подвижного рефлектора нам этого вполне хватит. Что ещё вас смущает?
– А если наши воздушные трубки запутаются?
– Не запутаются! А на всякий случай у нас есть сжатый воздух, которого нам хватит на сутки. Ну как, удовлетворяют вас мои пояснения? Согласны вы? – спросил Маракот.
Решение предстояло нелёгкое. Мозг мой быстро работал, а воображение – ещё того быстрее. Я уже явственно представлял себе этот чёрный ящик, опущенный в первобытные глубины, чувствовал спёртый воздух, видел, как гнутся стены камеры, как вода разрывает их в местах скрепления и проникает во все щели и трещины, которые всё расширяются… Мне предстояло умереть медленной, ужасной смертью! Но я поднял взгляд: огненные глаза старика были устремлены на меня и в них светилось воодушевление мученика науки. Энтузиазм такого рода заразителен, и если это – безумие, то по крайней мере благородное и бескорыстное. Пламя его перекинулось на меня, я вскочил и протянул ему руку.
– Доктор, я с вами до конца! – воскликнул я.
– Я так и знал, – ответил он. – Я вас выбирал не за ваши поверхностные научные знания, мой молодой друг, – улыбаясь, добавил он, – а также и не за ваше близкое знакомство с крабами. Есть другие качества, которые могут оказаться для нас куда важнее. Это верность и мужество.
Поймав меня таким образом на кусок сахара, он отпустил меня. И все мои планы на будущее рассыпались в прах. Ну, вот сейчас отвалит последняя береговая шлюпка! Спрашивают, нет ли писем на берег. Вы или никогда уже больше не услышите обо мне, мой дорогой Толбот, или получите письмо, стоящее того, чтобы его прочитать. Если от меня не будет вестей, можете зафрахтовать плавучий надгробный памятник и прикрепить его на якоре где-нибудь южнее Канарских островов, написав на нём: „Здесь или где-либо поблизости покоится всё, что оставили рыбы от моего друга Сайреса Дж. Хедли“».
Второй документ – неразборчивая радиограмма, которую уловили разные суда, в том числе и почтовый пароход «Аройя». Она была принята в три часа дня 3 октября 1926 года, и это доказывает, что она была отправлена всего через два дня после отплытия «Стратфорда» с Больших Канарских островов, что подтверждается и письмом Хедли. Это приблизительно совпадает с тем временем, когда норвежское судно видело гибнущую в циклоне яхту в двухстах милях от порта Санта-Крус.
Радиограмма гласила:
«Лежим на боку. Положение безнадёжное. Только что потеряли Маракота, Хедли, Сканлэна.
Местоположение непонятно. Носовой платок Хедли на конце глубоководного лота. Господь да поможет нам…
Это было то последнее непонятное сообщение, которое дошло со злополучного судна, и конец радиограммы такой странный, что его сочли бредом радиотелеграфиста. Однако сама радиограмма, казалось, не оставляла сомнения относительно судьбы судна.
Объяснение этого случая, если это можно принять в качестве объяснения, следует искать в записках, найденных в стеклянном шаре, и прежде всего я нахожу нужным расширить появившийся в печати очень краткий отчёт о находке этого шара. Я беру его дословно из вахтенного журнала «Арабеллы Ноулз», направлявшейся под командой Амоса Грина с грузом угля из Кардифа в Буэнос-Айрес.
«Среда, 5 января 1927 года. Широта 27° 14?, западная долгота 28°. Спокойная погода. Голубое небо с низкими перистыми облаками. Море как стекло. Во вторую склянку средней вахты первый помощник доложил, что заметил сверкающий предмет, который выпрыгнул из моря и затем упал обратно. Его первое впечатление было, что это какая-то неизвестная ему рыба, но, посмотрев в подзорную трубу, он увидел, что это серебряный шар, такой лёгкий, что он не плыл, а скорее лежал на поверхности воды. Меня вызвали, и я увидел шар величиной с футбольный мяч, ярко сверкавший почти в полумиле от нашего судна. Я застопорил машины и послал бот со вторым помощником, который подобрал шар и доставил его на борт.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что шар этот сделан из какого-то очень гибкого стекла и наполнен столь лёгким газом, что, когда его подбрасывали в воздух, он плавал, как детский воздушный шарик. Он был почти прозрачен, и мы разглядели внутри его что-то вроде свёртка бумаг. Сделан он был из такого упругого материала, что нам далеко не сразу удалось разбить его и добраться до бумаги. Молоток его не брал, и он разбился, только когда главный механик положил его в машину. К сожалению, он разлетелся в искрящуюся пыль, так что нам не удалось найти ни кусочка, чтобы установить, из чего же он был сделан. Однако бумага осталась цела, и, прочитав её, мы заключили, что она имеет большое значение, и решили вручить её британскому консулу, как только достигнем Ла-Платы. Вот уже тридцать пять лет я плаваю на судах, но с такой загадочной историей я столкнулся впервые; то же говорят все, кто находится сейчас на борту. Предоставляю разбираться в этом людям поумней меня».
Вот всё, что мы знаем о том, откуда взялись записки Сайреса Дж. Хедли, которые мы сейчас приведём без малейших искажений.
«Кому я пишу? Смело могу сказать: всему миру, – но так как это адрес весьма неточный, то укажу определённее: моему другу сэру Джеймсу Толботу из Оксфордского университета, хотя бы потому, что последнее моё письмо было адресовано ему, а это можно рассматривать как продолжение. Я готов к тому, что, если даже шар увидит свет солнца и не будет проглочен акулой, есть лишь один шанс из тысячи, что среди бесконечных водных пространств он попадётся на глаза человеку. Но всё же попробовать стоит, да и Маракот тоже посылает шар, так что вполне возможно, что рассказ о наших удивительных приключениях станет известен миру. Поверят ли нам – это, я полагаю, уже другой вопрос, но когда люди увидят прозрачный шар, наполненный неведомым им газом, надеюсь, они поймут, что внутри находится нечто не совсем обыкновенное. Во всяком случае, вы, Толбот, не бросите мои заметки, не прочтя их.
Если кто-нибудь захочет узнать, как всё это началось и что мы собирались сделать, он сможет найти эти сведения в письме, которое я вам писал 1 октября прошлого года, в день отплытия из Санта-Круса. Знай я наперёд, что? нам придётся пережить, я бы прыгнул в последнюю отходящую лодку! А впрочем, наверно, даже зная, что нас ожидает, я всё же принял бы предложение доктора Маракота и прошёл бы через всё до конца. Да, я даже уверен в этом: я всё равно не отказался бы.
Итак, я начинаю рассказ с того дня, как мы отплыли из Санта-Круса. Едва мы вышли из гавани, старик Маракот преобразился. Наконец-то наступило время действовать, и вся его энергия, так долго лежавшая под спудом, вырвалась наружу. Уверяю вас, он сразу забрал всю власть на яхте, подчинив себе и заставив склониться перед своей волей всё и всех. Сухой, рассеянный ворчун-учёный внезапно исчез, уступив место воплощению мощной динамо-машины, пышущей энергией и потрескивающей от напора громадной скрытой силы. Его глаза сверкали из-за стёкол очков, как прожекторы. Он, казалось, находился сразу везде и всюду, отмечая наше направление на карте, препираясь с капитаном, командуя Биллом Сканлэном, давая мне множество разных поручений, и при этом во всех его действиях была система, все они вели к одной цели. Он неожиданно обнаружил солидные познания в электричестве и механике и бо?льшую часть времени проводил у машины, которую Сканлэн методично собирал под его непосредственным наблюдением.
– Ну, мистер Хедли, дело идёт на лад, – сказал Билл на второе утро. – Пойдёмте ко мне, взглянете на эту диковинную штуку. Доктор, оказывается, великолепный парень и механик первый сорт.
Ощущение у меня было не из приятных: мне казалось, что я осматриваю собственный гроб, но всё же, должен признаться, выглядел он весьма впечатляюще. Стальной пол был накрепко приклёпан к четырём стальным стенкам, и в каждой было по круглому окну-иллюминатору. В крыше находился небольшой входной трап, второй трап был в полу. Вся кабинка висела на тонком, но невероятно крепком стальном канате, который навёртывался на барабан и разматывался или наматывался сильным двигателем, который обычно приводил в действие глубоководные тралы „Стратфорда“. Насколько я понял, канат был длиной около полумили, и конец его был закреплён на железных тумбах на палубе. Резиновые трубки для подачи воздуха были такой же длины; с ними вместе тянулся телефонный провод и изолированный кабель, подающий электроэнергию от судовых динамо к нашим прожекторам; кроме них, в стальной каюте стояли на всякий случай запасные аккумуляторы.
К вечеру остановили машины. Барометр показывал низкое давление, и густые чёрные тучи, застилавшие горизонт, предупреждали о приближении непогоды. Вдали был виден барк под норвежским флагом, и мы рассмотрели, как он зарифлял паруса, готовясь к шторму. Но в ту минуту всё было благополучно, и „Стратфорд“ мягко покачивался на синих волнах океана, кое-где пенившихся белыми гребешками от пассатного ветра.
Билл Сканлэн заглянул ко мне в лабораторию в несколько более взволнованном состоянии, чем следовало при его спокойном темпераменте.
– Послушайте, мистер Хедли, – сказал он, – они спустили эту ловушку на самое дно трюма. Как по-вашему, неужто хозяин хочет в ней спускаться?
– Именно, Билл! И я с ним вместе.
– Так-так, значит, теперь двое свихнулись. Но я буду себя чувствовать последним негодяем, коли пущу вас одних.
– Да вам-то что там делать, Билл?
– Не меньше, чем вам, сэр! Да я весь пожелтею от зависти, если вы спуститесь без меня. Мерибэнкс послал меня сюда наблюдать за машиной, и если она спускается на дно моря, значит и моё место на дне моря. Где эта стальная мышеловка, там и Билл Сканлэн, и мне совершенно безразлично, сошли все с ума или нет.
Спорить с ним было бесполезно. Итак, к нашему клубу самоубийц примкнул ещё один, и мы стали ждать дальнейших распоряжений.
Вся ночь прошла в интенсивной работе, и утром мы спустились в трюм, готовые к погружению. Стальная кабинка была уже наполовину вставлена в вырез дна „Стратфорда“, и мы один за другим спустились в неё через верхний трап, который закрыли за нами и завинтили наглухо, после того как капитан Хови с самой похоронной миной пожал нам руки на прощание. Потом кабинку спустили ещё на несколько метров, закрыли герметическую камеру и впустили воду, чтобы испытать нашу каюту в воде. Кабинка выдержала испытание прекрасно, каждая часть оказалась точно пригнанной, и никакой течи не наблюдалось.
Кабинка действительно была очень удобная, и я восхищался продуманностью её устройства. Электрическое освещение было пока выключено, субтропическое солнце, преломляясь в бутылочно-зелёной воде, бросало в иллюминаторы фантастический мягкий свет. Там и сям мелькали серебряные рыбки, как чёрточки на зелёном фоне. По стенам кабинки шли диваны, над ними помещался циферблат глубиномера, термометр и другие приборы. Под диванами стояли баллоны со сжатым воздухом на случай, если испортятся проводящие воздух трубки. Концы этих трубок уходили к потолку, а рядом с ними висел телефонный аппарат. Мы услышали траурный голос капитана.
– Вы определённо решили погружаться? – спросил он.
– У нас всё в порядке, – нетерпеливо ответил профессор. – Опускайте медленно, и пусть кто-нибудь всё время дежурит у приёмника. Я буду сообщать о нашем положении. Когда мы достигнем дна, оставайтесь на месте, пока не получите распоряжений. Я не хочу давать слишком большую нагрузку канату, так что спускайте медленно, со скоростью двух-трёх узлов в час. А теперь – вниз!
Последние слова он выкрикнул как безумный. Это был величайший момент его жизни, плод взлелеянной им мечты. На одно мгновение меня пронзила мысль, что мы находимся во власти ловкого и хитрого маньяка. Билл Сканлэн, видимо, подумал то же; он посмотрел на меня с горестной усмешкой и дотронулся до своего лба. Но после этой единственной дикой вспышки Маракот тотчас же взял себя в руки. В самом деле, достаточно было взглянуть на порядок и предусмотрительность, которые проявлялись в каждой детали вокруг нас, чтобы отбросить опасения за его рассудок.