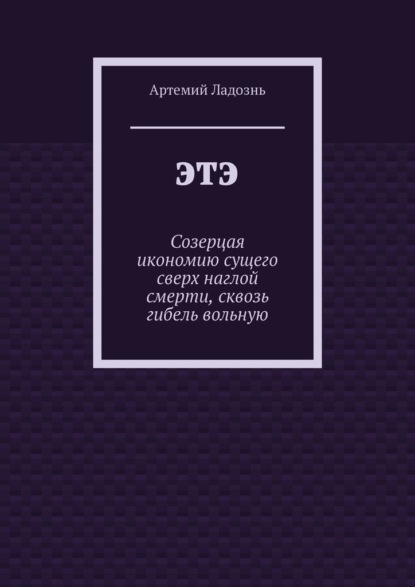По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
ЭТЭ. Созерцая икономию сущего сверх наглой смерти, сквозь гибель вольную
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
ЭТЭ. Созерцая икономию сущего сверх наглой смерти, сквозь гибель вольную
Артемий Ладознь
Наглая (необъяснимая, внезапная) смерть, как и внешне вольная (притом прижизненная) гибель сами по себе представляют тайну тайн, особенно когда речь идет о страданиях детей, невинных, лучших. Но за ними может стоять некое обобщение, сулящее куда большую ясность. Имеют место и цена, и некая алгебра («мена»), в т.ч. в преломлении "/а/лете-исчисления», приоткрывающего общие паттерны в судьбах личностей и эпох. Но и знание цены сопряжено с ценой: простота автоморфна, хоть мыслима и свобода от мены.
ЭТЭ
Созерцая икономию сущего сверх наглой смерти, сквозь гибель вольную
Артемий Ладознь
© Артемий Ладознь, 2021
ISBN 978-5-0053-5702-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ЭТЭ. Созерцая икономию сущего сверх наглой смерти, сквозь гибель вольную
Памяти Игоря Колесника, коего не имел чести знать при жизни,
и с признательностью его маме Светлане, с которой также не был знаком
Круг суесмыслия? (Вместо предисловия)
Попробуем не томить и, сославшись на славного отца ОТО (хотел-де знать «лишь» Его мысли), без экивоков изложим список вопросов: в чем тайна лишений для достойных, страданий невинных, болезни близких, ухода любимых и смерти детей как апофеоза всего перечисленного? Гамбургский счет может и продолжиться, охватив и утрату любви, и «просто» наглую смерть, и прижизненную гибель. Но с сими-то, как ни странно, попроще будет (уж поверьте!) А вот вопрос вопросов – страдания и смерть видимо без вины и смысла, в том числе и прежде всего детей, – оставшись без покушения на ответ, может отвратить и от веры, и от надежды с любовью, а не то что – от смыслостарательства. Сюда же, тем самым, дилемма сопряженная: ведая сие, зачем рискует Тот, кто самым погружением вопрошателей в бездны отчаяния и неведения может их потерять? Затянем ли песнь о том, что не дается креста немогущему (т.е. прежде или вне талантов) как не долженствующему? Но и здесь балансируем на грани нарушения купли-велемены теми, кто самим фактом неизбывной, запредельной утраты возомнит себя свободными от условий и закона. Каких и какого? Обойдемся без ложных сужений: свету пущего не прольют…
Оно ведь, знаете, как бывает: «сегодня есть, а завтра нет». Почему нет, зачем НЕТ? А почто было-то, неблагодарныя, – не задавались вопросом? Сто раз вам угоди, единожды погоди, – лишь сымитировав промедление или бессмысленную неумолимость, – так вознегодуют, что и проклясть не побрезгуют.
Положим, Там этак не размышляют. (Кстати, любопытно: нам-то откуда сие ведомо? Но сейчас не об этом; впрочем, постойте: и об этом тоже, и именно об этом!) А как – кто знает? Кто воззрит на вещи сокровенные очами Творца, когда и малое помыслить лень, когда до ОТО (общей относительности теорейки) ручонки не доходят? Когда никому не приходит в голову осмеять автора невнятно-произвольного Ито-исчисления, зато Творцу только ленивый не предъявит: темновато-де изъясняетесь! (ежели всерьез принимать возможность какого-либо обращения к легковесно Отрицаемому).
Вот и Игорь – чем не «кейс» (этакая облегченная версия «казуса» или «causae» – дела в малом и более широком, сродни, пожалуй, деланию)? Родился, намотал без малого два цикла (по двенадцати лет, если на безрыбье цепляться хоть за какой-никакой опорный план метафизики в лице восточного, «солнечного» зодиака), да и преселился. Куда? Давайте пока без дерзких вопросов с места и резких переходов: и без того вот-вот рискуем в карьер да штопор жестокой благоглупости свалиться. Какой же? Да вот как водится: в детстве травму головы получил, серьезную травму – вот и все, что о парне известно; «аукнулось, небось?» За что, спросите опять прежде сроку, – зачем первое-то, дитяти безвинному? Ну, а развод родителей устроит пытливую инквизицию? Причем далее, как водится, поле для праздного толкования ввиду не то, что отсутствия – невозможности наличия или полноты информации. «Не говорят правды!..» А кто ж вам ее «скажет», когда правдушку добыть надобно? Вот и добывают в меру теплохладной охоты до чужих бед (пусть рукотворных): одни прикинут, что в разводе всегда «виноваты оба», другие – что не виноват никто, третьи – что брак нередко трещит, не выдержав испытаний, среди прочего, болезнью детей. Это ведь сказки все больше, будто невзгоды должны сплотить: возможно, и призваны; да кто ж призыв слышит по нынешним-то временам? Наконец, найдутся наиболее наблюдательные, что подметят: ребенок-то пострадал прежде крушения семейной ладьи, так что давайте-ка без анахронизмов, обратных причинностей!
Пожалуй. Но на что-то опираться придется, раз уж затеяли столь дерзкое плаванье чрез пучину неопределимого – труды столь же скоропалительные, сколь и скорбные, оправдываемые разве что вдруг сгустившейся извечностью проблемы да опасностью ничего не успеть чая лучших времен и совершенноведения. Пакибытия, иными словами?
Посему продолжим. Что еще известно об Игоре? Ведомо лишь о «полку» его – походе в «шоубиз», ранее именовавшийся куда как благозвучней: эстрадой. Решительно невозможно судить-рядить, отправился ли столицу покорять да трофей брать именно как артист или же просто вздумал обрасти актерским мастерством, до очарованья коего падки бывают и подлинные, бесхитростные души, скорее взыскующие (а ровно так и рекомендовал усопшего его духовник, избежавший колких бестактностей вроде причин и следствий, – ethorhoeae, кажущейся прочим катехизаторам всех мастей в порядке вещей и даже рвущейся в словесную проповедь ныне, когда мало кто способен мудро помолчать ввиду неведения, а хоть и глубины исследуемого).
Впрочем, не одно и то же – искать ли подобно Фаусту (как и его эндемичным воплощениям вроде Прохора Громова) или же, обходясь без лишних слов и пафоса служения, приобщаться жизни. Как проступит позже из канвы повествования (пардон, «нарратива» или даже «дискурса», чтоб стать на ступеньку ближе к эпохе пустых и подменных имен), первое свойственно скорее другому слою повествователей-испытателей (спешим заверить читателя: слойность будет «икономной», как и оправданной плотностью охвата): автору писем на зде-посягаемые темы. (Не обессудь, милосердный читатель, если о каждом следующем слое непосредственно известно все меньше, либо понимание добывается пущими трудами: о Проводнике – менее, нежели о Наблюдателе, об авторе – и того меньше; остается надеяться, что полнота в конце вознаградит ясностью). Куда пишет, зачем старается сыпать бисером перед теми, кому давно излишен, а притом выбирая стилистику инсолицитности – непрошенности как гостя, насилования лености ученика собственным назойливым присутствием, побуждением к вопрошанию в обход духовного темперамента и навязыванием глубинности ответов в манере, выставляющей серьезное суесловным святошничеством, напрашивающимся на скоморошничество? Но об этом, досадно пародирующем формы морализаторства совсем уж неглубоких, несколько позже. Да и озвучивать не придется: явит себя во всей спорной, агонизирующей красе. Впрочем, самым искательством (наедине с собой!) тая и выдавая что угодно, кроме фальши. Безумие, готовность рисковать (ибо все или многое, как попробуем показать, несет цену – или сопряжено с разменом), даже горделивое упоение тайнозрением словно тайноядением Страстной седмицей, – не без того! Но и здесь не стоит профанировать чужих грехов да обстояний, низводя до чего-то банального: как вот ту же гордыню неприятия меньшего – до тщеславного «хайпо-/суе-стяжательства» (уж скрестим смеху ради смеха же достойное).
А что же «именно» искал наш – условимся так его именовать – Наблюдатель? Но все дело в том, что и подобная конкретизация бывает едва уместной (что, между прочим, составляет едва ли не сумму его изысканий); во всяком случае, на некоторых уровнях или определенных этапах поиска: ближе к завершению – как и началу. Сей тип в одном из своих писем, кажется, и вскрывает единую основу и плавный переход меж начальной и завершающей фазами поиска. Так сказать, рождения и смерти и повтора этих перерождений, – хотя этим и исчерпывается его серьезное восприятие «арийского вечного возвращения» (эллинского, ведо-аведийского и ницшеанского). Разумеется, восприятие не изначальное, но обретенное самым поиском, изнутри процесса.
Что – не тот, во многом ложный вопрос, если только речь не идет об основаниях. И риск естественный, в смысле «структурной неопределенности», оттого и возникает ввиду не какой-то там «тривиальной» диофантовости, не просто наличия многих неизвестных, но отсутствия какого-либо изначального знания о таковых: сами переменные еще предстоит выяснить, и только в установлении или восстановлении их связей те перестанут быть химерами.
Но вернемся от промежуточных наблюдателей и проводников над ними (договорились ведь, что слои во многом заменят россыпь действующих лиц, притом упростив восстановление переходов-мостов, а не усложнив видение их природы) к производному пласту проблем. Если читатель потрудится воскресить в памяти хотя бы этот посул, то здесь объяснения обещали быть почти элементарными – этакими демонстрациями в одну строчку. Не верите? Взять хотя бы то, куда уходит любовь. Да туда примерно, откуда взялась: из «ниоткуда» возникла – так в «никуда» и отошла. Разве не справедливо, – если только над сохранением ее хрупкой жизни не потрудились? Воспринимайте ее в чистом виде как дар, аванс, чудо, наконец: не в самсаре воплощений и истаиваний дело, а в том же принципе относительности как обобщении «закона сохранения» (энергии, массы, импульса – чего угодно). Как можно требовать от пустоты вечно что-то порождать, притом надолго или навсегда?
Ну, разумеется, наука на то взбодрит вашу скуку, нагнав произволу пуще прежнего, требуя истовой веры ввиду недоказуемости: дескать, как из ничего возникла вселенная Большим взрывом, так пустота и на материю с антиматерией расщепляема (и соединяема – не без выделения фотонов: почти манихейская картинка). «Природа позаботилась… системы стремятся… муравьи соорганизуются… медведи чуют состав почвы…» А вот Творец, дескать, ничего подобного не может, а потому и не нужен, – а посему и не бывать ему, а ежели быть, то – как пустоте, ничто, совершенно неисследимой бездне, в крайнем случае – позднебуддийской шуньяте, притом самое бытность сия неотличима от небытия и неспособна стать истоком даже пустоты.
Ой ли? Такова религия, именуемая догмами и конвенциями «научного метода». Не оказавшись способной на сколь-нибудь стройную аксиоматизацию (не сочтете ведь примером таковой Стандартную модель с массой подгоночных сущностей и калибровочных параметров), нашла себя скачущей меж полярными крайностями парадоксов и сверхдогматичности, повторением и отсылами к тираничным авторитетам (адептам той же секты рефутистов неисследимого дна).
Поэтому он ищет… просто ищет. Больше правды обнаруживается в архетипах и артефактах сказок: отправься невесть куда, доставь незнамо что. Там, или хотя бы в процессе, задним числом, после факта свершения, видно будет – или отпадет надобность повторять вопросы (а не то чтобы – настаивать на куцых, фрагментарных ответах). Но ведь и обнаружение есть дар и чудо, и подобно всякому дару, должно… Впрочем, к дистрибутивности-перестановочности даров еще вернемся: кажется, промелькнет нечто среди его писем – или сквозь оные?
С влюбленностью и любовью тоже начали прояснять: хоть это даже не начало (и вернуться придется), этого достаточно в качестве кандидата на притязаемое «доказательство». Так что там с вопросом вопросов: детьми, наглой смертью поятыми? Отсылая к «отсам», наш Проводник-Кондуит (из тех, что, как нам представилось, над Наблюдателями) не без благостно-слащавой отстраненности заметил: чем, мол, не особый модус сохранности – скорбная печать сугубой избранности, которую трудно вместить и задним числом, хоть этак лишь и познаваема? (Под «отсами», – если миновать глумление над самозваными «отцами» различных форм влияния, – в американской англофони понимается не иное что, как 2000е, по недогляду низводя до нуля понятие «aught», нечто неопределяемо наличествующее, ввиду созвучия с nought. Очевидно сказываются издержки и эксцессы того же «научного» метода, едва ли претерпевшего изменения с инквизиторских времен да в бесплодном нетлении пребывшего сквозь реформации-контрреформации. А он предполагает как раз отсев излишне выдающихся образцов – что аномалий, что гения, что вообще outliers, портящих упрощенческую статистику примитивных паттерн-трендов, в содружестве эмпирицизма – большей важности наименее значимого, зато более яркого и наблюдаемого – с постмодерновым неверием: в стройные и красивые истории – нарративы и дискурсы, «хитрить их перемудрить!» – а равно и в великое, латентно-имплицитное, доселе неизреченное, как и Исток истоков, наконец. Веротерпимость, помимо родных догм, объемлет разве что эклектику и извне произвольно взятые гипотезы, пассивная или двойственная тестируемость коих поважнее их обоснованности или иных критериев совершенства будет. Учитывая, что и гуру Талеб теми же «отсами» предупреждал, попутно изобличая наследующих отцам платонизма-пифагореизма-орфик (одним словом, всего кроме стоико-скептицизма, близкого к ведо-аведизму), и самые «отсы» грянули небывалым кризисом, включая основания мамоноверия, позже прокатившись погромами дотоле незыблемых символов вроде отцов-основателей, – ан мало что вразумило строптивых чад, склонных к пересмотру чего угодно кроме собственной интеллектуальной лености.)
Ну, а к чему их «высокомодие» применил латинский штиль, остановившись на необязательном к определению «модусе» сохранности – не нам судить. Впрочем, как будет предложено, взглянуть на вещи глазами этих промежуточных авторов будет не менее надежно, нежели их потуги оценить самих себя проницанием сознания эпистолярных корреспондентов – как и не более дерзко, нежели вмыслиться-вчувствоваться в Творца уровнем неопределимо выше. (Всех исчислимых и сравнимых, как уговорились, упакуем в вертикаль наблюдаемых, наблюдателей и кондуитов – впрочем, саму по себе довольно аниерархичную и автоморфную: наблюдаемыми предстают все, одновременно тщась таковым соделать и Неизреченное, – иначе же отрицая оное.)
А тут еще куда-то запропастился тот трогательный пес – Псюня, как здесь кличут этого дворняжку, что пасется на храмовом подворье, то и дело воруя в шутку у детей игрушки летней порой, когда и самые сердобольные забывают угостить его хоть малой косточкой (куды в церковь да со скоромным-де переться: грех страшнее некуда, хуже разве что «мшелоимство», хоть и без «скверноприбытчества»). А весь остальной год о нем все забывают, и вовсе редко кого волнует, чем тот поддерживает силенки в стужу. Когда не то, что отоспаться – подремать удается разве днем да под ярким солнцем. Не теряя кротости и доверчивости, чая лета с его приветливыми захожанами подворья, словно оглашенные предстоящими вовне удобства ради (а в поветрие моровое – еще и страха для).
Никто не видал? Вот беда! Куда девался…
Неприметность мириад, бездна в каждой точке: паче статистики мортальности-морбидности
Зачем не стало Игоря? Расплатился, и тем не должен? Заплатил – значит, прежде задолжал? Понес крест по силам? Достоин был только этого, даже этого, разве что этого? Созрел плод, пусть не будучи наблюдаем, ни измеряем, ни смыслом поверяем, ни назиданием для внешних отличаем и, пожалуй, скорее соблазном богоосуждения и богоотрицания чреват? Разве не удободостижимо безумие подвержения суду самого Судьи, покуда не изволит доказать собственную подзаконность (скользкое «подсудность»: в греческом соседствует с «лицемерием», hypocrisis/-criseia), либо суверенную иммунность к таковой, а то и право поставлять закон, и обязанность – являть его неоспоримое совершенство, внутреннюю непротиворечивость, внешнюю безальтернативность (или, как в отдельных гипокритических экзегезах, поэтическую эстетику как якобы мерило мерил)?
Происходит именно немыслимое, попускаемо недопустимое. Дети умирают в военное время даже в относительно мирную пору (впрочем, именуемую в ориентальных традициях «эпохой брани», членения, аналитичности). Умирают за амбиции ничтожеств, по нерешительности достойных противостоять первым (то ли из ложного смирения, а то ли алчного страху ради). Гибнут бестолково в пожарах, будучи подвержены как апофеозу технического прогресса (масляным радиаторам-обогревателям при максимальной нагрузке на ветхие электросети, литий-ионовым элементам питания в гаджетах вроде самокатов-сигвеев да последних линеек смартфонов), так и родителям – этим жертвам прогресса же, что свято верят в непогрешимость соцсетей и «зелень» генерируемой из угля электроэнергии (разучившись не только лучины-лампады теплить, но даже постигать элементарные природные явления, коих и сам Бог не отменял). Их запирают в кинотеатрах при торговых центрах, отлучаясь на шопинг и не проверяя сноровки приставленного персонала в смысле реакции на задымление и нештатные ситуации; покидают некормлеными и лишенными образования-общения в домах, при этом не забывая отлучаться в Сеть ради размещения анкет для знакомства с себе подобными «продвинутостями»; их оставляют свободными от педагогического устроения (идеология-де запрещена как насилие над индивидуальностью и ее комфортом) на высшем государственном уровне, зато подверженными неравнодушным катехизаторам в сетях и там же – престарелым педофилам, щедро оплачивающим танцульки с кривляньем на вебкэм. Пока одни дети едят с серебра и золота (будучи натаскиваемы на «лидеров» и «хозяев», лишенных «комплекса жертвы», столь же вынужденно прогрессивными предоставителями услуг и продавцами качеств, востребованных мамоной), – иные прозябают в нищете. Иногда на оную себя обрекают истинные герои вроде той на днях умершей вслед за мужем от опасного вируса матери тринадцати (!) детишек, отчасти приемных.
Вопрос, надо думать, не замедлит напроситься: кое бремя вины успели нажить малые сии или их более добросовестные родители, когда мрут и претерпевают невзгоды вперед прочих? Сослаться ли на (пусть неявно) ужасное время («строгое», как при обоих первых и нещадно порицаемых вождях в пору послевоенных, переходных лишений), списав качество среды на один из физико-биологических параметров «реальности», коей «никто не отменял»? Но ведь оная во многом рукотворна, а не только изначально тварна (если в последнее многие прогрессисты не веруют либо верят меньше всего того, что им подсказывают милые бесы и трогательные демоны, уютно баюкающие в сетях как идеальном эфире, то первое видеть им тем паче претит как манкирующим участникам).
Так что же там с подсудностью Бога? Вопрос, в самом деле, на грани и даже за гранью интеллектуально-нравственных приличий, но мы условились рисковать хотя бы в духовно-мысленных экспериментах (так сказать, «спириментах»). С одной стороны, градус сомнительности повыше, нежели с хулой или ропотом на качество среды. С другой же – отдает аналогией с позитивистской программой тестирования нарративов вполне приземленных: а именно, критерий проверяемости, верифицируемости, «фальсифицируемости» либо рефутабельности (отбрасываемости) при условии реплицируемости (воспроизводимости условий, технической доступности методов). Куда ни кинь, всюду клин: непроверяемо – худо; проверяемо (низвергаемо), и притом проверено с негативным вердиктом (так сказать, «мене, текель у-парсин») – тем хуже.
Но, видите ли, милостивые государи: Бог-то заплатил сполна за право быть выше подозрений, отдав самое дорогое и многоценное – Сына единородного или, ежели угодно вместить (приняв тринитарную перспективу хотя бы сугубо гипотетически), Самого Себя в жертву принеся. Чего не скажешь о прочих кандидатах в Абсолюты: богов всенаслаждающихся и всепривлекающих, даймонов всеведущих и всемогущих, просветленных и просветляющих беженцев от мира и неба, хладно-беспощадных колес возвращения, магий и подражательных гностик-синкретик-герметик-орфик-пифагореик…
И вот еще одна проблема, в подтверждение того, как круг познаваемого ширит непознанное: Любовь-то, она живая, требует познания приобщением, вмещением – Причастием, коли угодно. Но не обратно: жизнь ради жизни не обязательно ведет к любви как ее венцу, пределу смыслов. Пределу подчас затертому, смыслу – заезженному, ибо какие только самозванцы, иллюзионисты театра теней ни злоупотребили сей высокой нотой, «ища соблазнить, если возможно, и избранных».
Но если путь Бога по определению недоступен никому, подобный же ему путь героя – немногим (в т.ч. с поправкой на условия среды, недостаток оных либо отсутствие, но главным образом в меру неготовности терять-тратить за правду и любовь), то не крестный ли путь, обладая признаками последнего и сущностью первого, представляет необходимую достаточность для минования как наглой смерти, так и вольной гибели? Крест о вневедении – с готовностью ко всякому, вне предпочтений и сужений, кроме разве чуждого «рода» в смысле зла – не крест ли крестов? И не мост ли, что соделывает тождественным Новое и Ветхое – роднит с путями: Еноховым (ходи всегда пред Всевышним, не наследуя Адаму), Авраамовым (выйди из земли твоей, будь готов исполнить заповедь пожертвовать ценнейшим) и Моисеевым (выйди из земли изобилия и ищи другой, да не узришь искомого)?
Но и вневедение вне наиценнейшего, не являющегося собственностью либо свойством, – любви – лишено смысла, или всяко представляет холостую мену, непомерную цену. Имеется ли смысл или польза в отказе от сути Образа? Не лучше ли сохранять нечто бесценное, или внестоимостное, с чем расстаться не готов, даже отдав все – предположительно ради чего-то, а именно тождественного оному гипотетическому много-/вне-ценному? Иначе говоря, не должно ли вневедению быть нераздельно связанным с чем-то, тождественным отношению, притом высшему его полуспектру?
Самоответка? (Не о богине войны!)
Положим, с мытарствами невинных или достойных (казалось бы – чего угодно, кроме невзгод и прозябания) «проще»: адресовано в прочих книгах, так что не станем повторяться. Что же остается в сухом остатке, как не зияющая бездна неотвеченного? Смириться ли: одним – по теплохладности (комфорт позволяет определить и обусловить точку зрения точкой сидения: этакое с вывертами «noblesse oblige»! ), другим – эквилибристикой меж превратно толкуемым Писанием (смириться до тружения кесарю ближе мамонопоклонству со лжесвидетельным молчальничеством, а не до смерти крестной) и превратно-тенденциозно разумеемым Писанием (e.g. толстовство как сектантское иссечение обрывка цитаты блаженства, или лучшего-недолжного, из контекста: «не противься злому»)? Третьим же – блаженной улыбкой бодхисатвы обойти все вопросы, сославшись на бегство из среды (во избежание фаустовой преобразованщины и его же романтической неидеальности) как едва ли не единственный путь сойти с орбит худших, диверсифицировав опасности ценой дезертирства?
Предложим нечто более отрезвляющее в промежуточной перспективе – в этом лимбе раздумий и шеоле сценарной неопределенности. Гипотеза расхожая: дети могут-де пострадать по грехам родителей (шире: предков, всего народа в историческую и даже пост-адамическую эпоху человечества), ибо прямое-и-скорое наказание самим акторам может тех не вразумить, покуда все риски под личным контролем. Занятно, что с сим едва станут спорить большинство конфессий, хотя эскаписты-ориенталисты поспешат свести все к невзыскательно ненаблюдаемой карме-колесу. Но и этих, пожалуй, сможем удовлетворить обобщающим компромиссом (а лучще – разбудить совесть будящих и побуждающих недобудд-заочников), предложив индуктивное следствие из предыдущей теории: человек может, в бытность невинным, получить «обратку» (ведь мы нынче все артиллеристы, не так ли? так что и гадательным профилем антихриста из соловьевских «Трех бесед» нас не пронять; да и что он: старец ли прозорливый, Мессинг мессианский, каковым и мнил себя не без жертвенной готовности?) – квитанцию к оплате за то, что позволил себе «срезать», перебежав неотведенными местами-временами. Иными словами, став вновь ребенком невинным, расплатится за себя былого (как чадо – от себя-родителя) из предыдущей – о нет, не жизни, но стадии игры.
Но это в части «за что». Что ж до «для чего» (в аристотелевых терминах «энтелехии», что тотчас можно попытаться обобщить до tele: «цели», обратной каузальности, целесообразности вневедомому и изначально неисповедимому), то придется спекулировать в смысле содействия, комплементарности, синергии (положим, воли пасомого с волей Пастыря, Промыслом – хоть дао безличного, хоть самсары слепой и инэмотивной, хоть демиурга по творении безучастного, а хоть Бога как Любви и Полной Личности, об оной реализующейся).
Занятно и то, что сие греческое понятие предстает сродным семитскому tz-l («путь, связь/звено, спасение, молитва, сень, основа»), – биконсонантной основе, далее сужаемой до tz-l-m (ивр./арам. «целом, цлама»=образ), tz-l-b («цлива»=крест) и сродное более общее биконсонантное tz-b/tz-w (воля, повеление, заповедь, перст указующий), – в свою очередь лишь отдаленно напоминающие общее q-b (утеснение, сужение), частное триконсонантное q-b-l (конкретизация до цены, расплаты, векселя, вервия, пут и боли), h-b-l (безумие, нечестие, лукавство, суета, скверная мена и худший размен, противное цело-мудрию, пшик; с производными вроде nbl «дурень» и Иблис), что является крайним схлопыванием и удалением h-b-/h/ (любви как реализации h-b, – даяния, в противовес отъятию либо требованиям, зависимости), как и истока (посредством хофал/хафель-пород отглагольных) Славы, b-h.
Вот разве что Авель, братом убиенный… – с полным контролем со стороны второго и почти нулевым усмотрением для себя самого, – также стандартно ассоциируется с h-b-l: не то «облачком (обълъкъ/вълъкъ), дымкой», не то отрицанием любви, преступлением против нее. Но ведь «стал уроком», проповедью крайней-безмолвной и воплощением пути – образом и образцом, пусть и трагическим, – для всех принимающих решение в контексте ближнего, а не просто притчей либо метафорой страдательности, не так ли? Посему только ли жертвой мнить его? Впрочем, этак можно договориться и до «бесценных уроков», скажем, битвы при Дьеппе…
Послушайте. Во дворе, где живет наш Кондуит, обитает с некоторых пор некий кот по имени Енотовидненький – пуглив настолько, что, как ни корми его наш наблюдающий, а в руки все нейдет. Про лечение этого бедолаги и мечтать не приходится: ходит с окровавленным ухом, невыдранными клещами, нечесаной прежде великолепной шерсткой, будучи смертельно напуган и более не доверяя и не надеясь, боясь полюбить снова… Не этак ли и мы подчас: мрем со страху недеятельного, от неразумного недоверия Чадоводителю там, где требуется выбирать и идти, вовсе не оценивая меры риска – ни количественно, ни даже качественно, разве что соизмеряясь с родом пути и цены. «Сродно» ли, по Сковороде-Смиту? Дерзай со смирением! Довольствуясь вневедением…
/А/лете-исчисление
Итак: что, если всякое ведение (помимо лжи) имеет изнанку – цену? Мену подтвердят и алхимики фаустова чину, и вполне верные чтецы Писаний: «знание надмевает… многое ведение умножает скорбь». Притом, что там же порицается невежество, а не только «безумие» в каноническом смысле нечестия или, более общо и содержательно, противное любви-целомудрию.
Ведение может оплачиваться и непомерной, страшной ценой. (Как, возможно, постигли невольно не только Авель и живым ятый Енох, но и… исстрадавшийся Енотовидненький, угасшая Лара? Прежде же преселения в париниббану – или скорее Пакибытие-как-Полнобытность – несть ни полного просветления, ни самбоддхи, – ежели к авторитету иноверных обратить взор?) Не оттого ли сиры великие учителя, нестяжательны истинно творческие умы, одиноки постигающие и лишены прочих приобретений узревшие главное? как в притче о жемчужине?
В таком случае, вневедение можно (осторожно, с поправкой на неисповедимость последнего и цену его отрицания!) счесть необходимо-достаточным (возможно, и единственным) режимом либо уровнем освобождения от велемены – купли как таковой. Разумеется, лишь потенциально: все зависит от «качества» решений, принимаемых в «рамках» вневедения как доверия Горнему.
Рискуем и мы, мой читатель, отваживаясь приоткрыть завесу тайны нижеследующей: именно, кто и когда «дозревшим» предстает для жатвы – этого «личного конца света», Суда ли Светом, о дне-часе коего Един весть?..
Артемий Ладознь
Наглая (необъяснимая, внезапная) смерть, как и внешне вольная (притом прижизненная) гибель сами по себе представляют тайну тайн, особенно когда речь идет о страданиях детей, невинных, лучших. Но за ними может стоять некое обобщение, сулящее куда большую ясность. Имеют место и цена, и некая алгебра («мена»), в т.ч. в преломлении "/а/лете-исчисления», приоткрывающего общие паттерны в судьбах личностей и эпох. Но и знание цены сопряжено с ценой: простота автоморфна, хоть мыслима и свобода от мены.
ЭТЭ
Созерцая икономию сущего сверх наглой смерти, сквозь гибель вольную
Артемий Ладознь
© Артемий Ладознь, 2021
ISBN 978-5-0053-5702-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ЭТЭ. Созерцая икономию сущего сверх наглой смерти, сквозь гибель вольную
Памяти Игоря Колесника, коего не имел чести знать при жизни,
и с признательностью его маме Светлане, с которой также не был знаком
Круг суесмыслия? (Вместо предисловия)
Попробуем не томить и, сославшись на славного отца ОТО (хотел-де знать «лишь» Его мысли), без экивоков изложим список вопросов: в чем тайна лишений для достойных, страданий невинных, болезни близких, ухода любимых и смерти детей как апофеоза всего перечисленного? Гамбургский счет может и продолжиться, охватив и утрату любви, и «просто» наглую смерть, и прижизненную гибель. Но с сими-то, как ни странно, попроще будет (уж поверьте!) А вот вопрос вопросов – страдания и смерть видимо без вины и смысла, в том числе и прежде всего детей, – оставшись без покушения на ответ, может отвратить и от веры, и от надежды с любовью, а не то что – от смыслостарательства. Сюда же, тем самым, дилемма сопряженная: ведая сие, зачем рискует Тот, кто самым погружением вопрошателей в бездны отчаяния и неведения может их потерять? Затянем ли песнь о том, что не дается креста немогущему (т.е. прежде или вне талантов) как не долженствующему? Но и здесь балансируем на грани нарушения купли-велемены теми, кто самим фактом неизбывной, запредельной утраты возомнит себя свободными от условий и закона. Каких и какого? Обойдемся без ложных сужений: свету пущего не прольют…
Оно ведь, знаете, как бывает: «сегодня есть, а завтра нет». Почему нет, зачем НЕТ? А почто было-то, неблагодарныя, – не задавались вопросом? Сто раз вам угоди, единожды погоди, – лишь сымитировав промедление или бессмысленную неумолимость, – так вознегодуют, что и проклясть не побрезгуют.
Положим, Там этак не размышляют. (Кстати, любопытно: нам-то откуда сие ведомо? Но сейчас не об этом; впрочем, постойте: и об этом тоже, и именно об этом!) А как – кто знает? Кто воззрит на вещи сокровенные очами Творца, когда и малое помыслить лень, когда до ОТО (общей относительности теорейки) ручонки не доходят? Когда никому не приходит в голову осмеять автора невнятно-произвольного Ито-исчисления, зато Творцу только ленивый не предъявит: темновато-де изъясняетесь! (ежели всерьез принимать возможность какого-либо обращения к легковесно Отрицаемому).
Вот и Игорь – чем не «кейс» (этакая облегченная версия «казуса» или «causae» – дела в малом и более широком, сродни, пожалуй, деланию)? Родился, намотал без малого два цикла (по двенадцати лет, если на безрыбье цепляться хоть за какой-никакой опорный план метафизики в лице восточного, «солнечного» зодиака), да и преселился. Куда? Давайте пока без дерзких вопросов с места и резких переходов: и без того вот-вот рискуем в карьер да штопор жестокой благоглупости свалиться. Какой же? Да вот как водится: в детстве травму головы получил, серьезную травму – вот и все, что о парне известно; «аукнулось, небось?» За что, спросите опять прежде сроку, – зачем первое-то, дитяти безвинному? Ну, а развод родителей устроит пытливую инквизицию? Причем далее, как водится, поле для праздного толкования ввиду не то, что отсутствия – невозможности наличия или полноты информации. «Не говорят правды!..» А кто ж вам ее «скажет», когда правдушку добыть надобно? Вот и добывают в меру теплохладной охоты до чужих бед (пусть рукотворных): одни прикинут, что в разводе всегда «виноваты оба», другие – что не виноват никто, третьи – что брак нередко трещит, не выдержав испытаний, среди прочего, болезнью детей. Это ведь сказки все больше, будто невзгоды должны сплотить: возможно, и призваны; да кто ж призыв слышит по нынешним-то временам? Наконец, найдутся наиболее наблюдательные, что подметят: ребенок-то пострадал прежде крушения семейной ладьи, так что давайте-ка без анахронизмов, обратных причинностей!
Пожалуй. Но на что-то опираться придется, раз уж затеяли столь дерзкое плаванье чрез пучину неопределимого – труды столь же скоропалительные, сколь и скорбные, оправдываемые разве что вдруг сгустившейся извечностью проблемы да опасностью ничего не успеть чая лучших времен и совершенноведения. Пакибытия, иными словами?
Посему продолжим. Что еще известно об Игоре? Ведомо лишь о «полку» его – походе в «шоубиз», ранее именовавшийся куда как благозвучней: эстрадой. Решительно невозможно судить-рядить, отправился ли столицу покорять да трофей брать именно как артист или же просто вздумал обрасти актерским мастерством, до очарованья коего падки бывают и подлинные, бесхитростные души, скорее взыскующие (а ровно так и рекомендовал усопшего его духовник, избежавший колких бестактностей вроде причин и следствий, – ethorhoeae, кажущейся прочим катехизаторам всех мастей в порядке вещей и даже рвущейся в словесную проповедь ныне, когда мало кто способен мудро помолчать ввиду неведения, а хоть и глубины исследуемого).
Впрочем, не одно и то же – искать ли подобно Фаусту (как и его эндемичным воплощениям вроде Прохора Громова) или же, обходясь без лишних слов и пафоса служения, приобщаться жизни. Как проступит позже из канвы повествования (пардон, «нарратива» или даже «дискурса», чтоб стать на ступеньку ближе к эпохе пустых и подменных имен), первое свойственно скорее другому слою повествователей-испытателей (спешим заверить читателя: слойность будет «икономной», как и оправданной плотностью охвата): автору писем на зде-посягаемые темы. (Не обессудь, милосердный читатель, если о каждом следующем слое непосредственно известно все меньше, либо понимание добывается пущими трудами: о Проводнике – менее, нежели о Наблюдателе, об авторе – и того меньше; остается надеяться, что полнота в конце вознаградит ясностью). Куда пишет, зачем старается сыпать бисером перед теми, кому давно излишен, а притом выбирая стилистику инсолицитности – непрошенности как гостя, насилования лености ученика собственным назойливым присутствием, побуждением к вопрошанию в обход духовного темперамента и навязыванием глубинности ответов в манере, выставляющей серьезное суесловным святошничеством, напрашивающимся на скоморошничество? Но об этом, досадно пародирующем формы морализаторства совсем уж неглубоких, несколько позже. Да и озвучивать не придется: явит себя во всей спорной, агонизирующей красе. Впрочем, самым искательством (наедине с собой!) тая и выдавая что угодно, кроме фальши. Безумие, готовность рисковать (ибо все или многое, как попробуем показать, несет цену – или сопряжено с разменом), даже горделивое упоение тайнозрением словно тайноядением Страстной седмицей, – не без того! Но и здесь не стоит профанировать чужих грехов да обстояний, низводя до чего-то банального: как вот ту же гордыню неприятия меньшего – до тщеславного «хайпо-/суе-стяжательства» (уж скрестим смеху ради смеха же достойное).
А что же «именно» искал наш – условимся так его именовать – Наблюдатель? Но все дело в том, что и подобная конкретизация бывает едва уместной (что, между прочим, составляет едва ли не сумму его изысканий); во всяком случае, на некоторых уровнях или определенных этапах поиска: ближе к завершению – как и началу. Сей тип в одном из своих писем, кажется, и вскрывает единую основу и плавный переход меж начальной и завершающей фазами поиска. Так сказать, рождения и смерти и повтора этих перерождений, – хотя этим и исчерпывается его серьезное восприятие «арийского вечного возвращения» (эллинского, ведо-аведийского и ницшеанского). Разумеется, восприятие не изначальное, но обретенное самым поиском, изнутри процесса.
Что – не тот, во многом ложный вопрос, если только речь не идет об основаниях. И риск естественный, в смысле «структурной неопределенности», оттого и возникает ввиду не какой-то там «тривиальной» диофантовости, не просто наличия многих неизвестных, но отсутствия какого-либо изначального знания о таковых: сами переменные еще предстоит выяснить, и только в установлении или восстановлении их связей те перестанут быть химерами.
Но вернемся от промежуточных наблюдателей и проводников над ними (договорились ведь, что слои во многом заменят россыпь действующих лиц, притом упростив восстановление переходов-мостов, а не усложнив видение их природы) к производному пласту проблем. Если читатель потрудится воскресить в памяти хотя бы этот посул, то здесь объяснения обещали быть почти элементарными – этакими демонстрациями в одну строчку. Не верите? Взять хотя бы то, куда уходит любовь. Да туда примерно, откуда взялась: из «ниоткуда» возникла – так в «никуда» и отошла. Разве не справедливо, – если только над сохранением ее хрупкой жизни не потрудились? Воспринимайте ее в чистом виде как дар, аванс, чудо, наконец: не в самсаре воплощений и истаиваний дело, а в том же принципе относительности как обобщении «закона сохранения» (энергии, массы, импульса – чего угодно). Как можно требовать от пустоты вечно что-то порождать, притом надолго или навсегда?
Ну, разумеется, наука на то взбодрит вашу скуку, нагнав произволу пуще прежнего, требуя истовой веры ввиду недоказуемости: дескать, как из ничего возникла вселенная Большим взрывом, так пустота и на материю с антиматерией расщепляема (и соединяема – не без выделения фотонов: почти манихейская картинка). «Природа позаботилась… системы стремятся… муравьи соорганизуются… медведи чуют состав почвы…» А вот Творец, дескать, ничего подобного не может, а потому и не нужен, – а посему и не бывать ему, а ежели быть, то – как пустоте, ничто, совершенно неисследимой бездне, в крайнем случае – позднебуддийской шуньяте, притом самое бытность сия неотличима от небытия и неспособна стать истоком даже пустоты.
Ой ли? Такова религия, именуемая догмами и конвенциями «научного метода». Не оказавшись способной на сколь-нибудь стройную аксиоматизацию (не сочтете ведь примером таковой Стандартную модель с массой подгоночных сущностей и калибровочных параметров), нашла себя скачущей меж полярными крайностями парадоксов и сверхдогматичности, повторением и отсылами к тираничным авторитетам (адептам той же секты рефутистов неисследимого дна).
Поэтому он ищет… просто ищет. Больше правды обнаруживается в архетипах и артефактах сказок: отправься невесть куда, доставь незнамо что. Там, или хотя бы в процессе, задним числом, после факта свершения, видно будет – или отпадет надобность повторять вопросы (а не то чтобы – настаивать на куцых, фрагментарных ответах). Но ведь и обнаружение есть дар и чудо, и подобно всякому дару, должно… Впрочем, к дистрибутивности-перестановочности даров еще вернемся: кажется, промелькнет нечто среди его писем – или сквозь оные?
С влюбленностью и любовью тоже начали прояснять: хоть это даже не начало (и вернуться придется), этого достаточно в качестве кандидата на притязаемое «доказательство». Так что там с вопросом вопросов: детьми, наглой смертью поятыми? Отсылая к «отсам», наш Проводник-Кондуит (из тех, что, как нам представилось, над Наблюдателями) не без благостно-слащавой отстраненности заметил: чем, мол, не особый модус сохранности – скорбная печать сугубой избранности, которую трудно вместить и задним числом, хоть этак лишь и познаваема? (Под «отсами», – если миновать глумление над самозваными «отцами» различных форм влияния, – в американской англофони понимается не иное что, как 2000е, по недогляду низводя до нуля понятие «aught», нечто неопределяемо наличествующее, ввиду созвучия с nought. Очевидно сказываются издержки и эксцессы того же «научного» метода, едва ли претерпевшего изменения с инквизиторских времен да в бесплодном нетлении пребывшего сквозь реформации-контрреформации. А он предполагает как раз отсев излишне выдающихся образцов – что аномалий, что гения, что вообще outliers, портящих упрощенческую статистику примитивных паттерн-трендов, в содружестве эмпирицизма – большей важности наименее значимого, зато более яркого и наблюдаемого – с постмодерновым неверием: в стройные и красивые истории – нарративы и дискурсы, «хитрить их перемудрить!» – а равно и в великое, латентно-имплицитное, доселе неизреченное, как и Исток истоков, наконец. Веротерпимость, помимо родных догм, объемлет разве что эклектику и извне произвольно взятые гипотезы, пассивная или двойственная тестируемость коих поважнее их обоснованности или иных критериев совершенства будет. Учитывая, что и гуру Талеб теми же «отсами» предупреждал, попутно изобличая наследующих отцам платонизма-пифагореизма-орфик (одним словом, всего кроме стоико-скептицизма, близкого к ведо-аведизму), и самые «отсы» грянули небывалым кризисом, включая основания мамоноверия, позже прокатившись погромами дотоле незыблемых символов вроде отцов-основателей, – ан мало что вразумило строптивых чад, склонных к пересмотру чего угодно кроме собственной интеллектуальной лености.)
Ну, а к чему их «высокомодие» применил латинский штиль, остановившись на необязательном к определению «модусе» сохранности – не нам судить. Впрочем, как будет предложено, взглянуть на вещи глазами этих промежуточных авторов будет не менее надежно, нежели их потуги оценить самих себя проницанием сознания эпистолярных корреспондентов – как и не более дерзко, нежели вмыслиться-вчувствоваться в Творца уровнем неопределимо выше. (Всех исчислимых и сравнимых, как уговорились, упакуем в вертикаль наблюдаемых, наблюдателей и кондуитов – впрочем, саму по себе довольно аниерархичную и автоморфную: наблюдаемыми предстают все, одновременно тщась таковым соделать и Неизреченное, – иначе же отрицая оное.)
А тут еще куда-то запропастился тот трогательный пес – Псюня, как здесь кличут этого дворняжку, что пасется на храмовом подворье, то и дело воруя в шутку у детей игрушки летней порой, когда и самые сердобольные забывают угостить его хоть малой косточкой (куды в церковь да со скоромным-де переться: грех страшнее некуда, хуже разве что «мшелоимство», хоть и без «скверноприбытчества»). А весь остальной год о нем все забывают, и вовсе редко кого волнует, чем тот поддерживает силенки в стужу. Когда не то, что отоспаться – подремать удается разве днем да под ярким солнцем. Не теряя кротости и доверчивости, чая лета с его приветливыми захожанами подворья, словно оглашенные предстоящими вовне удобства ради (а в поветрие моровое – еще и страха для).
Никто не видал? Вот беда! Куда девался…
Неприметность мириад, бездна в каждой точке: паче статистики мортальности-морбидности
Зачем не стало Игоря? Расплатился, и тем не должен? Заплатил – значит, прежде задолжал? Понес крест по силам? Достоин был только этого, даже этого, разве что этого? Созрел плод, пусть не будучи наблюдаем, ни измеряем, ни смыслом поверяем, ни назиданием для внешних отличаем и, пожалуй, скорее соблазном богоосуждения и богоотрицания чреват? Разве не удободостижимо безумие подвержения суду самого Судьи, покуда не изволит доказать собственную подзаконность (скользкое «подсудность»: в греческом соседствует с «лицемерием», hypocrisis/-criseia), либо суверенную иммунность к таковой, а то и право поставлять закон, и обязанность – являть его неоспоримое совершенство, внутреннюю непротиворечивость, внешнюю безальтернативность (или, как в отдельных гипокритических экзегезах, поэтическую эстетику как якобы мерило мерил)?
Происходит именно немыслимое, попускаемо недопустимое. Дети умирают в военное время даже в относительно мирную пору (впрочем, именуемую в ориентальных традициях «эпохой брани», членения, аналитичности). Умирают за амбиции ничтожеств, по нерешительности достойных противостоять первым (то ли из ложного смирения, а то ли алчного страху ради). Гибнут бестолково в пожарах, будучи подвержены как апофеозу технического прогресса (масляным радиаторам-обогревателям при максимальной нагрузке на ветхие электросети, литий-ионовым элементам питания в гаджетах вроде самокатов-сигвеев да последних линеек смартфонов), так и родителям – этим жертвам прогресса же, что свято верят в непогрешимость соцсетей и «зелень» генерируемой из угля электроэнергии (разучившись не только лучины-лампады теплить, но даже постигать элементарные природные явления, коих и сам Бог не отменял). Их запирают в кинотеатрах при торговых центрах, отлучаясь на шопинг и не проверяя сноровки приставленного персонала в смысле реакции на задымление и нештатные ситуации; покидают некормлеными и лишенными образования-общения в домах, при этом не забывая отлучаться в Сеть ради размещения анкет для знакомства с себе подобными «продвинутостями»; их оставляют свободными от педагогического устроения (идеология-де запрещена как насилие над индивидуальностью и ее комфортом) на высшем государственном уровне, зато подверженными неравнодушным катехизаторам в сетях и там же – престарелым педофилам, щедро оплачивающим танцульки с кривляньем на вебкэм. Пока одни дети едят с серебра и золота (будучи натаскиваемы на «лидеров» и «хозяев», лишенных «комплекса жертвы», столь же вынужденно прогрессивными предоставителями услуг и продавцами качеств, востребованных мамоной), – иные прозябают в нищете. Иногда на оную себя обрекают истинные герои вроде той на днях умершей вслед за мужем от опасного вируса матери тринадцати (!) детишек, отчасти приемных.
Вопрос, надо думать, не замедлит напроситься: кое бремя вины успели нажить малые сии или их более добросовестные родители, когда мрут и претерпевают невзгоды вперед прочих? Сослаться ли на (пусть неявно) ужасное время («строгое», как при обоих первых и нещадно порицаемых вождях в пору послевоенных, переходных лишений), списав качество среды на один из физико-биологических параметров «реальности», коей «никто не отменял»? Но ведь оная во многом рукотворна, а не только изначально тварна (если в последнее многие прогрессисты не веруют либо верят меньше всего того, что им подсказывают милые бесы и трогательные демоны, уютно баюкающие в сетях как идеальном эфире, то первое видеть им тем паче претит как манкирующим участникам).
Так что же там с подсудностью Бога? Вопрос, в самом деле, на грани и даже за гранью интеллектуально-нравственных приличий, но мы условились рисковать хотя бы в духовно-мысленных экспериментах (так сказать, «спириментах»). С одной стороны, градус сомнительности повыше, нежели с хулой или ропотом на качество среды. С другой же – отдает аналогией с позитивистской программой тестирования нарративов вполне приземленных: а именно, критерий проверяемости, верифицируемости, «фальсифицируемости» либо рефутабельности (отбрасываемости) при условии реплицируемости (воспроизводимости условий, технической доступности методов). Куда ни кинь, всюду клин: непроверяемо – худо; проверяемо (низвергаемо), и притом проверено с негативным вердиктом (так сказать, «мене, текель у-парсин») – тем хуже.
Но, видите ли, милостивые государи: Бог-то заплатил сполна за право быть выше подозрений, отдав самое дорогое и многоценное – Сына единородного или, ежели угодно вместить (приняв тринитарную перспективу хотя бы сугубо гипотетически), Самого Себя в жертву принеся. Чего не скажешь о прочих кандидатах в Абсолюты: богов всенаслаждающихся и всепривлекающих, даймонов всеведущих и всемогущих, просветленных и просветляющих беженцев от мира и неба, хладно-беспощадных колес возвращения, магий и подражательных гностик-синкретик-герметик-орфик-пифагореик…
И вот еще одна проблема, в подтверждение того, как круг познаваемого ширит непознанное: Любовь-то, она живая, требует познания приобщением, вмещением – Причастием, коли угодно. Но не обратно: жизнь ради жизни не обязательно ведет к любви как ее венцу, пределу смыслов. Пределу подчас затертому, смыслу – заезженному, ибо какие только самозванцы, иллюзионисты театра теней ни злоупотребили сей высокой нотой, «ища соблазнить, если возможно, и избранных».
Но если путь Бога по определению недоступен никому, подобный же ему путь героя – немногим (в т.ч. с поправкой на условия среды, недостаток оных либо отсутствие, но главным образом в меру неготовности терять-тратить за правду и любовь), то не крестный ли путь, обладая признаками последнего и сущностью первого, представляет необходимую достаточность для минования как наглой смерти, так и вольной гибели? Крест о вневедении – с готовностью ко всякому, вне предпочтений и сужений, кроме разве чуждого «рода» в смысле зла – не крест ли крестов? И не мост ли, что соделывает тождественным Новое и Ветхое – роднит с путями: Еноховым (ходи всегда пред Всевышним, не наследуя Адаму), Авраамовым (выйди из земли твоей, будь готов исполнить заповедь пожертвовать ценнейшим) и Моисеевым (выйди из земли изобилия и ищи другой, да не узришь искомого)?
Но и вневедение вне наиценнейшего, не являющегося собственностью либо свойством, – любви – лишено смысла, или всяко представляет холостую мену, непомерную цену. Имеется ли смысл или польза в отказе от сути Образа? Не лучше ли сохранять нечто бесценное, или внестоимостное, с чем расстаться не готов, даже отдав все – предположительно ради чего-то, а именно тождественного оному гипотетическому много-/вне-ценному? Иначе говоря, не должно ли вневедению быть нераздельно связанным с чем-то, тождественным отношению, притом высшему его полуспектру?
Самоответка? (Не о богине войны!)
Положим, с мытарствами невинных или достойных (казалось бы – чего угодно, кроме невзгод и прозябания) «проще»: адресовано в прочих книгах, так что не станем повторяться. Что же остается в сухом остатке, как не зияющая бездна неотвеченного? Смириться ли: одним – по теплохладности (комфорт позволяет определить и обусловить точку зрения точкой сидения: этакое с вывертами «noblesse oblige»! ), другим – эквилибристикой меж превратно толкуемым Писанием (смириться до тружения кесарю ближе мамонопоклонству со лжесвидетельным молчальничеством, а не до смерти крестной) и превратно-тенденциозно разумеемым Писанием (e.g. толстовство как сектантское иссечение обрывка цитаты блаженства, или лучшего-недолжного, из контекста: «не противься злому»)? Третьим же – блаженной улыбкой бодхисатвы обойти все вопросы, сославшись на бегство из среды (во избежание фаустовой преобразованщины и его же романтической неидеальности) как едва ли не единственный путь сойти с орбит худших, диверсифицировав опасности ценой дезертирства?
Предложим нечто более отрезвляющее в промежуточной перспективе – в этом лимбе раздумий и шеоле сценарной неопределенности. Гипотеза расхожая: дети могут-де пострадать по грехам родителей (шире: предков, всего народа в историческую и даже пост-адамическую эпоху человечества), ибо прямое-и-скорое наказание самим акторам может тех не вразумить, покуда все риски под личным контролем. Занятно, что с сим едва станут спорить большинство конфессий, хотя эскаписты-ориенталисты поспешат свести все к невзыскательно ненаблюдаемой карме-колесу. Но и этих, пожалуй, сможем удовлетворить обобщающим компромиссом (а лучще – разбудить совесть будящих и побуждающих недобудд-заочников), предложив индуктивное следствие из предыдущей теории: человек может, в бытность невинным, получить «обратку» (ведь мы нынче все артиллеристы, не так ли? так что и гадательным профилем антихриста из соловьевских «Трех бесед» нас не пронять; да и что он: старец ли прозорливый, Мессинг мессианский, каковым и мнил себя не без жертвенной готовности?) – квитанцию к оплате за то, что позволил себе «срезать», перебежав неотведенными местами-временами. Иными словами, став вновь ребенком невинным, расплатится за себя былого (как чадо – от себя-родителя) из предыдущей – о нет, не жизни, но стадии игры.
Но это в части «за что». Что ж до «для чего» (в аристотелевых терминах «энтелехии», что тотчас можно попытаться обобщить до tele: «цели», обратной каузальности, целесообразности вневедомому и изначально неисповедимому), то придется спекулировать в смысле содействия, комплементарности, синергии (положим, воли пасомого с волей Пастыря, Промыслом – хоть дао безличного, хоть самсары слепой и инэмотивной, хоть демиурга по творении безучастного, а хоть Бога как Любви и Полной Личности, об оной реализующейся).
Занятно и то, что сие греческое понятие предстает сродным семитскому tz-l («путь, связь/звено, спасение, молитва, сень, основа»), – биконсонантной основе, далее сужаемой до tz-l-m (ивр./арам. «целом, цлама»=образ), tz-l-b («цлива»=крест) и сродное более общее биконсонантное tz-b/tz-w (воля, повеление, заповедь, перст указующий), – в свою очередь лишь отдаленно напоминающие общее q-b (утеснение, сужение), частное триконсонантное q-b-l (конкретизация до цены, расплаты, векселя, вервия, пут и боли), h-b-l (безумие, нечестие, лукавство, суета, скверная мена и худший размен, противное цело-мудрию, пшик; с производными вроде nbl «дурень» и Иблис), что является крайним схлопыванием и удалением h-b-/h/ (любви как реализации h-b, – даяния, в противовес отъятию либо требованиям, зависимости), как и истока (посредством хофал/хафель-пород отглагольных) Славы, b-h.
Вот разве что Авель, братом убиенный… – с полным контролем со стороны второго и почти нулевым усмотрением для себя самого, – также стандартно ассоциируется с h-b-l: не то «облачком (обълъкъ/вълъкъ), дымкой», не то отрицанием любви, преступлением против нее. Но ведь «стал уроком», проповедью крайней-безмолвной и воплощением пути – образом и образцом, пусть и трагическим, – для всех принимающих решение в контексте ближнего, а не просто притчей либо метафорой страдательности, не так ли? Посему только ли жертвой мнить его? Впрочем, этак можно договориться и до «бесценных уроков», скажем, битвы при Дьеппе…
Послушайте. Во дворе, где живет наш Кондуит, обитает с некоторых пор некий кот по имени Енотовидненький – пуглив настолько, что, как ни корми его наш наблюдающий, а в руки все нейдет. Про лечение этого бедолаги и мечтать не приходится: ходит с окровавленным ухом, невыдранными клещами, нечесаной прежде великолепной шерсткой, будучи смертельно напуган и более не доверяя и не надеясь, боясь полюбить снова… Не этак ли и мы подчас: мрем со страху недеятельного, от неразумного недоверия Чадоводителю там, где требуется выбирать и идти, вовсе не оценивая меры риска – ни количественно, ни даже качественно, разве что соизмеряясь с родом пути и цены. «Сродно» ли, по Сковороде-Смиту? Дерзай со смирением! Довольствуясь вневедением…
/А/лете-исчисление
Итак: что, если всякое ведение (помимо лжи) имеет изнанку – цену? Мену подтвердят и алхимики фаустова чину, и вполне верные чтецы Писаний: «знание надмевает… многое ведение умножает скорбь». Притом, что там же порицается невежество, а не только «безумие» в каноническом смысле нечестия или, более общо и содержательно, противное любви-целомудрию.
Ведение может оплачиваться и непомерной, страшной ценой. (Как, возможно, постигли невольно не только Авель и живым ятый Енох, но и… исстрадавшийся Енотовидненький, угасшая Лара? Прежде же преселения в париниббану – или скорее Пакибытие-как-Полнобытность – несть ни полного просветления, ни самбоддхи, – ежели к авторитету иноверных обратить взор?) Не оттого ли сиры великие учителя, нестяжательны истинно творческие умы, одиноки постигающие и лишены прочих приобретений узревшие главное? как в притче о жемчужине?
В таком случае, вневедение можно (осторожно, с поправкой на неисповедимость последнего и цену его отрицания!) счесть необходимо-достаточным (возможно, и единственным) режимом либо уровнем освобождения от велемены – купли как таковой. Разумеется, лишь потенциально: все зависит от «качества» решений, принимаемых в «рамках» вневедения как доверия Горнему.
Рискуем и мы, мой читатель, отваживаясь приоткрыть завесу тайны нижеследующей: именно, кто и когда «дозревшим» предстает для жатвы – этого «личного конца света», Суда ли Светом, о дне-часе коего Един весть?..