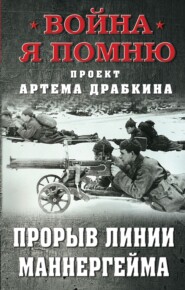По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Десантники
Жанр
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Десантники
Артем Владимирович Драбкин
Война. Я помню. Проект Артема Драбкина
История российских воздушно-десантных войск началась задолго до 50-х годов, когда они получили почетное прозвище «войска дяди Васи». Советские десантники проводили успешные операции в тылу врага еще во время Финской войны. Контрнаступление под Москвой, Вяземская воздушно-десантная операция, форсирование Днепра – на фронтах Великой Отечественной войны десант часто был впереди остальных. Об опасных заданиях за линией фронта, о разведывательно-диверсионных операциях из которых возвращались не многие, десантники рассказывают на страницах очередной книги исторического проекта Артема Драбкина – «Я помню» (www.iremember.ru).
Артем Драбкин
Десантники
© Драбкин А.В., 2020
© ООО «Яуза-Каталог», 2020
Лихтерман Матвей Цодикович
Родился я в ноябре 1921 года в поселке Шумячи Смоленской области. Детство мое прошло в городе Рославль там же, на Смоленщине. Закончив десять классов, работал на заводе. Летом 1940 года прошел отборочную комиссию в военкомате и был направлен в составе группы из одиннадцати человек на поступление в Ленинградское авиационно-техническое училище, дислоцированное в Сестрорецке. Приезжаем, помню, в ЛАТУ, а у нас даже не принимают документы. Конкурс на каждое место огромный, приехало поступать больше четырех тысяч человек со всей страны. Тогда все мечтали служить в авиации. Нам говорят: «Хотите – поезжайте в Иркутск, там такое же училище, и экзамены – через две недели. Может, в Иркутске ваши документы примут». Негласный «вождь» нашей группы, мой двоюродный брат Миша Добкин, сказал: «В Сибирь мы всегда успеем». Когда поехали домой, Мишка все сокрушался о том, что не успели посмотреть Ленинград. Ничего, через год Мишка попал под Ленинград в бригаду морской пехоты. После войны я спросил его: «Ну, успел Ленинград поглядеть?» Отвечает: «Целых четыре раза, и все – из окна госпиталя…» Четыре раза Мишку ранило на войне.
Вернулся я на завод, а уже в марте 1941 года меня призвали на действительную службу в РККА. Почти всех рославльских призывников отправили служить в Литву, а я очутился в части, расположенной в Средней Азии, в восьми километрах от Самарканда. Это был Краснознаменный кавалерийский полк, преобразованный в мотострелковую дивизию. Тогда всех лошадей отправили в кавкорпуса на Украину. Я еще застал старослужащих кадровиков из бывших кавалеристов. Определили меня в артполк, на должность наводчика сорокапятимиллиметрового орудия.
Насколько кадровая служба была тяжелой? Вообще, как относились в вашей части к новобранцам?
Нормальной была служба. Встретили новобранцев очень хорошо. На батарее служило двое «стариков» из могилевских евреев, был помкомвзвода – белорус Якименко.
А смоленские и белорусские всегда считались почти земляками. Вообще, всех новичков у нас принимали с доброй душой. Я сразу подружился с грузином Думбадзе. Он меня учил петь песни на грузинском языке. Все новобранцы были сыты, обуты, одеты. Что нам было еще тогда надо? Сама служба была нелегкой. Жара, Азия, пока привыкнешь… Помню, как каждое утро нас приводили к речке Даргом, стекавшей с гор. Через реку были натянуты тросы. Так мы были обязаны, держась за эти тросы, находиться в ледяной воде пятнадцать минут. Закаляли нас, одним словом. Пить нам давали мало: флягу – на день. Зато все время кормили соленой рыбой. Пилоток не было, ходили в панамах защитного цвета. Пить воду из арыков нам запрещалось, говорили: мол, сразу и холеру, и дизентерию подхватите. Первые два месяца службы мы учили матчасть пушки и проходили учебный полевой курс новобранца. Стрельбу боевыми снарядами мы проходили только один раз, уже в начале июня.
Вы ощущали приближение войны?
Нам, служившим в Азии, все время говорили, что будет война с Турцией. А друзья мои, служившие в Литве, еще в мае сорок первого присылали письма из Литвы, и все, как один, писали: «Матвей! Скоро – война с немцами! Не поминай лихом, прощай, если что…» Все они погибли в Прибалтике в сорок первом году.
День начала войны помните?
На 22 июня 1941 года была назначена наша присяга. Мы ждали шефов. Вдруг поступает приказ: «Все – на плац, на митинг!» Вышел командир нашей части, немец, полковник Гейцах, отмеченный двумя орденами Красного Знамени за борьбу с басмачеством. Помню его слова: «Красноармейцы, сыны мои! Мы – краснознаменная часть, и я буду требовать от командования округом немедленной нашей отправки на фронт! Разобьем фашистскую гадину! Ура!!!!!» Неделю мы получали автотехнику, машины ГАЗ, мобилизованные с гражданских предприятий. Орудия наши были на автомобильной тяге.
29 июня нас погрузили в эшелоны и отправили на фронт. Выдали нам НЗ на три дня: вобла, по четыре сухаря, банка говядины на троих и пачка чая. На станциях вдоль железнодорожного полотна стояли старушки и плакали, голосили нам вслед: «Дети, куда вы едете?! Вы же такие молоденькие? Вас же всех поу-бивают!»…10 июля 1941 года разгрузились в Брянске и сразу – в бой под Ельню.
Про летние бои сорок первого года расскажете? Многие ветераны не хотят о них вспоминать.
Все, что творилось под Ельней в июле 1941 года, можно охарактеризовать одним коротким словом – мясорубка… Перед первым боем нам объявили: «Немцы высадили парашютный десант, их мало, покажем немцам «кузькину мать»! А на нас пошли танки!… Все время нас гоняли по лесам взад-вперед. Тянем орудия на лямках, занимаем позиции. Немцев не видим, куда-то стреляем, а через час получаем новый, еще более бестолковый приказ. Бой кончается, кто живой – того сразу перебрасывают на новое место. В конце июля мы уже стреляли только с открытых позиций. В июле у нас была страшная жара, пить хотелось смертельно, а рядом с нами не оказалось ни ручейка, ни речки. За три недели боев мы ни разу не видели полевой кухни. Что сам найдешь, тем и питаешься. Потери наши были просто невыносимыми. Трупы никто не хоронил. Тела убитых складывали в «стоги», клали по пять – семь тел, одно на другое. «Стоги» шли рядами, через каждые двадцать – тридцать метров, и мы даже не пытались считать эти «горы» – так их было много, чуть ли не до края горизонта… Поскольку трупы разлагались, вонь стояла дикая. И каждый день немцы нас все бомбят и бомбят! Буквально не было спасения от немецких самолетов. Мы рыли «ровики», щели, а толк от них все равно был небольшой. Зенитчиков своих мы проклинали. Мазилы! Хоть бы одного немца-бомбера завалили. Так нет! Наши ТБ-3, идущие на бомбежку, немецкие зенитчики сбивали с третьего снаряда. Это я лично видел несколько раз.
Политрук батареи придет ночью и говорит: «Приказ генерала Жукова! Ни шагу назад!» А мы даже не знаем, где вообще находимся, что происходит слева и справа. Ведь телефонная связь была перебита. Какая тут к черту корректировка огня?!
Через три недели от двух батарей осталось одно орудие и девять человек, из нашего взвода – только Якименко и я. Представляете, какие мы несли потери в стрелковых ротах, если из артиллеристов в строю оставалось девять из семидесяти человек… Занимаем огневую позицию. Разрывные пули только по щитку орудия щелкают… Снарядов у нас было всего четыре ящика. Слышу крик: «Танки!» Стрельба из «сорокопятки» ведется с колен. Я приподнялся взглянуть на поле боя. Вдруг я чувствую удар в грудь с правой стороны. На меня летят осколки от танкового снаряда. А я, оказывается, даже разрыва не услышал… Ребята перевязали. До санбата я умудрился дойти сам. Меня прооперировали и отправили в госпиталь в Тульскую область, на станцию Черепец. Госпиталь разместили в бывшем санатории.
Там же произошел один случай, который я не могу забыть до сих пор. Палаты были большие и рассчитывались на сорок раненых. На стене висела «тарелка» репродуктора. По этому радио я услышал рассказ Левитана о немецких зверствах на оккупированной территории. Речь шла о том, что немцы привязывают евреев к танкам, потом те разъезжаются в разные стороны и тела несчастных разрываются на куски. Вдруг в палате раздается смех многих людей и возгласы с разных сторон: «Молодцы немцы, как жидов кончают!» У меня от этого внутри все окаменело. До той минуты я был пламенным патриотом, фанатиком, а тут… Лежал и думал, как я буду воевать рядом с такими людьми!???! Да люди ли они?..
Через две недели меня погрузили в санитарный поезд и привезли в госпиталь в Аткарск. Лежал я там еще два месяца. Выписав из госпиталя, мне дали отпуск на полтора месяца на долечивание и «литерные» документы на проезд по железной дороге в любое направление. А куда было ехать? Я понятия не имел о том, где находится моя семья. Пришел на станцию… И Бог помог мне. Окликает меня какой-то железнодорожник: «Солдат, ты случайно в Рославле на заводе не работал?» Оказался мой земляк, эвакуированный с вагоно-ремонтным заводом в Аткарск. Тогда он мне и говорит: «Многие рославльские в Тамбов эвакуировались. Поезжай туда, поищи своих». До Тамбова я добирался долго и мучительно. Пришел в Тамбове в эвакопункт, посмотрел книги записи эвакуированных, но не встретил ни одной знакомой фамилии. Мне дают совет: поезжай в Кирсанов, там вроде какая-то артель из Рославля находится.
И точно, в Кирсанове я нашел артель «Борьба». У них находилось письмо от моего младшего брата, который разыскивал нашего дядю. В нем же указывался обратный адрес – село Верхотуры, Воскресенский район, Башкирия. Однако добирался я до своих несколько долгих месяцев. Зима, на улице стоят лютые морозы, а я еду на «товарняках» да угольных платформах в одной «шинельке»… Как я не замерз насмерть в эти дни, до сих пор удивляюсь!
Когда я доехал до Челябинска, мне вдруг стало плохо: ходить не могу, ноги опухли, дышать трудно, в груди – боль, как будто раскаленное железо внутри. Меня снова привезли в госпиталь. И оказалось, что у меня открылась рана. Мне откачали гной и воду из легкого. Затем отпустили из госпиталя. Так я доехал до Орска. Но там – та же история. Снова врачи кромсают мне раненое легкое, опять – гной, дренаж. Температура «зашкаливает» за сорок. Врачи уже ждали, когда я помру. В то время антибиотиков еще не было. Но я выкарабкался… Медицинская комиссия признала меня негодным к воинской службе сроком на один год с обязательным переосвидетельствованием раз в три месяца. Я доехал до Ишимбаева. До села в котором жили родители, оставалось сорок километров, и опять – та же история. Вышел я из больницы 8 марта. Приехал в Верхотуры. Спрашиваю у местных: «Где тут Лихтерманы живут?» А мне в ответ рассказывают о том, что моя семья жутко голодает. Придя домой, начал я слесарить, чтобы семью прокормить.
Затем моего младшего брата Иосифа призвали в армию и направили в Стерлитамакское пехотное военное училище. Вскоре училище отправили на фронт в полном составе под Сталинград. Там брата тяжело ранило, и он вернулся домой только в 1943 году с ампутированными ступнями ног… В июле сорок второго года меня вызвали в Уфу на гарнизонную медкомиссию. Никто из врачей меня даже не осматривал. Посмотрели госпитальные справки и сказали: «Сожалеем, но мы отменяем прежнее решение о вашей «комиссовке». Вы признаетесь годным к службе без ограничений». И несут какую-то чушь о том, что, мол, понимаешь, армия нуждается в солдатах, что на фронте тяжелое положение… Будто я сам этого не знаю! И сразу дают в руки направление в военкомат. Спорить я с ними не стал, только заметил вслух: «Я думал, меня на врачебную комиссию позвали, а, как выясняется, тут политруки сидят, а не доктора». Они в ответ только молчат… Прихожу на комиссию в военкомат. Там меня спрашивают: «Кем хочешь воевать? Ты – раненый фронтовик, кадровый солдат, с образованием, даем тебе право выбрать…» Отвечаю: «Я – наводчик сорокапятимиллиметрового орудия. А вообще, мне – все равно, куда пошлете». Мне действительно было все равно. После Ельни я стал фаталистом, знал, что никто не уйдет от своей судьбы. Тогда они у меня интересуются: «В пулеметно-стрелковое училище пойдешь? Мы тут команды формируем в Тюмень и в Арзамас. На артучилище нет разнарядки». «Давай в пулеметное», – говорю им… Тогда они дают мне повестку с таким содержанием: прибыть с вещами через две недели…После этого я простился с родителями. Я был уверен, что живым домой не вернусь.
Через две недели я приехал в Уфу. Из сотни ожидавших отправки будущих курсантов отобрали человек тридцать. Нас посадили на пароход. Проплыли мы девяносто километров по реке Белой и оказались в Бирске, старинном купеческом городе. Там располагалось ЛУВНОС – Ленинградское училище воздушного наблюдения, оповещения и связи…
Первый раз слышу о подобном училище. Расскажите о нем подробнее.
Я тоже не имел ни малейшего представления о подобном училище, хоть оно и не считалось засекреченным, как, например, училище разведки в Ленинграде до войны. Училище готовило командиров ВНОС для войск ПВО страны. Оно предназначалось не для зенитчиков, стоящих рядом с передовой, а для частей, прикрывающих воздушное пространство над крупными промышленными объектами и городами в армиях ПВО. Шанс попасть из этого училища на передовую был весьма невысок. И атмосфера там была соответствующей… Училось немало генеральских «деток», которых папы сунули в это училище для того, чтобы переждать военное лихолетье. Особняком держалась большая группа бывших студентов Московского нефтяного института имени Губкина… Особой дружбы между курсантами не было. Училище было небольшим – в нем училось всего около тысячи курсантов. Но официально мы были поделены на четыре батальона. Большая часть преподавателей состояла из бывших инженеров Ленинградского электролампового завода. Они постоянно подчеркивали исключительность нашей будущей специальности. И когда уже все военные училища из Поволжья были брошены в пехоту под Сталинград, мы продолжали учиться. Нас поберегли. Подготовили нас в профессиональном плане великолепно. Я научился работать на всех видах радиостанций, но, что самое необычное, – нас обучали работать на первых отечественных радарах РУС-2- «радиоулавливатель самолетов» (слово радар тогда еще не употребляли) и на канадских ленд- лизовских радарах CON-2.
За несколько недель до выпуска из училища, нас семнадцать человек, вызвали по списку в штаб. Там нам сообщили, что мы выпускаемся из училища в звании сержантов и наша группа отправляется в распоряжение ГУС КА – Главного управления связи Красной армии. Так что в офицерских погонах тогда походить мне не пришлось. Однако я по этому поводу не переживал. Кто попал в эту команду, спрашиваете? Тех, у кого фамилия на «ман» заканчивалась, оказалось три человека, остальные, как я понял, были ребята с «подмоченными» анкетами. Возможно, что я ошибаюсь по этому поводу… Прибыли мы в Москву, в ГУС. Нас выстроили в одну шеренгу. Вышел к нам какой-то полковник. Ему докладывает адъютант: «Радисты для десанта прибыли!» Так, мы впервые узнали, что наша воинская дорога ведет нас в десантные войска. Впрочем, с этих слов мы сразу не поняли, о каком десанте речь – о воздушно-десантной бригаде или о диверсантах… Полковник рявкнул что-то бодрое. Вроде это были какие-то дежурные слова: Родина, доверие, партия, не посрамим, не пощадим, «бу-бу-бу» и т. д. и т. п. После этого он нам объявляет: «Вы направляетесь на формирование 3-й воздушно-десантной бригады в город Фрязино». Выходим мы из здания и все сразу на небо смотрим: наше будущее «поле боя», как мы оттуда падать будем?
Как в вашей группе отреагировали на распределение в ВДВ?
По-разному. Кто-то обрадовался, кто-то заматерился: мол, не хочу идти в парашютисты-диверсанты. Но никаких истерик по этому поводу ни у кого не было. Надо – так надо.
Ваша 3-я ВДБр вместе с частью 5-й ВДБр приняла участие в знаменитом и трагическом Днепровском воздушном десанте. Я попрошу Вас максимально подробно рассказать о подготовке десантников бригады и о самом десанте. Ведь фактически нет информации непосредственно от участников десанта. Небольшие заметки десантников Неживенко, Жукова, Муктаева, Улько, Мигдалевича, очерки о Героях Советского Союза, комбатах: майоре Блувштейне, капитане Петросяне, капитане Воронине, статья о комбриге 5-й ВДБр Сидорчуке, и одна страница в книге воспоминаний недавно ушедшего из жизни участника десанта всемирно знаменитого кинорежиссера Григория Наумовича Чухрая. Даже в фундаментальном труде «ВДВ в годы ВМВ» все острые углы, связанные с судьбой десанта изящно сглажены.
Я взял воспоминания летчика из полка, проводившего высадку десанта, но там один лейтмотив – «мы не виноваты»… Воздушных десантов в годы ВМВ было высажено нашими войсками не так уж и много, но даже неудача Вяземского десанта меркнет на фоне трагедии днепровских десантников.
Сразу хочу заметить по поводу подготовки десантников. Я попал служить начальником радиостанции в отдельный противотанковый дивизион бригады и наша подготовка отличалась от подготовки в простых десантных батальонах. Поэтому я не могу сказать, что информация которой я обладаю в этом вопросе, является полной. В отдельном артдивизионе служило сто восемьдесят человек, на вооружении были пушки 45-мм «Прощай Родина». По сути дела, мы являлись «независимым государством».
Ладно, давайте начнем.
Мы прибыли на формировку в феврале 1943 года. Мне трудно сказать, проводился ли какой-то особый отбор в бригаду. К нам прибыли сотни курсантов из Томского пехотного училища и Ишимского пулеметного училища. Рота ПТР, например, в большинстве своем состояла из кадровых дальневосточников. Все ребята в ней были богатыри, под два метра ростом. Они таскали тяжеленное ружье ПТР как пушинку. Прибыли к нам и направленные сразу из военкоматов комсомольцы-добровольцы, еще не принимавшие присяги. Почти все десантники находились в возрасте восемнадцати – двадцати двух лет. У нас было всего несколько тридцатилетних солдат.
Самое странное, что среди нас встречалось очень мало людей с фронтовым опытом или тех, кто был направлен в десант после лечения в госпиталях. Инструктора ПДС – не в счет. Не было среди нас и участников Вяземского десанта. Оказались считаные единицы людей, воевавших в пехоте в дивизиях ВДВ на Дону и в бригадах под Киевом. Так что передать нам опыт прошлых десантов с предельной честностью, по сути дела, оказалось некому.
Национальный состав бригады представлял в широком диапазоне весь Советский Союз: русские, украинцы, казахи, армяне, татары, грузины и так далее. У нас даже имелся свой грузинский самодеятельный хор. Было непропорционально много евреев. Попали к нам и ребята, призванные из Средней Азии, которые хорошо владели русским языком.
Уже через две недели после прибытия в бригаду начались прыжки с парашютной вышки в Мытищах. Параллельно мы изучали подвесную систему парашюта. Прошло еще две недели, и уже в районе Медвежьих Озер начались прыжки с аэростата. В корзину аэростата сажали инструктора, и трех десантников тросами поднимали на высоту 1200 метров… и, как говорят, – «пошел!». Так прошел еще один месяц, и у нас начались прыжки с ТБ-3 с разных высот.
Народу много разбилось на учениях?
Кладбище мы за собой оставили большое. Было три крупных трагедии во время подготовки десанта. В ТБ-3 «набивали» для прыжков до 50 человек. Когда первый раз отрабатывали ночное десантирование на лес. Многие угробились и многие покалечились. Один раз, кажется, в 3-м батальоне, по ошибке сбросили часть ребят в воду широкого озера. Все они потонули.
Еще у нас случилась неудачная выброска при шквальном ветре в соседней бригаде. Об этой неудаче я не могу рассказывать, так как не помню точных деталей этого происшествия, и зря не хочу что-то сообщать. Как потом шептались – летчиков за этот сброс просто расстреляли по приговору трибунала. Но так ли это было на самом деле и что там конкретно произошло, я не вспомню уже сейчас…
Да и на простых тренировочных прыжках часто бились. Стропы у ребят путались… Все тренировочные прыжки совершались с основным и запасным парашютом. Но хочу заметить, что парашютно-десантная подготовка в бригаде была поставлена хорошо и грамотно. Инструктора во главе с Белоцерковским оказались суперпрофессионалами. Чтобы избавить нас от страха прыжка, они постоянно демонстрировали нам какие-то сложные, чуть ли не акробатические прыжки. Парашюты-то ведь у нас были не только с принудительным раскрытием. Дошло до того, что в самолет рядом с будущими десантниками садились врачихи с бригадного санбата и прыгали вниз, держа в руках букетик цветов и тем самым показывая нам пример. Вы же знаете мужскую психологию: «как это баба прыгнула, а я не смогу?!»
Как поступали с «отказчиками»? Какая прыжковая «норма» существовала?
Всех «отказчиков» на формировке без долгих разбирательств отправляли в штрафные роты.
Понимаете, не все бойцы хотели быть десантниками. Находились и такие, некоторые предпочитали скорее смерть на земле в пехотном бою, чем красоваться мертвым со значком парашютиста на гимнастерке.
Я помню первый прыжок с аэростата. Лебедки подняли «корзину». Первым должен был прыгать здоровенный мужик, лет тридцати пяти. Инструктор дает команду: «Пошел!». Мужик оцепенел от страха, руками за край «корзины» вцепился, лицо – белое как стена. Инструктор орет: «Не прыгнешь, в штрафную пойдешь!» Солдат окаменел. И вдруг щупленький инструктор каким-то резким движением выкидывает солдата через дверцу «корзины».
Мы сразу поняли, что с нами шутить не будут.
Артем Владимирович Драбкин
Война. Я помню. Проект Артема Драбкина
История российских воздушно-десантных войск началась задолго до 50-х годов, когда они получили почетное прозвище «войска дяди Васи». Советские десантники проводили успешные операции в тылу врага еще во время Финской войны. Контрнаступление под Москвой, Вяземская воздушно-десантная операция, форсирование Днепра – на фронтах Великой Отечественной войны десант часто был впереди остальных. Об опасных заданиях за линией фронта, о разведывательно-диверсионных операциях из которых возвращались не многие, десантники рассказывают на страницах очередной книги исторического проекта Артема Драбкина – «Я помню» (www.iremember.ru).
Артем Драбкин
Десантники
© Драбкин А.В., 2020
© ООО «Яуза-Каталог», 2020
Лихтерман Матвей Цодикович
Родился я в ноябре 1921 года в поселке Шумячи Смоленской области. Детство мое прошло в городе Рославль там же, на Смоленщине. Закончив десять классов, работал на заводе. Летом 1940 года прошел отборочную комиссию в военкомате и был направлен в составе группы из одиннадцати человек на поступление в Ленинградское авиационно-техническое училище, дислоцированное в Сестрорецке. Приезжаем, помню, в ЛАТУ, а у нас даже не принимают документы. Конкурс на каждое место огромный, приехало поступать больше четырех тысяч человек со всей страны. Тогда все мечтали служить в авиации. Нам говорят: «Хотите – поезжайте в Иркутск, там такое же училище, и экзамены – через две недели. Может, в Иркутске ваши документы примут». Негласный «вождь» нашей группы, мой двоюродный брат Миша Добкин, сказал: «В Сибирь мы всегда успеем». Когда поехали домой, Мишка все сокрушался о том, что не успели посмотреть Ленинград. Ничего, через год Мишка попал под Ленинград в бригаду морской пехоты. После войны я спросил его: «Ну, успел Ленинград поглядеть?» Отвечает: «Целых четыре раза, и все – из окна госпиталя…» Четыре раза Мишку ранило на войне.
Вернулся я на завод, а уже в марте 1941 года меня призвали на действительную службу в РККА. Почти всех рославльских призывников отправили служить в Литву, а я очутился в части, расположенной в Средней Азии, в восьми километрах от Самарканда. Это был Краснознаменный кавалерийский полк, преобразованный в мотострелковую дивизию. Тогда всех лошадей отправили в кавкорпуса на Украину. Я еще застал старослужащих кадровиков из бывших кавалеристов. Определили меня в артполк, на должность наводчика сорокапятимиллиметрового орудия.
Насколько кадровая служба была тяжелой? Вообще, как относились в вашей части к новобранцам?
Нормальной была служба. Встретили новобранцев очень хорошо. На батарее служило двое «стариков» из могилевских евреев, был помкомвзвода – белорус Якименко.
А смоленские и белорусские всегда считались почти земляками. Вообще, всех новичков у нас принимали с доброй душой. Я сразу подружился с грузином Думбадзе. Он меня учил петь песни на грузинском языке. Все новобранцы были сыты, обуты, одеты. Что нам было еще тогда надо? Сама служба была нелегкой. Жара, Азия, пока привыкнешь… Помню, как каждое утро нас приводили к речке Даргом, стекавшей с гор. Через реку были натянуты тросы. Так мы были обязаны, держась за эти тросы, находиться в ледяной воде пятнадцать минут. Закаляли нас, одним словом. Пить нам давали мало: флягу – на день. Зато все время кормили соленой рыбой. Пилоток не было, ходили в панамах защитного цвета. Пить воду из арыков нам запрещалось, говорили: мол, сразу и холеру, и дизентерию подхватите. Первые два месяца службы мы учили матчасть пушки и проходили учебный полевой курс новобранца. Стрельбу боевыми снарядами мы проходили только один раз, уже в начале июня.
Вы ощущали приближение войны?
Нам, служившим в Азии, все время говорили, что будет война с Турцией. А друзья мои, служившие в Литве, еще в мае сорок первого присылали письма из Литвы, и все, как один, писали: «Матвей! Скоро – война с немцами! Не поминай лихом, прощай, если что…» Все они погибли в Прибалтике в сорок первом году.
День начала войны помните?
На 22 июня 1941 года была назначена наша присяга. Мы ждали шефов. Вдруг поступает приказ: «Все – на плац, на митинг!» Вышел командир нашей части, немец, полковник Гейцах, отмеченный двумя орденами Красного Знамени за борьбу с басмачеством. Помню его слова: «Красноармейцы, сыны мои! Мы – краснознаменная часть, и я буду требовать от командования округом немедленной нашей отправки на фронт! Разобьем фашистскую гадину! Ура!!!!!» Неделю мы получали автотехнику, машины ГАЗ, мобилизованные с гражданских предприятий. Орудия наши были на автомобильной тяге.
29 июня нас погрузили в эшелоны и отправили на фронт. Выдали нам НЗ на три дня: вобла, по четыре сухаря, банка говядины на троих и пачка чая. На станциях вдоль железнодорожного полотна стояли старушки и плакали, голосили нам вслед: «Дети, куда вы едете?! Вы же такие молоденькие? Вас же всех поу-бивают!»…10 июля 1941 года разгрузились в Брянске и сразу – в бой под Ельню.
Про летние бои сорок первого года расскажете? Многие ветераны не хотят о них вспоминать.
Все, что творилось под Ельней в июле 1941 года, можно охарактеризовать одним коротким словом – мясорубка… Перед первым боем нам объявили: «Немцы высадили парашютный десант, их мало, покажем немцам «кузькину мать»! А на нас пошли танки!… Все время нас гоняли по лесам взад-вперед. Тянем орудия на лямках, занимаем позиции. Немцев не видим, куда-то стреляем, а через час получаем новый, еще более бестолковый приказ. Бой кончается, кто живой – того сразу перебрасывают на новое место. В конце июля мы уже стреляли только с открытых позиций. В июле у нас была страшная жара, пить хотелось смертельно, а рядом с нами не оказалось ни ручейка, ни речки. За три недели боев мы ни разу не видели полевой кухни. Что сам найдешь, тем и питаешься. Потери наши были просто невыносимыми. Трупы никто не хоронил. Тела убитых складывали в «стоги», клали по пять – семь тел, одно на другое. «Стоги» шли рядами, через каждые двадцать – тридцать метров, и мы даже не пытались считать эти «горы» – так их было много, чуть ли не до края горизонта… Поскольку трупы разлагались, вонь стояла дикая. И каждый день немцы нас все бомбят и бомбят! Буквально не было спасения от немецких самолетов. Мы рыли «ровики», щели, а толк от них все равно был небольшой. Зенитчиков своих мы проклинали. Мазилы! Хоть бы одного немца-бомбера завалили. Так нет! Наши ТБ-3, идущие на бомбежку, немецкие зенитчики сбивали с третьего снаряда. Это я лично видел несколько раз.
Политрук батареи придет ночью и говорит: «Приказ генерала Жукова! Ни шагу назад!» А мы даже не знаем, где вообще находимся, что происходит слева и справа. Ведь телефонная связь была перебита. Какая тут к черту корректировка огня?!
Через три недели от двух батарей осталось одно орудие и девять человек, из нашего взвода – только Якименко и я. Представляете, какие мы несли потери в стрелковых ротах, если из артиллеристов в строю оставалось девять из семидесяти человек… Занимаем огневую позицию. Разрывные пули только по щитку орудия щелкают… Снарядов у нас было всего четыре ящика. Слышу крик: «Танки!» Стрельба из «сорокопятки» ведется с колен. Я приподнялся взглянуть на поле боя. Вдруг я чувствую удар в грудь с правой стороны. На меня летят осколки от танкового снаряда. А я, оказывается, даже разрыва не услышал… Ребята перевязали. До санбата я умудрился дойти сам. Меня прооперировали и отправили в госпиталь в Тульскую область, на станцию Черепец. Госпиталь разместили в бывшем санатории.
Там же произошел один случай, который я не могу забыть до сих пор. Палаты были большие и рассчитывались на сорок раненых. На стене висела «тарелка» репродуктора. По этому радио я услышал рассказ Левитана о немецких зверствах на оккупированной территории. Речь шла о том, что немцы привязывают евреев к танкам, потом те разъезжаются в разные стороны и тела несчастных разрываются на куски. Вдруг в палате раздается смех многих людей и возгласы с разных сторон: «Молодцы немцы, как жидов кончают!» У меня от этого внутри все окаменело. До той минуты я был пламенным патриотом, фанатиком, а тут… Лежал и думал, как я буду воевать рядом с такими людьми!???! Да люди ли они?..
Через две недели меня погрузили в санитарный поезд и привезли в госпиталь в Аткарск. Лежал я там еще два месяца. Выписав из госпиталя, мне дали отпуск на полтора месяца на долечивание и «литерные» документы на проезд по железной дороге в любое направление. А куда было ехать? Я понятия не имел о том, где находится моя семья. Пришел на станцию… И Бог помог мне. Окликает меня какой-то железнодорожник: «Солдат, ты случайно в Рославле на заводе не работал?» Оказался мой земляк, эвакуированный с вагоно-ремонтным заводом в Аткарск. Тогда он мне и говорит: «Многие рославльские в Тамбов эвакуировались. Поезжай туда, поищи своих». До Тамбова я добирался долго и мучительно. Пришел в Тамбове в эвакопункт, посмотрел книги записи эвакуированных, но не встретил ни одной знакомой фамилии. Мне дают совет: поезжай в Кирсанов, там вроде какая-то артель из Рославля находится.
И точно, в Кирсанове я нашел артель «Борьба». У них находилось письмо от моего младшего брата, который разыскивал нашего дядю. В нем же указывался обратный адрес – село Верхотуры, Воскресенский район, Башкирия. Однако добирался я до своих несколько долгих месяцев. Зима, на улице стоят лютые морозы, а я еду на «товарняках» да угольных платформах в одной «шинельке»… Как я не замерз насмерть в эти дни, до сих пор удивляюсь!
Когда я доехал до Челябинска, мне вдруг стало плохо: ходить не могу, ноги опухли, дышать трудно, в груди – боль, как будто раскаленное железо внутри. Меня снова привезли в госпиталь. И оказалось, что у меня открылась рана. Мне откачали гной и воду из легкого. Затем отпустили из госпиталя. Так я доехал до Орска. Но там – та же история. Снова врачи кромсают мне раненое легкое, опять – гной, дренаж. Температура «зашкаливает» за сорок. Врачи уже ждали, когда я помру. В то время антибиотиков еще не было. Но я выкарабкался… Медицинская комиссия признала меня негодным к воинской службе сроком на один год с обязательным переосвидетельствованием раз в три месяца. Я доехал до Ишимбаева. До села в котором жили родители, оставалось сорок километров, и опять – та же история. Вышел я из больницы 8 марта. Приехал в Верхотуры. Спрашиваю у местных: «Где тут Лихтерманы живут?» А мне в ответ рассказывают о том, что моя семья жутко голодает. Придя домой, начал я слесарить, чтобы семью прокормить.
Затем моего младшего брата Иосифа призвали в армию и направили в Стерлитамакское пехотное военное училище. Вскоре училище отправили на фронт в полном составе под Сталинград. Там брата тяжело ранило, и он вернулся домой только в 1943 году с ампутированными ступнями ног… В июле сорок второго года меня вызвали в Уфу на гарнизонную медкомиссию. Никто из врачей меня даже не осматривал. Посмотрели госпитальные справки и сказали: «Сожалеем, но мы отменяем прежнее решение о вашей «комиссовке». Вы признаетесь годным к службе без ограничений». И несут какую-то чушь о том, что, мол, понимаешь, армия нуждается в солдатах, что на фронте тяжелое положение… Будто я сам этого не знаю! И сразу дают в руки направление в военкомат. Спорить я с ними не стал, только заметил вслух: «Я думал, меня на врачебную комиссию позвали, а, как выясняется, тут политруки сидят, а не доктора». Они в ответ только молчат… Прихожу на комиссию в военкомат. Там меня спрашивают: «Кем хочешь воевать? Ты – раненый фронтовик, кадровый солдат, с образованием, даем тебе право выбрать…» Отвечаю: «Я – наводчик сорокапятимиллиметрового орудия. А вообще, мне – все равно, куда пошлете». Мне действительно было все равно. После Ельни я стал фаталистом, знал, что никто не уйдет от своей судьбы. Тогда они у меня интересуются: «В пулеметно-стрелковое училище пойдешь? Мы тут команды формируем в Тюмень и в Арзамас. На артучилище нет разнарядки». «Давай в пулеметное», – говорю им… Тогда они дают мне повестку с таким содержанием: прибыть с вещами через две недели…После этого я простился с родителями. Я был уверен, что живым домой не вернусь.
Через две недели я приехал в Уфу. Из сотни ожидавших отправки будущих курсантов отобрали человек тридцать. Нас посадили на пароход. Проплыли мы девяносто километров по реке Белой и оказались в Бирске, старинном купеческом городе. Там располагалось ЛУВНОС – Ленинградское училище воздушного наблюдения, оповещения и связи…
Первый раз слышу о подобном училище. Расскажите о нем подробнее.
Я тоже не имел ни малейшего представления о подобном училище, хоть оно и не считалось засекреченным, как, например, училище разведки в Ленинграде до войны. Училище готовило командиров ВНОС для войск ПВО страны. Оно предназначалось не для зенитчиков, стоящих рядом с передовой, а для частей, прикрывающих воздушное пространство над крупными промышленными объектами и городами в армиях ПВО. Шанс попасть из этого училища на передовую был весьма невысок. И атмосфера там была соответствующей… Училось немало генеральских «деток», которых папы сунули в это училище для того, чтобы переждать военное лихолетье. Особняком держалась большая группа бывших студентов Московского нефтяного института имени Губкина… Особой дружбы между курсантами не было. Училище было небольшим – в нем училось всего около тысячи курсантов. Но официально мы были поделены на четыре батальона. Большая часть преподавателей состояла из бывших инженеров Ленинградского электролампового завода. Они постоянно подчеркивали исключительность нашей будущей специальности. И когда уже все военные училища из Поволжья были брошены в пехоту под Сталинград, мы продолжали учиться. Нас поберегли. Подготовили нас в профессиональном плане великолепно. Я научился работать на всех видах радиостанций, но, что самое необычное, – нас обучали работать на первых отечественных радарах РУС-2- «радиоулавливатель самолетов» (слово радар тогда еще не употребляли) и на канадских ленд- лизовских радарах CON-2.
За несколько недель до выпуска из училища, нас семнадцать человек, вызвали по списку в штаб. Там нам сообщили, что мы выпускаемся из училища в звании сержантов и наша группа отправляется в распоряжение ГУС КА – Главного управления связи Красной армии. Так что в офицерских погонах тогда походить мне не пришлось. Однако я по этому поводу не переживал. Кто попал в эту команду, спрашиваете? Тех, у кого фамилия на «ман» заканчивалась, оказалось три человека, остальные, как я понял, были ребята с «подмоченными» анкетами. Возможно, что я ошибаюсь по этому поводу… Прибыли мы в Москву, в ГУС. Нас выстроили в одну шеренгу. Вышел к нам какой-то полковник. Ему докладывает адъютант: «Радисты для десанта прибыли!» Так, мы впервые узнали, что наша воинская дорога ведет нас в десантные войска. Впрочем, с этих слов мы сразу не поняли, о каком десанте речь – о воздушно-десантной бригаде или о диверсантах… Полковник рявкнул что-то бодрое. Вроде это были какие-то дежурные слова: Родина, доверие, партия, не посрамим, не пощадим, «бу-бу-бу» и т. д. и т. п. После этого он нам объявляет: «Вы направляетесь на формирование 3-й воздушно-десантной бригады в город Фрязино». Выходим мы из здания и все сразу на небо смотрим: наше будущее «поле боя», как мы оттуда падать будем?
Как в вашей группе отреагировали на распределение в ВДВ?
По-разному. Кто-то обрадовался, кто-то заматерился: мол, не хочу идти в парашютисты-диверсанты. Но никаких истерик по этому поводу ни у кого не было. Надо – так надо.
Ваша 3-я ВДБр вместе с частью 5-й ВДБр приняла участие в знаменитом и трагическом Днепровском воздушном десанте. Я попрошу Вас максимально подробно рассказать о подготовке десантников бригады и о самом десанте. Ведь фактически нет информации непосредственно от участников десанта. Небольшие заметки десантников Неживенко, Жукова, Муктаева, Улько, Мигдалевича, очерки о Героях Советского Союза, комбатах: майоре Блувштейне, капитане Петросяне, капитане Воронине, статья о комбриге 5-й ВДБр Сидорчуке, и одна страница в книге воспоминаний недавно ушедшего из жизни участника десанта всемирно знаменитого кинорежиссера Григория Наумовича Чухрая. Даже в фундаментальном труде «ВДВ в годы ВМВ» все острые углы, связанные с судьбой десанта изящно сглажены.
Я взял воспоминания летчика из полка, проводившего высадку десанта, но там один лейтмотив – «мы не виноваты»… Воздушных десантов в годы ВМВ было высажено нашими войсками не так уж и много, но даже неудача Вяземского десанта меркнет на фоне трагедии днепровских десантников.
Сразу хочу заметить по поводу подготовки десантников. Я попал служить начальником радиостанции в отдельный противотанковый дивизион бригады и наша подготовка отличалась от подготовки в простых десантных батальонах. Поэтому я не могу сказать, что информация которой я обладаю в этом вопросе, является полной. В отдельном артдивизионе служило сто восемьдесят человек, на вооружении были пушки 45-мм «Прощай Родина». По сути дела, мы являлись «независимым государством».
Ладно, давайте начнем.
Мы прибыли на формировку в феврале 1943 года. Мне трудно сказать, проводился ли какой-то особый отбор в бригаду. К нам прибыли сотни курсантов из Томского пехотного училища и Ишимского пулеметного училища. Рота ПТР, например, в большинстве своем состояла из кадровых дальневосточников. Все ребята в ней были богатыри, под два метра ростом. Они таскали тяжеленное ружье ПТР как пушинку. Прибыли к нам и направленные сразу из военкоматов комсомольцы-добровольцы, еще не принимавшие присяги. Почти все десантники находились в возрасте восемнадцати – двадцати двух лет. У нас было всего несколько тридцатилетних солдат.
Самое странное, что среди нас встречалось очень мало людей с фронтовым опытом или тех, кто был направлен в десант после лечения в госпиталях. Инструктора ПДС – не в счет. Не было среди нас и участников Вяземского десанта. Оказались считаные единицы людей, воевавших в пехоте в дивизиях ВДВ на Дону и в бригадах под Киевом. Так что передать нам опыт прошлых десантов с предельной честностью, по сути дела, оказалось некому.
Национальный состав бригады представлял в широком диапазоне весь Советский Союз: русские, украинцы, казахи, армяне, татары, грузины и так далее. У нас даже имелся свой грузинский самодеятельный хор. Было непропорционально много евреев. Попали к нам и ребята, призванные из Средней Азии, которые хорошо владели русским языком.
Уже через две недели после прибытия в бригаду начались прыжки с парашютной вышки в Мытищах. Параллельно мы изучали подвесную систему парашюта. Прошло еще две недели, и уже в районе Медвежьих Озер начались прыжки с аэростата. В корзину аэростата сажали инструктора, и трех десантников тросами поднимали на высоту 1200 метров… и, как говорят, – «пошел!». Так прошел еще один месяц, и у нас начались прыжки с ТБ-3 с разных высот.
Народу много разбилось на учениях?
Кладбище мы за собой оставили большое. Было три крупных трагедии во время подготовки десанта. В ТБ-3 «набивали» для прыжков до 50 человек. Когда первый раз отрабатывали ночное десантирование на лес. Многие угробились и многие покалечились. Один раз, кажется, в 3-м батальоне, по ошибке сбросили часть ребят в воду широкого озера. Все они потонули.
Еще у нас случилась неудачная выброска при шквальном ветре в соседней бригаде. Об этой неудаче я не могу рассказывать, так как не помню точных деталей этого происшествия, и зря не хочу что-то сообщать. Как потом шептались – летчиков за этот сброс просто расстреляли по приговору трибунала. Но так ли это было на самом деле и что там конкретно произошло, я не вспомню уже сейчас…
Да и на простых тренировочных прыжках часто бились. Стропы у ребят путались… Все тренировочные прыжки совершались с основным и запасным парашютом. Но хочу заметить, что парашютно-десантная подготовка в бригаде была поставлена хорошо и грамотно. Инструктора во главе с Белоцерковским оказались суперпрофессионалами. Чтобы избавить нас от страха прыжка, они постоянно демонстрировали нам какие-то сложные, чуть ли не акробатические прыжки. Парашюты-то ведь у нас были не только с принудительным раскрытием. Дошло до того, что в самолет рядом с будущими десантниками садились врачихи с бригадного санбата и прыгали вниз, держа в руках букетик цветов и тем самым показывая нам пример. Вы же знаете мужскую психологию: «как это баба прыгнула, а я не смогу?!»
Как поступали с «отказчиками»? Какая прыжковая «норма» существовала?
Всех «отказчиков» на формировке без долгих разбирательств отправляли в штрафные роты.
Понимаете, не все бойцы хотели быть десантниками. Находились и такие, некоторые предпочитали скорее смерть на земле в пехотном бою, чем красоваться мертвым со значком парашютиста на гимнастерке.
Я помню первый прыжок с аэростата. Лебедки подняли «корзину». Первым должен был прыгать здоровенный мужик, лет тридцати пяти. Инструктор дает команду: «Пошел!». Мужик оцепенел от страха, руками за край «корзины» вцепился, лицо – белое как стена. Инструктор орет: «Не прыгнешь, в штрафную пойдешь!» Солдат окаменел. И вдруг щупленький инструктор каким-то резким движением выкидывает солдата через дверцу «корзины».
Мы сразу поняли, что с нами шутить не будут.