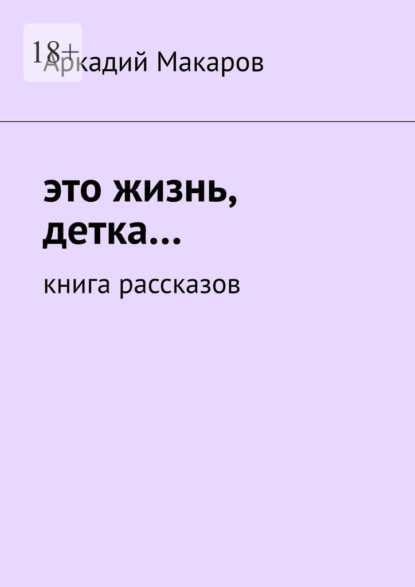По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Это жизнь, детка… Книга рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сжав пальцы у меня на затылке, Аннушка тихо постанывала, как от легкой боли, прижимая мое лицо к себе. Сквозь тонкую кожу я чувствовал, как рвется ее дыхание, как воздух резкими толчками выходит из ее гортани, рождая характерные звуки любви.
Моя ладонь, почувствовав волю, нырнула, куда ей следовало, и стала ласково тереться о паутину колготок, заставляя мою подругу все чаще и чаще, изгибаясь, пульсировать.
Вдруг Аннушка, ни о того, ни с сего встревожено ойкнула и резко вскочила со стула. Лицо ее вместо любовной истомы выражало испуг и растерянность. Она стала, как-то нервно и суетливо застегивать кофточку. Пуговица то и дело не попадали в петельки, руки ее дрожали.
Повернувшись к окну, я услышал, как что-то звякнуло о стекло, и резко задергалась освещенная ветвь дерева, а дальше – ночь, чернота и больше ничего.
– Да, брось ты! – попытался я прижать к себе недавно такое близкое и податливое тело, но теперь оно стало каким-то деревянным и чужим.
Я одной рукой дотянулся до бутылки, и знаком предложил Аннушке выпить, но она отрицательно замотала головой. Не утруждая себя стаканом, и предчувствуя пустые хлопоты, я выцедил оставшийся коньяк до донышка и, подойдя к окну, швырнул бутылку в форточку. Было слышно, как она, звякнув о камешек, мягко покатилась в сад.
Аннушка уже запакованная стояла у двери. На все мои уговоры остаться она категорически отказывалась.
Что могло так подействовать на мою спутницу? Тень в окне? Там росло раскидистое дерево вяза, и ветки его, нет-нет, да и, царапая стекло, пытались вломиться в оконный проем, для своего со мной знакомства. Но, не настолько же у моей подруги развито воображение, чтобы испугаться присутствия дерева в наших упражнениях. А начало было многообещающим! Я, когда еще мы шли сюда в мое логово, уже прокрутил в голове все мыслимые и немыслимые сюжеты наших батальных сцен. Как жаль!
Меня швырнуло к столу, и я чуть не опрокинул стоявшую там и уже, когда-то початую бутылку вина. Аннушка стала меня останавливать, чтобы я не шел за ней следом, но мне, почему-то, неудержимо хотелось туда, на воздух.
Взяв со стола нож, я убрал лезвие и сунул нож так, на всякий случай, в карман. Аннушка помогла застегнуть мне куртку, и мы вышли в ночь.
Порывистый дождь, как будто кто хлестнул меня по лицу кнутом, сразу отрезвил меня. Я с недоумением оглянулся вокруг. Рядом никого не было. Ночь. Темные дома с угрожающими провалами окон. Гостиница осталась где-то там, позади, отсюда ни огней, ни тубы котельной видно не было. Только впереди за дальним фонарем, то, пропадая, то, возникая на свету, торопливо уходила то ли женская, то ли детская фигурка, держась за зонт, как за воздушный шарик.
Зонт порывами ветра трепало в разные стороны, и в разные стороны металась фигурка в плаще. Я боялся, что она вот-вот улетит в черноту неба, и я ее больше не увижу. Исхлестанная дождевыми струями фигурка отчаянно металась от лужи к луже, и мне стало жаль ее.
Вдруг, у железной, решетчатой ограды стадиона, теперь я стал понимать, где нахожусь, большая черная птица, откуда-то сбоку, хищно кинулась к фигурке, и та громко вскрикнула.
В широком распахнутом плаще, человек похожий на птицу схватил ночную странницу за плечи, задергался головой, что-то зло и резко крича, словно хотел расклевать свою добычу.
Я, ни думая, ни о чем, ринулся к ним. Зачем – я и сам в то время не знал. Чтобы защитить ночную гостью? Не думаю. Просто подогретый недавним выбросом адреналина и парами алкоголя, мне надо было действовать, непременно надо.
Услышав мой топот, человек-птица, выпустив из когтей свою добычу и стелясь над землей, ринулся ко мне. Два черных распахнутых крыла победно трепетали за его спиной. Птица хотела взмыть надо мной и не могла, это последнее, что я хорошо помню.
Вприпрыжку, как все большие птицы, она закружила около меня и, вскинувшись, ударила своим, как мне почудилось, железным крылом.
Удар пришелся вскользь, в шею, между плечом и ухом, и я оказался на четвереньках. Хорошо, что железяка попала в мягкую ткань, а то бы лежать мне с развороченным черепом на местных черноземах. Обрезок толстой арматуры, наверное, и до сих пор еще валяется там, у забора, где все произошло.
Потом я специально ходил туда, держал этот шкворень и все удивлялся, и благодарил судьбу, что шкворень, в тот злополучный момент, сжимали нетвердые руки.
Сбитый на землю, я имел право на защиту, каким образом – неважно, но защитить себя я должен.
Если бы я в то время был трезв – единственным способом защиты от озверевшего, нетрезвого и явно сумасшедшего нападающего, было бы бегство. В этом я и теперь не вижу ничего постыдного. Как говорят в народе, пьяного и безумного сам Бог стороной обходит.
Убеги я, то этим все и закончилось бы – ночной странницы все равно рядом уже не было, она исчезла, размазалась по этой сырой и тяжелой, как глина, темноте. Но во мне бушевали хмель и страсть, и чувство бесконфликтного самосохранения не сработало.
Мгновенно вспомнив про армейский нож, рука тут же сама инстинктивно выбросила его вперед. До конца я не осознавал свои действия. Беда в том, что я не видел перед собой человека, – была какая-то опасная преграда, и ее надо было одолеть.
Только я выкинул нож, как меня тут же накрыла своими черными крылами тень, и я снова, еще не разогнувшись от первого удара, юзом сполз в наполненный жижей кювет. Что-то хрустнуло у меня под рукой, и я выпустил рукоятку ножа.
Неожиданно, как будто натолкнувшись на неодолимое препятствие, черная тень переломилась пополам, замерла, затем закружилась на месте. Я услышал только какой-то зловещий животный хрип и кинулся к спасительной ограде.
Вот тут-то, наверное, и сработал инстинкт самосохранения, – до меня еще не дошел весь ужас содеянного. По-кошачьи вспрыгнув на узкий поясок ограды, я, ухватившись за острые кованые пики, подтянул вверх тело, и опрокинулся на другую сторону, прямо на беговую дорожку стадиона.
Краем глаза я видел, как человек-птица, вскинувшись, тут же взлетел на ограду, и я, не разбирая дороги, ринулся прямо поперек игрового поля, не оглядываясь и ни о чем, не думая, туда, к парку, где были выход и укрытие.
В одно мгновение, перемахнув стадион и парк, я выскочил на освещенную центральную улицу города. Там, вдалеке, за желтым журавлиным клином фонарей я увидел дымящуюся трубу нашей котельной.
Дежурная мирно посапывала, положив на стопку бумаг свой выгнутый подбородок. Дверь моей комнаты была полуоткрыта, и я проскользнул в нее. Тупо болела шея и левая сторона груди. Вылив оставшуюся бутылку вина в себя, я повалился на кровать, на ходу стаскивая с себя набухшую одежду. Сон опрокинул меня, и я провалился в его тяжелые испарения.
Но сон кончился так же быстро, как и начался. Меня качнуло и я, застонав, открыл глаза. После вчерашнего не хотелось жить. Хотелось превратиться в песчинку, в молекулу, в атом, забыть себя насовсем и растаять в мироздании…
– Фому грохнули! – почему-то радостно закричал надо мной, неизвестно откуда взявшийся, бригадир. У меня внутри все так и оборвалось. – Его нашли там, у стадиона, я ходил на опознание, – частил утренний гость. – Лежит навзничь в плаще каком-то чудном, весь в грязи и руки враскид. Голова запрокинута, а на шее дыра – кулак влезет, черная вся, жуть!
Я хотел встать, но не смог даже пошевелить пальцем, тело сделалось вялым, как тесто, и не слушалось меня, я только горестно охнул.
– Да не расстраивайся ты, начальник, его все равно когда-нибудь пришили бы. Больно он залупаться любил, особенно по-пьяни. Ты лечись – он с пониманием глянул на безобразие стола. – Ты лечись, лечись. Я сегодня сам покомандую – и ушел так же неожиданно, как и пришел.
И вот, наскоро ополоснув лицо, я стою у окна и безнадежно молюсь о несбыточном: «Господи! Что я наделал?!». Меня охватил ужас и отвращение к происходящему – к вину, к женщинам, к самому себе, и даже к этому небу в окне, тяжелому и косматому. Сама эта похотливая бабенка казалась мне сосредоточием зла и грязи, – Боже мой, почему я раньше не думал об этом?..
Конечно, моя ночная гостья была здесь совсем не причем, только ведь человек всегда такой, – когда прижмет, ему легче свалить вину на кого-нибудь, чем виноватить себя.
Я ждал. Но днем за мной никто не пришел. Не пришли за мной и ночью. А наутро я с первым поездом уехал к себе в управление, не попрощавшись даже с бригадиром. Только страшно и жутко было мне проходить мимо того места у стадиона, где все и свершилось. Толстый витой обрезок арматуры лежал никем не замеченный, тяжелый, как сама вина.
В управлении, когда я пришел с заявлением об освобождении с должности, мне пригрозили уволить по статье за самовольный уход с рабочего места без уважительной причины, но я, оставив заявление на столе у начальника, не дослушав его угроз, вышел. На другой день меня все-таки уволили, правда, статью не вписали. Пожалел меня начальник…
А Фоме не повезло. Обозленный ревностью и моим сопротивлением, с порезанной рукой, кинулся он за мной на железную ограду. Но, то ли я был ловчее Фомы, то ли его подвела водка и скользкая глина на сапогах, – Фома, соскользнув, наткнулся подбородком на пиковину ограды, и повис на ней. Так его и нашли в этой страшной и беспомощной позе, с раскинутыми руками и с тяжелыми гирями сапог.
Больше никогда я не был в этом городе, да, наверное, и не буду. Не вписался я в ту жизнь, или не захотел вписаться. А, все-таки незачем мне было соглашаться ехать туда, – не случилось бы этой страшной истории.
МОЙ ГЕНЕРАЛ
Стояло невыносимо жаркое лето.
На праздник родного села, из нашего большого счастливого выпуска 1957 года трёх десятых классов, были приглашены, как самые достойные сыны Бондарей, только двое: я и мой давний школьный товарищ, и приятель по детским играм – Юра Карев по прозвищу «Таня».
Вот так мы все звали его в то весёлое время: Таня, да Таня!
На эту позорную женскую кличку он охотно отзывался, хотя в мальчишеской душе его такое прозвище, вероятно, лежало тяжёлым камнем, но что поделаешь? Зовут, значит надо откликаться, а то ещё чего-нибудь похлеще прилепят ватажные ребята. Послевоенная улица, куда денешься?
У Юры были две матери: мама Таня и мама Клава; так, по крайней мере, он называл двух, ещё совсем нестарых, женщин-сестёр военного, лихого времени.
Как объявился у двух незамужних женщин, сей отпрыск – неизвестно. Тогда, забеременеть под чужим глазом незамужней было позорно, но всё равно ухитрялись ловить случай и, затянувши потуже живот, управлялись бедолаги, как могли. Под широкими юбками разве уследит любопытный глаз?
Озабоченные своими тяготами и лишениями соседи особенно и не интересовались: кто же из них двоих принёс младенца. Ну, растёт малый и растёт, что ж тут такого? А, что мамкает с ними обеими, так часто в людских семьях бывает: кто по головке гладит, и сопли подолом утирает – тот и мамка!..
Сёстры жили в нашем районном селе вместе, в одном домике из сырого ветхого кирпича, построенного ещё до революции из отходов местного кирпичного завода: печь его вечно дымила, окна слезились влагой и летом и зимой, но зато стены были метровой толщины и, судя по всему, насыпные.
Летом в доме было холодно, как в леднике, но зато зимой угарно и душно.
Сына двум счастливым женщинам сделал невзначай, в спешке, один командировочный комиссар, прибывший в Бондари за продовольственным пополнением для Тамбовского военного гарнизона кавалеристов.