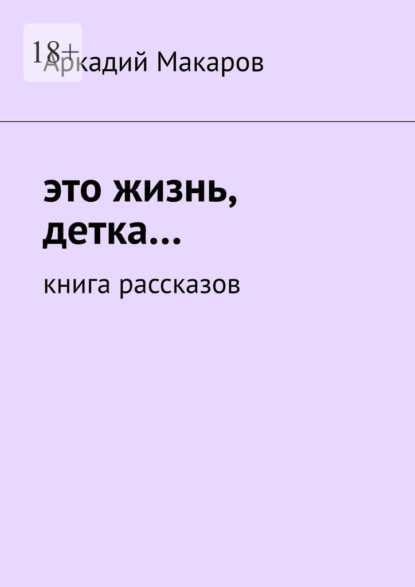По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Это жизнь, детка… Книга рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мягкое вино ложилось лекарством на мой обожженный водкой и плохим вермутом желудок. Аннушка, не допив, поставила бокал на стойку.
Здесь в буфете было хорошо и уютно. Я пододвинул стоящий рядом тяжелый табурет, и примостился на него, весело поглядывая, как Аннушка орудует, принимая заказы от официанток и разливая водку в маленькие стеклянные графинчики. Желтые тюбетейки пробок так и взлетали из-под ее руки. «И в воздух чепчики бросали» – вспомнился мне не к месту Грибоедов.
Как пьяный дебошир в дверь, колотил по барабанным перепонкам резкий звук тяжелого рока. В этом бедламе слова били пустой тратой сил – все равно не услышишь, и я, долив Аннушке бокал, знаками предложил выпить еще.
Она, махнув рукой, – а, была – не была! – снова двумя пальчиками ухватила ножку бокала и поднесла его к губам. На этот раз вино было выпито до дна.
Промокнув губы бумажной салфеткой, Аннушка скомкала ее и бросила в рядом стоящую коробку из-под вина, затем достала с полки пачку «Мальборо», и, вытащив из нее две сигареты, одну отдала мне. Она пододвинула ко мне объемистую стеклянную пепельницу, уже полную окурков и мы, весело переглядываясь, продолжали с ней молчаливый разговор.
И третий, и четвертый бокал были выпиты, и я с воодушевлением, наклонившись над стойкой, уже кричал моей новой знакомой нежности известного назначения.
Она в ответ вскидывала свои пушистые ресницы и, заливаясь смехом, обнажая белые чистые зубы, обдавала меня дыханием, смешанным с молоком и мятой.
Когда, стараясь перекричать невообразимый грохот музыки, я прислонялся к ее уху, то норовил щекой потереться о ее мягкие волосы, и у меня от этого дыхания, выпитого вина и ласковых прикосновений, как у мальчишки, закружилась голова. Да и у нее – щеки раскраснелись, пальцы теребили мою руку, и грудь за тонкой тканью держала мой взгляд на привязи. Бусинки сосков намекали на невозможное.
Аннушка смеялась, откидывая назад голову, то и дело всплескивала руками над моей очередной шуткой. Я следил за каждым ее движением, отмечая раз за разом все новые и новые прелести. Ладони ее были шелковисты на ощупь и прохладны, я подносил их к губам, остужая себя и от этого еще больше распаляясь.
Я был уже почти влюблен в нее, и в этот ставший сказочным вечер никак не хотел с ней расстаться. Да и Аннушка чувствовала, по-моему, то же самое.
Я и не заметил, как вторая бутылка вина похудела наполовину, и мне стало необходимо кое-куда выйти. Я с неохотой поднялся со стула. Аннушка вопросительно посмотрела на меня, а потом, видно поняв, в чем дело, с улыбкой помахала мне ладошкой из стороны в сторону, как протирают окна. Я кивнул ей в ответ и вышел.
В туалете было, как в туалете – сыро и мерзко. Изъеденные известью и мочой бетонные полы сочились, выделяя из пор дурную влагу.
Подняв глаза, я увидел стоящего спиной ко мне у писсуара Фому. Его тяжелый загривок, поросший коротко стрижеными волосами, покраснел от напряжения – человек делал свое извечное дело. Вступать в разговор с ним мне вовсе не хотелось, и я, не узнавая его, встал рядом. Но Фома уже повертывал ко мне голову.
– Ну, что, начальник, тоже полный член воды принес? – скалился он в пьяной улыбке.
Чтобы уйти от его рукопожатия, я быстро занял свою позицию, кивнув ему головой. Ладонь, на секунду повиснув в воздухе, медленно опустилась. По его неряшливому виду я понял, что Фома весь день круто гулял, а теперь еще пришел накинуть, так сказать, на сон грядущий. Так вот почему Фома сегодня отсутствовал на работе! Прогулом его, конечно, не удивить, но завтра попугать надо.
Если бы я знал, что потом случится, я бы не думал так уверенно.
Встряхнувшись для порядка, как мокрый пес, Фома остановился, поджидая меня. Его присутствие рядом раздражало, но что поделать? Я, вздохнув, повернулся к выходу – Фома за мной.
Пока в вестибюле приводил себя в порядок перед зеркалом, Фома куда-то исчез. Облегченно вздохнув, я направился снова в буфет.
От Фомы можно было ожидать все что угодно, но только не это! В буфете он, сграбастав в свои широкие объятья Аннушку, лез к ней целоваться. Она, двумя руками упираясь ему в грудь, откинулась назад, явно противясь. На ее лице были написаны то ли гнев, то ли страх перед Фомой – я так и не понял.
Увидев меня, Аннушка от неожиданности уронила руки, и Фома тут же всем телом накрыл ее, заодно смахнув с прилавка всю посуду, а с нею вместе и мою недопитую бутылку.
Оглянувшись – в чем дело, Фома осклабился, и полез поднимать рассыпанную стеклотару.
Аннушка, поправив прическу, покачивая готовой, стояла напротив.
Фома, разогнувшись, посмотрел на свет мою, теперь уже пустую бутылку и поставил ее передо мной. Промычав что-то оскорбительное то ли на меня, то ли в адрес Аннушки, он, покачиваясь, вышел, не поднимая скандала, вероятно из-за находившейся в зале милиции.
Аннушка торопливо стала объяснять мне, какой негодяй этот Фома и, как он не дает ей прохода. Жениться обещал. Но, что ей с этой пьянью делать? А то она лучше не видела!
В том, что она видела мужиков и получше Фомы, у меня сомнений не было – вот и я перед ней уже почти готов.
Тот вечер был скомкан, но он имел далеко идущие последствия. И последствия не заставили себя ждать, – я, придерживаясь за парапет, гляжу вниз, прикидывая, чтобы со мной, минуту назад, могло случиться…
Фома все рассчитал верно. В тот день он занимался сварочными работами на площадке обслуживания, на самой верхотуре. Туда можно было добраться только по вертикальной лестнице, и – через лаз в настиле.
Площадка уже была покрыта листовой сталью, и теперь эти листы следовало приварить к несущим конструкциям – попросту, балкам. Работа была самая простая, и Фома сидел наверху и, как дятел, все стучал и стучал электродержаком по металлу. Это меня раздражало. Наверное, электроды были отсыревшие, плохого качества и электрической дуги не держали. Конечно, сварка – одно мучение. Не то, чтобы облегчить работу Фоме, а проконтролировать – чего это он все там стучит? – я взял, заодно, из прокалочной печи еще горячие электроды и, завернув их в лоскут от старой спецовки, полез наверх к Фоме.
На этот раз, как на грех, на голове у меня не было защитной каски – от нее устает голова, и при каждом удобном случае её хочется где-нибудь забыть.
Одной рукой я держал электроды, а другой, перехватываясь за лестничные перемычки, поднимался наверх. Влезать было неудобно, а Фома предвидел это. Он опустил в проем лаза кабель с электродержателем, который, разумеется, был под током. Так как руки у меня заняты, да и лаза над собой я не мог видеть, то наверняка должен был коснуться головой не изолированной части держака, и, таким образом, замкнуть сварочную цепь.
Кто попадал под действие тока, тот знает его результат. Удар неминуемо должен был меня сбросить вниз и, как говорил Фома, – ваши не пляшут! Крышка. Да и если бы я вдруг увидел держатель, то инстинктивно должен был бы отвести его рукой в сторону, чтобы просунуться в лаз. И в этом случае эффект тот же – наши не пляшут!
Но, как говориться, человек предполагает, а Господь Бог располагает…
С Аннушкой я встречался почти каждый день, но все как-то наспех, да наспех, вовсе и не думая, что скоро Фома положит конец моей неожиданной и странной увлеченности.
В тот поздний промозглый вечер в городе было зябко и неуютно. Порывистый ветер, как грязный бомж, шарил на ощупь по закоулкам, выискивая старые газеты и афиши, шуршал ими, выкатывая из разных углов замусоленные окурки. Редкие фонари, лохматясь в темноте, желтым светом подметали улицу. Все порядочное человечество в такую погоду уже давно спит, утомившись, кто от дел, кто от любовных затей. Пусто.
Мы с Аннушкой, не сговариваясь, повернули в сторону гостиницы. Больше всего на свете мне хотелось очутиться с этой женщиной теперь, где-нибудь в тепле и уюте.
Пройти мимо дежурной в свой номер с посторонней женщиной – это сложновато, но я был уверен, что как-нибудь все утрясется. Главное, чтобы дежурная не стала сразу кричать и звонить в милицию, а там посмотрим…
Аннушка, хотя одна ее рука была занята хозяйственной сумкой, то и дело прижималась к моему плечу, сторонясь очередной лужи. Ее тепло проникало в меня сквозь тонкую ткань куртки, тревожило своей доступностью, предвосхищая и торопя события.
Мы то и дело останавливались, прижимались друг к другу, целовались, и моя подруга не должна была не чувствовать всю мою готовность к продолжению. От частых прикосновений, она тоже торопила события, с каждым разом все крепче и продолжительнее прижимала к себе мою голову, хватала губами мочку уха, делая влажно и горячо за воротником куртки. В этот вечер нас уже было не разъять никаким способом.
Несмотря на то, что город еще не отапливался, маленькая котельная в гостинице на сей раз, клочкасто дымила на фоне абсолютно черного неба. Дым, то уходил вверх, то ложился на желтую от фонарного света крышу, сползая вниз рваной ватиной. Пахло, как из преисподней – серой и жженой шерстью.
Сквозь незанавешенное окно было видно, как очкастая дежурная клевала носом какую-то бумагу лежащую на столе под ярко-красным абажуром настольной лампы. «Нет, с этой кочергой мне, наверное, не справиться?» – подумал я.
Тяжелая скрипучая дверь швырнула нас с Аннушкой прямо пред светлые очи ночного директора. Несмотря на заспанные глаза, стекла ее очков весело поблескивали, вселяя надежду.
Дежурная, встряхнувшись – как ни в чем не бывало, бодро стала листать что-то перед собой. Я сделал унизительно-просительное лицо, показывая кивком головы в сторону номера. В это время Аннушка, распаковав сумку, положила на стол дежурной какой-то сверток. Что было в нем, я не знаю, но что-то хорошее было. Дежурная тетя, то ли сконфузившись оттого, что мы ее застали спящей, то ли от подношения, понимающе улыбаясь, сняла ключ с гвоздя, и с высочайшего позволения мы нырнули во вседозволенность одиночного номера.
Нашарив выключатель, я надавил на него, и тусклая лампочка без абажура осветила наше временное прибежище.
Сдвинув на край стола всю непотребность, которая накопилась за все время моего проживания, Аннушка вытащила из сумки свертки, и разложила снедь на столе. Коньяк и бутылка вина, как генерал с денщиком, замерли по стойке «Смирно!», намекая на предстоящий праздник и мирное решение всех вопросов. К ногам генерала припали еще не остывшие котлеты, брусок отварной говядины, большая подкова колбасы, кофе «На утро!» – сказала мне благодетельница, батон белого хлеба, лимон и два яблока.
При сём антураже можно было и не торопиться – все остальное обождет.
Вытряхнув из стакана изжеванные окурки на пол, я, для профилактики дунул в граненое стекло и поставил стакан на стол. Потом, немного помучившись с коньячной пробкой, плеснул Аннушке приличную порцию в мутную посудину. Она поглядела стакан на свет, покрутила его и тут же вылила содержимое в цветочный горшок, стоявший на подоконнике. Сухая, кочковатая земля в один момент заглотила драгоценную жидкость. Горшок стоял без цветка, так – на всякий случай. По всей видимости, постояльцы, как и я, выливали туда всякую гадость.
Ополоснув, таким образом, стакан, моя подруга поставила его на стол, взяла из моей руки бутылку с коньяком, плеснула себе на самое донышко, и вопросительно посмотрела на меня. Увидев мое недоумение, Аннушка увеличила первоначальную дозу вдвое.
То ли от коньяка, то ли от нахлынувшего возбуждения ее глаза маслянисто отсвечивали, придавая лицу выражение томного удовольствия. Как говорят теперь, – она ловила кайф. Я свою порцию выпил по-плебейски быстро, хотя коньяк требует иного подхода.
Столового ножа не было, и мне пришлось доставать свой, с узким выкидным лезвием, нож армейской выделки. Подобные ножи с заморским клеймом теперь продаются повсеместно, да только – не то! Лезвия у них сырые, сделанные из плохой стали с некачественной пружиной. Надежность такого ножа сомнительна. А у меня был нож – подарок десантника-афганца, с лезвием, сделанным из полотна саперной лопаты. Этим ножом запросто можно было рубить гвозди. Нож-защитник, нож – боец, для которого западло выступать в роли дамского угодника, и крошить какую-то закусь. Таких ножей я ни у кого не видел, да и сам больше не имел.
После котлет и мяса захотелось выпить еще. Мало, но пила и моя Аннушка. Она громко смеялась, лицо ее сделалось пунцовым, пуговка на кофточке расстегнулась, выпуская наружу пару чистокровных белогрудых голубей с розовыми клювиками. Голуби ворковали, терлись друг о друга, просились покормить их с ладони – всех вместе и каждого в отдельности. И я кормил их, моих голубок с ладоней и с губ кормом, сладостней которого не бывает на свете! И голуби эти торкались в щеки, нос, глаза, подбородок сытые и благодарные.