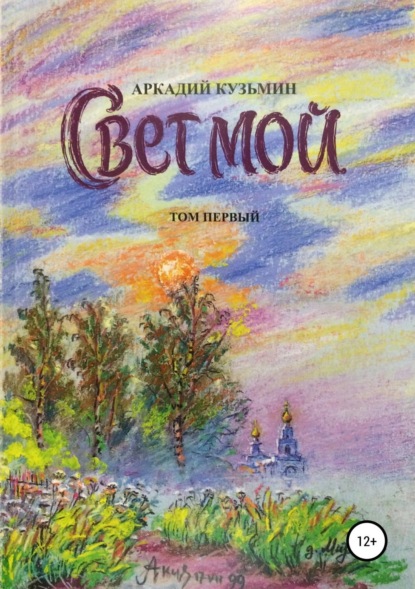По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Тпру-у-у! Ну, балуй! Балуй! Стоять!
Та даже вздыбилась, попятилась, затанцевала.
И был это двадцатисемилетний Василий Кашин, росший сиротой, почти легенда деревенская по своим еще юношеским независимым поступкам. Хоть и не великаном в росте он был, но обладал изрядной ловкостью, сноровистостью и физической выносливостью. Он, провоевавший несколько лет (во время Первой Мировой и Гражданской войн), контуженный, недавно демобилизовался. И вышло (очень кстати), что именно в этот час он заехал в Заказник – один на паре чужих лошадей: он рубил лес, возил, пилил, колол и продавал его на рынке – для того, чтобы, прежде всего, прокормиться и приодеться мало-мальски. Значит, полностью (и давно) обслуживал сам себя в этом отношении. Не рассчитывал ни на чьи подачки.
И так необычайно познакомились Анна и Василий.
Смолоду родной отец Василия и отчим Трофима, Федор Гаврилович, был жестоким, пьющим – страсть! Бузил, скандалил уже со взрослым, женатым Трофимом; считал, что тот обчищал его карманы (малолетний Василий не мог – к нему еще не было претензий). По пьянке он выгнал Трофима из избы, с глаз долой, – за сказанное ему что-то поперек, и колясочку с его одиннадцатимесячным первенцем, Семой, выкинул в окно. Обирала же безбожно его вторая жена Степанида, лиходейка. Умер он, когда Василию было одиннадцать лет; оттого Василий кругом осиротел, как и Анна: его мать умерла ранее, когда ему исполнилось только четыре года. Так что молодеческие его годы отличались особой задорностью в отстаивании своих прав и убеждений перед сквалыгой мачехой, которая выламывалась и измывалась над ним, требуя с него, пасынка, самой черной работы. Никаких обнов она ему не справляла, хотя он рос и все горело-трещало на нем, работящем; она, издеваясь по привычке своей, зачастую и есть ему не давала – еду буквально из рук у него выхватывала – отбирала, хотя подпол в доме ломился от вкусных солений, варений, масла, сливок, сметаны – все это продавалось, куда-то уходило…
Как-то, когда она сидела – пряла из куделек в передней, он зашел к ней – решительный:
– Что же ты, мать, мне штаны не купишь? Посмотри – ведь все развалились…Срам ходить на людях!.. – Коленки-то он раздвинул, а штаны на нем уже клочьями ползут; не то, что коленки голые блестят, а зад прикрыть нечем – одна рвань.
Она взглянула на него отважного оборванца, да и шикнула:
– Нечего! Нечего просить у меня! Я не буду тебе штаны покупать, не буду тебя одевать – пока обойдешься!
Он не стерпел – и поднялся:
– Ах, ты так?! Еще за материнской прялкой расписной сидишь, стерва, – и говоришь мне такое! – Хвать из-под нее прялку.
Степанида упала. Но тут же вмиг вскочила да схватила со стола длинный нож кухонный и – на Василия. Не хочет ему уступить. А он, молодец, уже силу набирал (хоть куда!) – нож вывернул из руки у ней, вырвал. Тогда она безмен с гвоздя сдернула, над его головой занесла. Он и безмен у нее перехватил, отнял. С безменом кинулся за ней. Она с одной обутой ногой (другая разутая), раздетая выскочила на улицу с криком. В апрельскую-то распутицу… Ну, старосту немедля привела, чтобы он рассудил их и взбучил его, фармазона. А Василий штаны свои показал ему: мол, посуди, негоже получается… Староста прижал Степаниду – пообещала она при нем же купить одежду Василию. Да едва тот ушел, она снова закусила удила. И снова у Василия с нею поднялся тарарам, да такой, что мачеха, впопыхах похватав свои манатки, побежала опрометью вон. Завыла. Семилетняя Маша, ее дочь родная, на печку забилась со страху, заплакала; а Василий и сказал ей, чтобы успокоить:
– Молчи, я тебя ж не трогаю и не трону вовек, только мать дурную выгнал. Мочи нет терпеть ее!..
Опять пришел староста, привел пожилых мужиков, чтобы урезонить Василия, а тот вышел к ним на крыльцо с топором – непреклонный.
Степанида несколько дней-ночей не приходила домой – не показывалась, но затем забрала Машу к себе – в отсутствие Василия.
Поскольку они никак не возвращались в дом, Василий пригласил жить Трофима с семьей. Тот охотно согласился. Однако впоследствии и с ним все разладилось. Пустяшным, зряшным образом. На Виденье привел Василий абрамковского Цыгана (так того все звали). Они втроем стали выпивать, толковать о чем-то. Керосиновая лампа стояла на краю стола. Василий-то невзначай и зацепил рукой ее – она упала на пол, и разбилось стекло. Вскочил тут Трофим – горячий был, как и папенька не родной:
– А-а, ты такой-сякой, приводишь всяких парней!..
Давай ругаться. И спешно тогда Трофим начал строиться рядом. Строился толково, очень основательно…
Когда же Василий наконец отслужился, объявился дома, Степаниде запонадобилось в суд советский (справедливый по ее соображению) обратиться с иском. Подала она туда (во Ржев) бумагу на раздел жилья, из которого она некогда в бега пускалась. Выкрутасничала она – ой!
И вскоре суд по справедливости присудил ей только одну кухню – то, что на Машу, ее дочку от Федора, полагалось здесь, но не на нее саму, как владелицу-хозяйку, пришедшую, значит, на все готовое сюда, в мужнин дом. Вот как все обернулось. Она, известно, очень просчиталась: разыграла себя такой обиженной (она умела прикинуться такой) перед обществом, перед властью и думала, наверное, что первым номером пойдет, а вышло, что сама себя наказала, высекла. После этого-то они с Машей стали в кухне жить. Отгородились стенкой от Василия. Он лишь прорезал в ней небольшой квадратик-окошко (и вставил затычку), через которое можно было наскоро сообщаться друг с другом и поделиться либо солью, либо спичками, либо мылом…
Был это 1923 год, в который Анна и Василий встретились так памятно.
XV
После такого происшествия Анна наотрез отказывалась от зажиточных неместных женихов, предлагаемых захожими сватами, – невестой она считалась в округе хорошей, видной; когда она стала встречаться с Василием намеренно и на гулянках, ей было как-то просто, легко, словно он обладал каким-то магическим свойством привлекать к себе людей. Скоро ли или нет, и он, робея и очень волнуясь, сделал ей предложение стать его женой; она без раздумья согласилась быть замужем за ним, и он несказанно обрадовался этому: в обиходе с девушками он был чересчур стеснительным и совестливым – он счел еще, что из-за его бунтарской славы (что воевал со зловредной мачехой) уж никто из здешних невестившихся девушек не выйдет замуж за него. И родители-то их будут против него… Нет, Аннины дедушка и бабушка тоже изъявили свое полное согласие с выбором внучки, которую любили. Причем дедушка по-здравому, по-жизненному рассудил:
– Счастье, Аннушка, в твоих руках – ты сумеешь с ним совладать. И здесь, в родной деревне, ты будешь еще заместо матери для своих сестричек младшеньких. Нам-то, старикам, уже не век жить-поживать, пора и меру знать.
Приданого у Анны оказалось немного, а у Василия добра – и того меньше. Гол сокол. И дедушка еще сказал с усмешкой:
– О-о, у нашей родни много везде знакомых. Пойдет по ним внучка – по кусочку наберет, проживет, дай бог!
А Василий тут же и добавил:
– И уж мне кусочек достанется-перепадет…
Так предугаданно и стало. Сестры стали заглядывать к Анне, как к матери, в ее мужний дом:
– Анка, надо это сшить-скроить…
– Аннушка, надо вот что сделать, помоги…
Вскорости свои дети родились – пошли один за другим. Люльку ей тетка Нюша дала – с отцепом. Двое ребят – Наташа и Валера – на таком отцепе качались; потом двое – Антон и Саша – на жердине, какую Василий приладил; трое потом (когда и жердинка эта прикончилась) – Вера, Слава и Таня – в кроватке, собранной им же, отцом. Раз Наташа качала люльку с Верой ногой – и так, оступившись, сама полетела, перекувырнулась и кроватку с сестренкой перекувырнула. Испугались того, что Вера станет поэтому горбатой, не дай бог; по врачам ходили, ездили много раз. Не уберегли, однако, маленького Славу от какой-то болезни – он скончался в один морозный день. Особенно морозный.
Рыцарски молодеческий, веселый и огневой Василий никогда не обижал и не унижал Анну ничем (и никому не позволял), рук не подымал на нее и не пьянствовал, как другие мужики, например, ее брат Николай; а уж работал-то он, пожалуй, за пятерых – везде безотказно поспевал со своею хваткой, общественно-общительный, отзывчивый. Бывало, навезет он из лесу деревьев, нащеплет дранку, продаст ее – и, глядишь, появляется в домашнем хозяйстве нужная покупка. Это все вознаграждало. Ведь семейную жизнь свою Анна и Василий начинали фактически пасынками: без посуды, без белья, без скотины, даже без двора (двор Василий уже после женитьбы достроил и закрыл – покорячился). Василий все, что ни задумывал, готовно делал, мастерил; он и печку топил, и хлеб пек, и коров доил, когда Анна хворала.
– Ишь, какой толковый молодой хозяин-то! – с завистью удивлялся на него и хозяйственный, но прижимистый Трофим, отстроившийся здесь, с краю деревни, причем погубил – поспилил тенистую березовую аллею, где, бывало, хороводились парни и девчата. Он, опускавшийся все больше в пьянство, любил по этой причине пошуметь для порядка, погонять жену и больших уже сыновей и побить в собственной избе стекла – для большего звона. Остепенился он, замкнулся и аж посеребрился, попавши раз вечерней зарей к овину (худому месту) и не уследив, как миновал свой крайний дом, и после того как некое темное приведение здесь сообщило ему какую-то оглушительную для него тайну, наказав никому не открывать ее…
То видение явилось Трофиму перед раскулачиванием его семьи…
Анна в своей семье воспитывалась пуритански строго – нельзя (грех) петь, танцевать. А Василий, напротив, и песельником был – почти всегда работал под песню. Вот он запоет, и Анна скажет ему, что дальше нужно петь по-другому: ведь есть – придуманы – точные слова; но он ей объяснял, что иначе нельзя ему петь – иначе собьется: будет звучать не в ритм его рабочих движений. И такую причуду перенял от него и старший сын Валерий: под песню тоже строгал рубанком.
Без Василия ничего-ничего не обходилось в молодом, становившемся колхозе – по плотницкой ли части, с ремонтом ли земледельческого инвентаря, с казначейским ли учетом или с самодеятельными спектаклями. Чтобы наладить и поднять колхозное хозяйство и дисциплину в нем, проводились ударные дни: если кто почему-либо не вышел на работу – снимались заработанные прежде пять трудодней. Так что пеняй на себя. Председатель ходил по избам – шайки у баб отнимал, если те в рабочее время (а выходных дней прежде не было в деревне) мыли к Спасу полы. И сам пример в труде показывал – работал от зари до зари. Только это покамест мало прибавляло всем достаток. Выдавали-то в колхозе лишь по пять копеек на трудодень (помимо хлеба). Поэтому, понятно, и лыжи-то для Валерия не на что было купить – их подарила ему тетя Тоня. Было тогда всякое.
Привольно жил, к примеру, в обществе сущий паразит (и не один такой) – неграмотный пастух, который не знал счета коров, которых пас по уговору, а верно знал их всех по кличкам – и когда некоторые из них терялись, он каким-то нюхом находил их в конце-концов и возвращал домой. Напьется он, где-нибудь и кувырнется. В какую-нибудь грязную канаву свалится. Вытащат его бабы сердобольные – обсушат и накормят. И назавтра он опять ползет за бутылкой, заговаривается вслух, – нужно ему насосаться снова. И ему прощалось все. А работящего соседа Трофима в 1934 году замели вместе с отпрысками, как презренного кулака-мироеда, такое бельмо на глазу, и притом задарма взяли в колхоз корову, коней, шаповальную машину, граммофон. Скопом набежали любители чужого добра, с руганью делили промеж себя перины, подушки, одеяла, одежду, белье и тащили все с собой, окропляя деревенскую улицу белым птичьим пухом и пером… И в так очищенном доме открыли детский сад, а через год – школу.
Зато к ломливому родичу своему – брату Николаю, как он поженился, вступил в партию, было уж не подступиться Анне: хоть куда он засуровел, отдалился непонятно; он упорно почему-то дулся-злился, топорщился туча-тучей на родных сестер, но в особенности на двух средних. Брюзжал на них, негодниц этаких:
– Во! Вы – не ученые, а в люди выбились, в город по замужеству перебрались; а я, ученый человек, должен, получается, в земле с навозом ковыряться… Ничего себе!..
И уж даже перестал здороваться с ними. В городе, как завидит их, сразу же переходил на другую сторону улицы. Двоюродные сестры-завистницы, играя на его выдающихся чувствах, способностях и знаниях, отворотили его от родных.
Николай уже позднее, знать, зачувствовал, что нужно, припустив свой гонор, помирился хоть с Анной – и тут-то стал роднее для него и Василий тоже. Признал неровню себе! Но мужику-то с мужиком ведь проще разговаривать – меньше деликатничанья, спросу…
Однако Василий, назначенный одновременно казначеем и кладовщиком (народ ему доверял), в то время как Николай был счетоводом, вольностей ему ни в чем не спускал, требовательно одергивал его завсегда, даром, что был меньше его грамотен. Однажды тот, поехав во Ржев по казенным делам, напился и лошадь в пути потерял; его искали повсюду, а он, доплетшись до дому, завалился на печь. Василий, как взошел к нему в избу, так тряхнул его с печи, что в момент выбил всю хмель из него, привел его в чувство. Вот как получалось.
По счастью, близкие, безответные и любезно-понятливые, с излучавшим дивной силой светом любви в маловыцветших с годами глазах, бабушка Дорофея и дедушка Савелий жили долго: она – до 88-ми, он – до 90 лет, пережив свою избранницу всего на год. Их уже знал, помнил даже правнук Валерий: носил, передавал им материнские угощения. Что существенно: в жизни бабушка не знала, как в больницу дверь-то открывается – сроду ничем не болела, на недомогание не жаловалась. Они оба с дедушкой жили и трудились себе на здоровье до последних лет. Только двоюродные сестры-нашептывательницы пилили и за это их внучек – Анну, Зою, Маню, Дуню – всех, кого где залучат. В церкви, случалось, исподтишка то одна из них – пиявка – приклеится, то – другая. С натянуто-скорбным, очень обиженным видом.
– Молите бога за стариков: они у вас, видно, великие грешники – много живут!
– Старики у вас истинно колдуны: все не хотят умирать! Ох-хо-хо!
Дедушка последние годы уже в колхозе работал сторожем. По 120 трудодней вырабатывал он в таком престарелом возрасте – не роптал нисколько. И, когда он стал совсем плох, Дуня, увидевшая это, – она, еще безмужняя, уже больше других сестер приглядывала за обоими стариками, поскольку еще жила в родительском доме, – тотчас кинулась к Николаю и снохе: умоляюще попросила взять его из темной кухни и положить в переднюю светлицу, под образа, которым дед столько поклонялся.
– Ну, ладно, сеструха, давай, – снизошел брат до ее мольбы отчаянной. – Уважу тебя. Пускай он ляжет на бок. Если он перевернется на спину, то умрет… – Вот тебе и красный офицер, и партиец, зачитывался Толстым и вроде б следовал его наставлениям, а бабьи бредни слушал, проповедовал!
Дедушка уж говорить не мог – не отвечал ему; только заморгал глазами, заслезился. И почти немедля же угас – тихо-тихо, с неведомой кротостью.
Возглавлявший колхозную ревизионную комиссию суконный, важный Длиннополов, который подозревал во всех, как стало в моде, сперва врагов своему честолюбию, а затем уж – и советскому строю, и который способен был своей и ничтожно малой властью, однако, скрутить в подобном ошеломляющем подозрении любого весельчака и балагура, бездоказательно заявлял, что Василию Кашину нельзя работать около денег, семенного и прочего фондов: растащит, дескать, все. И сколько раз он вкупе со своими надутыми союзниками пытался непременно поймать Василия на чем-нибудь, чтобы упечь того за решетку. В отместку за его активную неподатливость, популярность среди однодеревенцев и публичное острословие, т.е. попросту противные проявления для склада характера самого Длиннополова, и весь резон. Тем не менее, одно это заслуживало в его глазах суровейшего наказания. Он грозил: