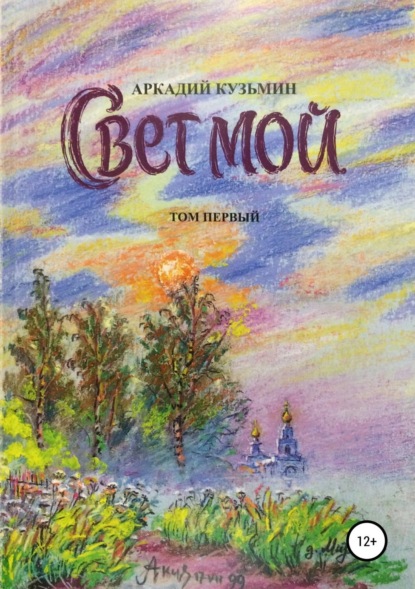По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Свет мой. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– О, японо-бог, для порядка справочники были. О том, как кубатурник правильнее исчислять. К примеру, кубометр мерился не от комля дерева, а от его вершины: так средняя величина без коры совпадает, еще и сбавляется на плотность древесины. Лес, бывает, и меряют в грудь; обхватывают ствол метром, без спросу на кору. Лесник говорит: «Вот тебе сорок кубометров». Просили-то мы сорок, а свалили дерева – получилось, елки-палки, сорок семь кубометров; но семь из них ушло на плотность, ты кумекаешь?
– Не очень-то…
На опушках растет баклушечник – не строевой хвойный, сучковатый лес. А его, пожалуйста, продают. И на дом-избу сейчас и такого не сыщешь: все кругом строятся, ты видишь. Ну и, значит, как мерить по комлю, по верхушке дерева? В среднем рощевой лес – если мерить с корня на шесть метров, то он убавится на два-три сантиметра; потом и дальше еще пили: на стропила или на что еще. Четыре хлыста шестиметровых дадут один кубометр. Есть и на девять метров исчисление кубатуры. Сто десять дерев – сорок пять–сорок семь кубометров. Заклеймил третьим сортом – выйдет сорок кубометров, понял? Оплати погрузку и доставку. Важно, какой транспорт выберешь…
Только ведь, извини, я-то хотел рассказать об одной лошадке, на которой лесовозничал. Мы там были с шестью лошадьми. И у меня – лошадка Монгол. Черной масти. Некрупная. Но она всяко таскала кубометр. Боялась только склонов. Так вот характер: уж Монгол пустой ни за что не пропустит никого вперед на лесной дороге; любую лошадь дровнями прижмет к бредняку, кустам всяким, уши прижмет к себе и как прянет – та коняга, что норовит его обогнать, сама уже прыгает, дорогу уступает… Однажды, перед переездом через реку обледенелую, я не дал сначала Монголу попить: убоялся, что он, если попьет, разгоряченный, то не вытянет воз. И Монгол, верно, обиделся. Уперся, когда переехали речку, и я уже дал ему попить. Не идет. Ломает оглобли. Тогда перепрягли и впрягли Голубку, знаменитую лошадку. Она красивая, сильная, но не взяла подъем. Кольями мы помогали – подтыкали – все равно бесполезно. Ей не хватило сил. «Ну, что ты, Монгол? Давай выручай…» Погладил его поласковей. И вновь его впрягли. И что с ним произошло: он буквально на коленях вполз на берег – и вытащил бревна! Все ахнули. Ну, лошадь какая! С понятием особенным.
«Ну, – говорю ему, – больше прошу, не подводи меня».
– И не подводил?
– Служил он мне мирово, обалденно. Вскоре там же, в Горенках, вышел случай особый. Пройдошливый председатель Михей подбил меня, не обдумавшегося сопляка, на «сущий пустяк», как он сказал: утащить и примчать всего лишь возок сенца. Подсуропел мне «геройство», елки-палки; канючил противно, умасливал:
– В темную смотайтесь. Ты, Сашок, ведь ловок – сумеешь взять…
– Я уши только развесил, весь поджался. Не сумел отбрехаться.
– О нем говорили, помню, окрест, – сказал Антон, – свойский мужик… Хороший…
– Хороший… – усмехнулся Саша. – Но как он колхоз ободрал! Воз туда, воз набок… Его-то и сняли потом. Поменяли тоже на «ни рыба – ни мясо». Что ж, тогда поехал я, дурачок. Полный злости на себя. Поехали в ночь на Монголе. А в том краю и волков прилично развелось: отстрела их не было. Опасно! Мы, стало быть, наскоро нагрузились сеном и помчали обратно. Ночь была снежная, светлая, с ветерком. Луна неполная сквозит. И вот мчимся и, глядь, видим: мать честная, нас уже обкладывают волки! Наш Монголушка как прижал ушки, как припустил по беленой дороге – только держись!.. Волки, должно, хотели перехватить нас в подлеснике – косяком неслись, нагоняли. Но мы успели-таки проскочить их перехват. Увернулись. Благодаря прыти Монгола. А тут видим: впереди огоньки мельтешат. И ветер донес до нас запах гари. Что такое? Домчались ближе. А это маячат срубы новых изб. И в их проемах окон видно горят-тлеют под ветром угли костров, распаленных нарочно ребятами, и людские тени мельтешат. Огни-то эти, видать, и отпугнули волков.
Вот так наш председатель учил, елки-палки, воровать нас, ребят; научил: для общего дела. А в это самое время тертые мужики сидели в тепле, пили самогон и дулись в карты. «Общее дело» было им до фени.
Ну, все, Антон, молчу. Завтра нужно ехать рано в лес, – проговорил Саша вполне в духе отцовского приказа. – Пора. – И затих.
Валерий уже сопел вовсю.
XXII
День-деньской братья пронянчились в лесу с деревами и привозом их и затем с распиловкой их и с щеподралкой. Все по-ладному получалось у них – как задумывалось; сообща дело ладилось, продвигалось. И Антон потом-потом успел и дранку пощепать на станке примитивно рукодельном, и крыть этой дранкой крышу на высоте и поэтому непредвиденно обгореть на летнем солнце – зарумянить не только лицо и руки, но и открытые шею и плечи. И также успел он полюбезничать и сразу подружиться со Светой пятилетней и остепенил раз Сашу, вспылившего скверно на свою жену, вследствие чего братья рассорились, а после нелюбезно напомнил и двоюродному брату Толе, мужчине, восхитившемуся чем-то американским, – напомнил, как тот восхищался некогда, в сорок первом году, и немецкой военной техникой, из-за чего они, пацаны, тогда крепенько подрались – расквасили в кровь лица друг другу. Эта несдержанность, конечно же, мучила в душе Антона, но он ничего не мог поделать с собой.
И выкраивал он минуты для того, чтобы непременно писать этюды масляными или акварельными красками; и, нежно любя, встречался с Оленькой – они ладили друг с другом замечательно. Удивительно-таки: все-все он успевал сделать, не прикладывая к тому каких-то сверхъестественных усилий. Даже попутно складывал в уме отдельные фразы, иногда вслух; слушал, как они им произносились. И зрительно рождались у него образы и герои для большого будущего повествования. И он еще пристыжал себя за неторопливость, за несогласие в душе с чем-то вроде б ясным, очевидным для всех. И говорил-приговаривал себе, подгоняя в иные-то минуты: «Ну же! Вот об этом, главное, немедля пиши, не то все будет позабыто, пораспахано временем. Не будет истории для людей. И никто не узнает ничего. Само нынешнее время подгоняет. Дерзай! Кто же за это-то возьмется кроме тебя? Ну же, давай»!
За эти дни, проведенные на родине, в атмосфере непоказного дружелюбия, Антон многое узнал, увидел, услышал и пообвыкся со здешними людьми, с их образом существования. Ему отчасти льстило, хоть и смущало несколько, то, как местные старожилы называли его уважительно – по имени-отчеству – возможно, и в знак уважения к его мастеровитому и добронравному отцу и к его матери, вообще к их семье, из которой он вышел чувствовать свою вечную молодость и вечную веру в себя и людей.
Правда, если откровенно, Антон по размышлению казался самому себе лишь мальчишкой, не иначе, по сравнению хотя бы со своими братьями; они-то по-мужски думали и делали повседневно все, что касалось устройства жизненных основ, быта. Ему же абсолютно нечем было похвастаться перед ними и на людях (что, выложить альбомчик с набросками или продемонстрировать какие-то надуманные откровения?). В его устремлениях преобладало нечто нереальное, воздушные грезы, не впечатляющие ничем посуровевшую после войны почтенную публику, – все далекое от обыкновенно идущей жизни, требующей хозяйской хватки, ловкости рук. Верно ведь?
И, хотя Антон отчетливо представлял себе, что его братья по большому счету откровенней и, видимо, правильней его живут, без всяких загибонов – сиюминутными заботами, а не чем-то неосуществимым в проекте, может быть, но он-то не мог ни за что побороть в себе искушения в пристрастии к выбору того узкого жизненного направления, которое интуитивно влекло его к себе, что бы ни случилось в дальнейшем. Интуитивно он был среди своего избранного навек пути – не расхолаживался, не сомневался; он добивался того, чтобы был в этом смысл и толк. Ему лишь казалось, что ему нехватало еще решимости, знаний, опыта (потому, наверное, он и чувствовал себя мальчишкой); однако уверенность в том, что он делает все правильно, была в его душе с самого начала. Он не помнил, с каких пор. Но эта уверенность диктовала ему свою волю. Беспредельно.
Да неоспорима разность: его братья лучше – здраво, основательно-житействовали и благоустраивались (на зависть), он же самостно художничал, отдаваясь стихии малоизвестного ремесла, – во благо всем. Всем ли? И еще получится ли у него создать что-то и не быть осмеянным? Вон столько, столько являлось событий новых; все они перемешались вокруг настолько, что уже не вмещались ни в какую плоскую одномерную рамку восприятия. Где начало и конец всего? Эталона нет на этот счет.
Странным-престранным Антону показалось и теперь некое повторение: он вроде б во сне еще дорассказывал Валерию с удивлением о том, что он-то сам находился тогда, в ноябре, под Красным Бором, когда получил от мамы процензуренное письмо, в котором она сообщала, что ты, Валера, сбежав здесь от немцев, вернулся домой в целости. А деревня та стлалась как-то поверху, над стылой речкой, и частично понизу. Там рос дуб толстенный, ветвистый, и все мы, жавшиеся в холодных палатках, еще ховались за его ствол, когда немецкие «мессеры» хищно порыскивали в небе и пообстреливали все, – иных укрытий не было у нас, кочевавших вослед продвигавшемуся вперед фронту.
– Ну и эта деревня, или поселок, Красный Бор, тоже была на пригорке и частью внизу, – вроде б говорил ему Валерий сквозь дремоту. – Да, мы впятером дали деру из лагеря. А уж наши подошли… Но погоди! Я ужо тебе поведаю об этом, говорю…
Но на «погоди» не остается времени нисколечко.
И вот близко бухнул снаряд и разом снес пол-избы. Рассеивался дым пороховой. Что-то собрание решало, гудели голоса. Только возникший у края еще дымящейся глубокой воронки немец-окопник во френче серьезно сказал, что это очень плохой (sehr schlecht) снаряд.
– Почему? (Warum?) – удивился Антон приговору.
И хорошо понял ответ его, профессионала: потому что снаряд зарылся глубоко в мягкую землю, осколки остались в воронке, на дне, и поэтому он не убил никого из вас, мальчишек. Причем немец-солдат жестом показал на них, в том числе и на Антона.
Мол, молите бога…
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
I
Вот под руками ткется нашей жизни полотно. Оно себе ткется, служит, мнется, жухнет – и оно-то дьявольски вдруг кромсается. Отчего даже стонут небеса. Это – рок людских затмений да лукавых же поводырей сладкоречивых, заигравшихся гробовщиков в мировой хаос. В услаждение своих страстей и в умножение невиданных богатств. Из-за чего испокон веков неизменно длится такая воистину дырявая – с жертвоприношениями дьяволу – история у людей. Она нисколько не выправляется. Бес попутывает. И тут совесть – какой спрос с нее? – столь пустячна, эфемерна: право, что тончайшая насквозь усохшая луковичная одежонка. Она вовсе ни к чему. Отчего же, собственно, – ведь только оттого-то и адски загудел и понесся вихрем по Земле всепожирающий огонь Второй Мировой войны, обугливший все. Да ведь и при нынешних миропорядках напроломных совсем скверно думать много лучше, чем происходит что-то наяву в делах наших.
Но вернемся к событиям давним.
Сорокапятилетний Василий Кашин был призван на фронт 17 июля 1941 года, когда уж миллионы евро-немецких солдат очумело, ужасно весело рвались, круша все, вглубь России. Тогда еще под Ржевом, в тылу, казалось, безмятежно-ласково дышал месяц июль, точно жаловал людям на прощание свое тепло – в знак их печального расставания с домом, с близкими, с детством. Тем сильней всех беспокоил тот факт, как угадывалось из скупых сообщений фронтовых сводок, что наши войска все отступали, пятились; они, стало быть, еще не смогли дать должный отпор вероломно напавшему немцу, – вопреки всеобщему ожиданию. Обрушившееся несчастье колебало и веру Василия в силушку народную, мужицкую, в ее опору надежную. Ведь он, как человек военнообязанный и отец многодетный, чувствовал по-мужски свою ответственность за благополучие домашних и других сограждан, ставших внезапно совсем беззащитными в большой беде.
Ужасно! Что же, сдрейфили, дрогнули бойцы спервоначала?! Как помочь?
Накануне своего ухода, погожим днем, Василий привычно косил в последний раз, управляя пароконной упряжкой косилки, буйно разросшийся душистый клевер. Колхозники прежним обычным образом – сообща – убирались в полях, хоть и меньшими теперь силами – по причине постепенного убывания (мобилизацией) мужчин. О самом худшем, однако, никто еще не думал. Не хотелось думать о том.
Двое сынков Василия, притихшие подростки Валерий и Антон, только что подошли к свежевыстреженному им прокосу в клевернике, как он осадил подле них свою упряжку лошадей. Сшагнул наземь с косилки, распрямившись, в потемнелой местами от пота рубашке; провел тыльной стороной ладони по смуглому некрупному лицу, смахнул со лба выступившие капельки. И немедленно усадил темно-кудрого Валеру на дырчатое и пружинистое железное сиденье косилки:
– А ну-ка, сам попробуй! Правь смелей! – И стал учить его премудростям косьбы. Для чего, шагая сбоку стрекочущей косилки, лишь подстраховывал его – поаккуратней заворачивал лошадей на скосах, дабы выкосить почище клевер.
Валерию доходил пятнадцатый год. Он, как старший сын, считался по праву отцовским преемником во всем, даже любимцем. И во всяком деле, навыкая, был предельно собранным, дотошным, устремленным. Отчасти поэтому он важничал перед младшими братьями и сестрами. А при косьбе он особенно старался править вороными, напружаясь всем своим телом и балансируя на большом для себя сиденье косилки, которое, покачиваясь, плыло обок пестрой клеверной делянки. И все, как нужно, делалось и получалось у него. Само собой. Лоснившиеся вороные устало отфыркивались на ходу, раскачивая головой и махая хвостом; ножи косилки стрекотали, подрезая сочные душистые растения; низко ласточки мелькали, вереща; на дороге пыль кружилась, подымаясь фонтанчиком. И вроде бы гром лениво бурчал, обрывался где-то.
Но внезапно проникло с неба и разлилось волной у самой земли тонкое гудение самолета. Тот, казавшийся в заоблачной выси совсем игрушечным, мелком, летел к востоку, когда в окружье его зашлепались белые клубы.
– Ишь, куда забрался пират – не достать его; вишь, зенитчики лупят в белый свет, как в копеечку, – прокартавил, задрав вверх голову, Захар Чуркин – он тоже остановился с сенокосилкой (на перекур). К потному скуластому его лицу также прилипли спутанные, но светлые волосы. Черты лица у него были крупные. И крупные руки, привычные к работе. На нем – пропотелая серая рубаха.
– Ну-ну-ну! – только и проговорил Василий, хмурясь.
Вообще-то Захар был таким же деловым, работящим мужиком, как и многие из окружающих, и счастливо расслабленным в минуты отдыха. Однако он нынче держался в присутствии Василия как-то полуизвинительно – может быть, из-за того, что его отныне будто не хватало на нечто большее, чем простая, обыкновенная работа или чем то, что он говорил. И на лице у него было такое определенное для белобилетника выражение, словно он хотел, чтобы его и так, без слов, поняли и пожалели, и даже посочувствовали ему в его положении. Что ж, он любил по слабости знающе порассуждать о делах военных… нескончаемых…
А вечером Анна и шестеро ребят, сидя около Василия в красном углу избы за большим столом, затаенно, с неизбывной грустью внимали его прощальным словам. Отец еще приободрял всех, волнуясь, говорил (голос у него дрожал) о своей желанной любви к ним, деточкам, просил их в беде держаться вместе, только вместе – вокруг матери, слушаться ее и помогать ей, не ссориться друг с дружкой, на что он будет очень надеяться.
– Я очень-очень верю в вас, соколики мои любимые, помощники мои; вы – мои любезные друзья и ангелы. – Голос у него вздымался. – А тебе, дружок Сашок, извини, скажу вот, что ты не лучший мне друг: ты покуриваешь – балуешься, непослушник!
Десятилетний Саша сидел на скамейке, тупясь, сложа руки на коленях, как нужду платил.
От неожиданного стука в окно Анна, встрепенувшись, повела васильковыми глазами. По-всегдашнему она была с гладким сухим лицом, волосы гладко уложены на затылке. Она, поспешив встать из-за стола, подшагнула к крайнему окну, растворила побольше его створки. Узнав в заоконной синеве нехудого нового приезжего председателя, ставшего им полгода назад (якобы партийного и образованного для этой роли из местных мужчин никого не нашлось), она смешалась:
– Что хотите, Соломон Яковлевич?
И услышала произнесенные им шепотом слова:
– Скажите, Анна, ему, Василию: пусть он потише…
– Что-нибудь случилось? – она понизила голос.