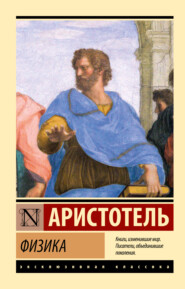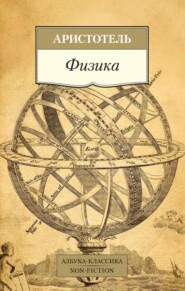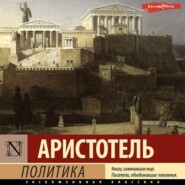По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Этика
Автор
Жанр
Год написания книги
2020
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Этика
Аристотель
Эксклюзивная классика (АСТ)
Что есть благо? Что есть счастье? Что есть добродетель?
Что есть свобода воли и кто отвечает за судьбу и благополучие человека?
Об этом рассуждает сторонник разумного поведения и умеренности во всем, великий философ Аристотель.
До нас дошли три произведения, посвященные этике: «Евдемова этика», «Никомахова этика» и «Большая этика».
Вопрос о принадлежности этих сочинений Аристотелю все еще является предметом дискуссий.
Автором «Евдемовой этики» скорее всего был Евдем Родосский, ученик Аристотеля, возможно, переработавший произведение своего учителя.
«Большая этика», которая на самом деле лишь небольшой трактат, кратко излагающий этические взгляды Аристотеля, написана перипатетиком – неизвестным учеником философа.
И только о «Никомаховой этике» можно с уверенностью говорить, что ее автором был сам великий мыслитель.
Последние два произведения и включены в предлагаемый сборник, причем «Никомахова этика» публикуется в переводе Э. Радлова, не издававшемся ни в СССР, ни в современной России.
В формате a4-pdf сохранен издательский макет книги.
Аристотель
Этика
© Перевод, Т. Миллер, 2020
© Примечания. В. Бибихин, наследники, 2020
© ООО «Издательство АСТ», 2020
Этика. К Никомаху
Книга I
[О благе и блаженстве. Начало учения о добродетелях]
§ 1. Всякое искусство и всякая наука, а также и деятельность и намерение, стремятся к известному благу; поэтому благо хорошо определили так: оно есть то, к чему все стремится. Оказывается, однако, различие целей: они – частью деятельности, частью – независимые от них предметы. В тех случаях, где есть помимо деятельности цель, там предмет ценнее самой деятельности. Цели должны быть разнообразны, так как существуют различные действия, и искусства, и науки: цель врачебного искусства – здоровье, судостроительного – судно, стратегии – победа, экономии – богатство. Те из целей, которые подчинены одной какой-либо способности, как например, умение сделать уздечку и другие необходимые принадлежности упряжи, подчинено уходу за лошадьми точно так же, как все, относящееся к войне, подчинено стратегии (подобное же подчинение существует и в других областях), – во всех этих случаях наиболее архитектонические [то есть общие и важные] цели должны быть предпочтены целям, им подчиненным, потому что ради первых люди прибегают ко вторым. Нет разницы, будет ли цель действий в деятельности или же, помимо последней, в чем-либо ином, как например, в перечисленных науках. Если же есть цель в области, осуществимой деятельностью, к которой мы стремимся ради нее самой, а к другим целям лишь ради нее, и если мы не стремимся ко всему ради чего-либо иного (ибо в таком случае возник бы бесконечный ряд и наше стремление стало бы пустым и тщетным), то ясно, что это именно и есть благо и добро. Познание его имеет важное значение для жизни, ибо не лучше ли тогда мы, как стрелки, ясно видящие цель, достигнем желаемого? Если это так, то следует постараться определить в общих чертах высшее благо и к каким наукам или способностям оно относится. Кажется, что оно относится к наиболее могущественной и архитектонической науке, а такова политика, ибо она определяет науки, в которых нуждаются государства, и каким наукам следует обучаться отдельным лицам и в каких пределах. Кроме того, мы видим, что наиболее уважаемые способности служат ей, как например, стратегия, экономия, риторика. Так как она пользуется остальными науками, имеющими дело с практикой, и так как она сверх того предписывает, что следует делать и от чего воздерживаться, то ее цель, вероятно, охватывает цели всех остальных наук и заключает в себе высшее благо человека, и хотя оно и тождественно для отдельного лица и государства, но кажется, будет делом более великим и совершенным постичь и спасти благо государства; хорошо это уже и для отдельного человека, но прекраснее и совершеннее для целого народа или государства. Итак, вот к чему стремится наша наука, относящаяся к политике: о ней в таком случае достаточно сказано, если объяснение дано настолько, насколько то дозволяет самый предмет, потому что не во всех размышлениях следует искать точности, как например, не следует искать точности в произведениях ремесла. Прекрасное же и справедливое, объекты политической науки, заключают в себе такое различие и неопределенность, что кажутся скорее чем-то условным, нежели абсолютным (по природе). Та же неопределенность господствует и относительно благ, в силу чего они многим приносят вред: некоторых погубило богатство, других – мужество. Имея дело с подобными понятиями и выводами из них, следует довольствоваться указанием истины в общих и крупных чертах, и имея дело с тем, что случается по большей части, также и с выводами из таких посылок, должно стремиться к подобным же заключениям [вероятным]. Эту точку зрения следует прилагать ко всякому отдельному исследованию. Образованный [ «знающий»] человек станет стремиться в каждой отдельной науке только к той степени точности, которую допускает природа исследуемого предмета. Одинаково нелепо, кажется, требовать от математика убеждений красноречивых, а от оратора – точных доказательств.
Всякий судит хорошо о том, что знает, и в этой области он хороший судья; в каждой отдельной области таким является человек науки, а всесторонне образованный человек будет безотносительно хорошим судьей; поэтому-то молодой человек не пригоден к занятию политической наукой, так как он неопытен в делах житейских, а политика именно занята ими и заключениями из них. Сверх того, молодой человек, живущий под влиянием аффектов, станет напрасно и бесполезно слушать лекции по политике, так как цель их – не познание, а практика, деятельность. При этом нет разницы, будет ли слушатель молод годами или иметь юношеский нрав, ибо недостаток – не в годах, а в жизни, управляемой аффектами, и в отсутствии интереса к отвлеченному. Подобного рода людям познание приносит столь же мало пользы, как и невоздержанным. Напротив, познание подобных предметов чрезвычайно полезно людям, подчиняющим свои стремления и свою деятельность разуму.
§ 2. Достаточно сказано относительно слушателя, относительно нашей точки зрения и нашей цели. Вернемся вновь к началу. Так как всякая наука и намерение стремятся к известному благу, то спрашивается: в чем заключается цель политики и каково высшее благо, осуществимое деятельностью? На словах почти все люди согласны между собой: блаженство считается высшим благом как людьми необразованными, так и образованными, а под словом «блаженство» разумеют приятную жизнь и жизнь в довольстве. Но относительно понятия блаженства мнения расходятся, и необразованные люди иначе определяют его, чем мудрецы: одни относят блаженство к ясным и бросающимся в глаза предметам, как например, к наслаждению, или богатству, или почету; другие считают его чем-то иным; часто один и тот же человек определяет блаженство то так, то иначе: больной видит его в здоровье, неимущий – в богатстве; люди, сознающие свое невежество, особенно удивляются тем, кто говорит о чем-то великом и им недоступном. А некоторые думают, что, помимо всех этих благ, существует «благо само по себе», в котором и заключается причина того, что мы считаем перечисленные блага таковыми. Исследовать все мнения, пожалуй, будет бесполезно: достаточно остановиться на самых обычных и имеющих какое-либо основание. Но мы не должны упускать из виду различие методов – идущего от принципов и идущего к принципам. Справедливо поэтому Платон останавливался на этом затруднении и исследовал вопрос, какого метода следует держаться – ведущего ли от принципов, или ведущего к принципам, подобно тому, как можно себя спросить: должен ли бег в стадиях совершаться по направлению к экспертам, назначающим награды, или же, напротив, от них. Начинать следует от известного, а оно двоякого рода: частью известное нам, частью безусловно известное. Пожалуй, что нам следует начинать с того, что нам известно. Здесь-то и лежит причина, почему тот, кто хочет с пользой слушать исследование о прекрасном и справедливом и вообще о политике, должен быть нравственным человеком, ибо началом исследования должно быть понятие нравственности; если оно существует в человеке в достаточной мере, то он не будет нуждаться в исследовании причины, ибо подобный человек сам обладает принципами или легко найдет их; тот же, кто не имеет ни того, ни другого [то есть ни понятия, ни причины], пусть послушает Гесиода:
Тот превосходный человек, кто все сам познал,
Хорош также и тот, кто слушает умные речи.
А тот, кто и сам ни о чем не мыслит и не принимает
к сердцу
Речь другого, тот совершенно бесполезный.[1 - ???????, ???? ??? ‘??????, стихи 293–296.]
§ 3. Вернемся вновь к началу. Не без основания люди образуют понятия блага и блаженства сообразно с жизнью, которую они ведут. Необразованная и грубая толпа видит благо и блаженство в наслаждении и поэтому любит проводить жизнь в удовольствиях. Существуют три наиболее выдающихся образа жизни: только что упомянутый, далее – политический и третий – созерцательный. Итак, большинство людей, отдавая предпочтение животной жизни, тем доказывают свой рабский образ мышления; но они имеют оправдание в том, что многие из людей, живущих в довольстве, сочувствуют Сарданапалу. Люди образованные и деятельные высшим благом считают почести, ибо в них почти исключительно лежит цель политической жизни. Но это определение кажется слишком поверхностным для искомого нами понятия, ибо честь более принадлежит тому, кто ею наделяет, чем тому, кого ею наделяют; мы уже предчувствуем, что благо есть нечто неотъемлемое и свойственное человеку, стремящемуся к нему. Сверх того, ведь люди, кажется, для того стремятся к почестям, чтобы убедить самих себя в своих хороших качествах, поэтому-то они желают уважения людей благомыслящих и знающих их, и уважения ради собственной добродетели. Ясно, что такие люди ставят выше чести добродетель; поэтому-то скорее в этой последней следует видеть цель политической жизни. Но и добродетель, кажется, не есть истинная цель политической жизни, ибо может случиться, что добродетельный человек проспит или будет бездействовать в течение всей жизни, а сверх того, еще будет терпеть всякие невзгоды и несчастия. Такого человека никто не назовет блаженным, разве только защищая свой тезис. Но об этом достаточно уже говорено в энциклических лекциях. Третий образ жизни – созерцательный; к его исследованию мы обратимся позднее. Что же касается образа жизни, посвященного наживе, то он какой-то неестественный и насильственный, и ясно, что богатство не заключает в себе искомого блага, ибо богатство только полезно и служит средством для других целей; поэтому люди скорее признают вышеупомянутые образы жизни целями, ибо к ним мы стремимся ради их самих. Но кажется, и они не суть высшее благо, хотя в пользу их приведены многие доводы. Но этот предмет мы оставим.
§ 4. Может быть, полезнее рассмотреть и исследовать воззрение, полагающее высшее благо в общем [в идее], хотя подобное исследование затруднено тем обстоятельством, что учение об идеях было выставлено людьми, мне близкими. Но лучше для спасения истины оставить без внимания личности, в особенности же следует держаться этого правила философам, и хотя Платон и истина мне дороги, однако священный долг велит отдать предпочтение истине. Философы, впервые установившие учение об идеях, не предполагали существования особых идей в тех случаях, в которых дано временное различие позднейшего от более раннего; поэтому-то они не принимали особых идей для чисел. Благо же относится как к категории бытия, так и к категории качества и отношения, а существующее само по себе по своей природе ранее отношения. Последнее – лишь случайный признак бытия и подобно его отпрыску, так что и эти категории не могут подходить под одну общую идею. Далее, так как благо и бытие подходят под одни и те же категории (в категории бытия, например, оно называется Богом и разумом, в категории качества – добродетелями, в категории количества – мерой; в категории отношения – полезным, в категории времени – удобным случаем, в категории пространства – приятным местопребыванием и т. п.), то ясно, что оно не может быть одной общей идеей, ибо в таком случае благо не походило бы под все категории, а лишь под одну. Далее, относительно всех благ должна бы быть одна наука, так как понятиями, стоящими в одной категории, занята всегда одна наука. В данном случае многие науки заняты понятиями, относящимися к одной категории: так например, благоприятное время в войне исследует стратегия, в болезни – врачебное искусство, меру в пище – врачебное искусство, а в телесном упражнении – гимнастика. К тому же возникает затруднение, что они хотят сказать своей «абсолютной идеей», если понятие «человека самого по себе» и понятие человека [в отдельности] тождественны, ибо, поскольку он человек, он нисколько не отличается от понятия человека «самого по себе». Если это так, то и благо «само по себе» нисколько не отличается от относительного блага. Благо нисколько не станет большим благом в силу того, что оно вечно, точно так же как то, что в течение долгого времени сохраняет белый цвет, нисколько не белее того, что сохранит этот цвет лишь в течение одного дня. В этом случае Пифагорейцы учили, как кажется, более правдоподобно, полагая и единое в число благ. Кажется, что и Спевсипп следовал их мнению. Но об этом будет говорено в другой раз. Что касается сказанного, то возникает некоторое затруднение: речь шла не о всем благе; ведь Платон относил к одному виду то благо, к которому стремятся и которого желают ради его самого, а к другому виду то, которое служит лишь средством создать или сохранить благо или защититься от противоположного зла, этот второй вид существует лишь благодаря первому и называется благом в ином смысле. Итак, ясно, что он понятие блага употреблял в двояком значении, разумея под этим то благо само по себе, то благо относительное. Различив благо само по себе от полезностей, посмотрим, могут ли они быть подведены под одну идею. Но что считать благом самим по себе? Может быть то, что само по себе в отдельности составляет предмет стремлений, как например, мышление или зрение, или известные наслаждения, или почести. Хотя ко всему этому мы стремимся ради иной цели, но все же их в известном смысле можно назвать благом «самим по себе»? Или же ничто не считать таковым, за исключением идеи.
Но в таком случае упомянутое различие становится совершенно напрасным. Если же допустить, что только что названное относится к благу самому по себе, то понятие блага во всех должно быть одним и тем же, как например, понятие белизны в снеге и белилах; однако понятия почести, мышления и наслаждения различны, и различны именно поскольку они суть блага. Итак, благо не есть нечто общее, подходящее под одну идею. Но в каком же смысле употребляется это понятие? Ведь не случайно же столь различное названо одним именем [благом]: может быть потому, что все это вытекает из одного принципа, или же потому, что все направлено к одному принципу, или же по аналогии? Как, например, зрение в теле, так разум в душе и другие тому подобные аналогии. Но может быть, следует оставить теперь эту тему; более точное исследование ее относится к другой части философии. Оставим также и идеи, потому что если бы даже и было благо, существующее само по себе и употребляемое как общее сказуемое, то ясно, что оно не осуществимо и для человека не достижимо. Мы же желаем теперь найти достижимое благо. Но может быть, кому-либо покажется полезным познание идеи блага для различения достижимых практических благ: имея как бы пример, мы тем легче узнаем относительные блага человека, и если будем знать благо само по себе, то тем легче достигнем относительных благ. Этот довод имеет известного рода убедительность, но не подтверждается науками, ибо они, стремясь к определенному благу, стараются найти именно это и пренебрегают познанием блага самого по себе; с другой стороны, и нелепо предположить, чтобы все практики (????????) пренебрегали подобной помощью и не старались о ее приобретении. К тому же неясно, какого рода помощь может подать познание блага самого по себе ткачу или плотнику в их ремесле, и почему бы тот, кто познал идею саму по себе, стал лучшим врачом или полкoводцем. Ведь врач не с этой [идеальной] точки зрения рассматривает здоровье вообще, а здоровье человека, и притом именно известного человека, ибо лечит он каждого в отдельности.
§ 5. Но об этом достаточно сказано. Вернемся вновь к исследуемому нами понятию блага и посмотрим, что оно такое? Оно различно в различных деятельностях и искусствах. Оно одно во врачебном искусстве, другое в стратегии, и подобным же образом иное в остальных. Что же считать благом для каждой отдельной деятельности? Не то ли, ради чего все остальное предпринимается? А это во врачебном искусстве – здоровье, в стратегии – победа, в строительном искусстве – дом, а в других – нечто другое, во всех же действиях и намерениях – цель, ибо все ради цели предпринимают остальное. Так что если все действия имеют одну цель, то она-то и будет осуществимое благо, если же несколько, то они будут таковыми. Наше рассуждение иным путем опять пришло к тому же самому результату, и его-то должно постараться сделать еще более ясным. Так как существуют различные цели, из которых мы одни выбираем лишь как средства, например богатство, флейту и вообще все инструменты, то ясно, что не все цели одинаково совершенны, высшее же благо кажется чем-то совершенным, так что если есть одна совершенная цель, то она и должна быть искомою нами; если же их несколько, то совершеннейшая из них будет искомою нами. То, к чему стремятся ради него самого, мы называем более совершенным в сравнении с тем, к чему стремятся лишь как к средству, а то, что никогда не бывает средством для чего-либо иного, мы называем более совершенным в сравнении с тем, к чему стремятся то как к цели самой по себе, то как к средству; безусловно же совершенным мы называем то, к чему всегда стремятся как к цели самой по себе и никогда как к средству; блаженство более всего кажется чем-то подобным, ибо его мы всегда избираем как цель и никогда как средство; к почести же, наслаждению, разуму и всей добродетели мы стремимся то как к целям (ибо мы выбрали бы каждое отдельное из перечисленных явлений, даже если бы не имели от них никакой пользы), то ради блаженства, считая их средствами к блаженству; блаженства же никто не выбирает ради этого или как средство к чему-либо иному. То же самое следует из понятия самоудовлетворенности (?????????): совершенное благо должно удовлетворять само себя. Когда мы говорим о самоудовлетворенности, то мы не разумеем здесь нечто такое, что удовлетворяло бы человека, живущего исключительно для себя, жизнью одинокого, а такое, что удовлетворило бы и родителей, детей, жену и вообще друзей и соотечественников, так как человек по своей природе существо политическое. Однако необходимо положить известный предел этим отношениям, ибо если распространить их и на родителей, и на все наше потомство, и на друзей наших друзей, то получится бесконечный ряд. Это мы рассмотрим после, а под понятием самоудовлетворенности будем разуметь то, что само по себе делает жизнь желанной и ни в чем не нуждающейся; нечто подобное и есть, как мы полагаем, блаженство. Сверх того, блаженство, будучи более желанным, чем все остальное, не есть нечто сложное [из отдельных благ], ибо ясно, что в таком случае достаточно бы прибавить самое незначительное благо, чтобы сделать блаженство еще более желанным, ибо эта прибавка создала бы перевес благ, а всегда большее благо в то же время и более желательно. Таким образом, блаженство, будучи целью человеческой деятельности, представляется чем-то совершенным и самоудовлетворяющимся.
§ 6. Однако соглашаясь с тем, что блаженство прекрасно, можно желать более ясного определения понятия; этого же мы, может быть, достигнем, если определим назначение человека. Подобно тому, как музыкант или скульптор и всякий художник, или даже вообще всякий человек, занятый каким-либо делом, в этом своем деле видит благо и [находит] удовлетворение, точно то же можно бы думать и относительно человека вообще, если только у него есть какое-либо назначение. Но неужели же плотник и сапожник имеют известного рода назначение и дело, а человек по природе не имеет назначения? Не вероятнее ли, что как глаз, или рука, или нога, или вообще всякий член имеет свое назначение, точно так же и человек, помимо всего этого, имеет свое специальное назначение? В чем же оно состоит? Жизнь свойственна и растениям, а мы ищем специально принадлежащее [человеку]: итак, мы должны выделить жизнь питательную и растительную. Следующий вид жизни – чувствующий; но и он свойствен как лошади, так и быку, и вообще всем животным. Остается деятельная жизнь разумного существа, притом такого, которое частью повинуется разуму, частью же владеет разумом и мышлением. А так как разумная жизнь понимается в двояком смысле, то мы должны разуметь здесь деятельную, ибо последней более соответствует название разумной. Итак, назначение человека – в разумной деятельности или, по крайней мере, не в неразумной деятельности души; при этом мы употребляем понятие назначения в родовом значении тождественно с индивидуальным значением, например, для хорошего человека; подобно тому, как мы сказали бы, что назначение играющего на кифаре и хорошо играющего на кифаре тождественны, и это безусловно верно во всех случаях: мы только к самой деятельности прибавляем превосходство мастерского выполнения; так, про играющего на кифаре мы говорим, что его назначение играть на кифаре, про хорошо играющего – играть мастерски на кифаре. Точно так же мы назначение человека видим в известного рода жизни, а именно – состоящей в разумной душевной энергии и деятельности, а назначение хорошего человека – в хорошем и прекрасном выполнении этой деятельности, каждое же действие тогда хорошо, когда оно сообразуется со специально относящейся к нему добродетелью. Итак, ежели все это справедливо, то благо человека заключается в деятельности души, сообразной с добродетелью, а если добродетелей несколько, то в деятельности, сообразной с лучшей и совершеннейшей добродетелью, и притом в течение всей жизни, ибо «одна ласточка еще не делает весны», как не делает ее и один день; точно так же один день или короткое время еще не делает человека счастливым или блаженным.
§ 7. Удовлетворимся таким определением блага, потому что сначала достаточно определить его в общих чертах, а потом уже описать его подробнее; всякий, кажется, в состоянии расчленить и довести до конца описание того, что хорошо определено в общих чертах; в таком деле время является добрым указателем и помощником; этим объясняются успехи искусств и ремесел, ибо всякий в состоянии добавить недостающее. Должно при этом вспомнить сказанное раньше и не стремиться к одинаковой точности во всех исследованиях, а в каждом отдельном удовлетворяться точностью, допускаемой исследуемым предметом и специальным методом исследования. Ведь различным же образом исследуют прямую линию плотник и геометр: первый настолько, настолько это полезно для его дела, второй же исследует понятие прямой и ее свойства: так как он интересуется истиной [не пользой]. Таким же образом следует поступать и в остальном, для того чтобы, по пословице, второстепенного не было больше, чем относящегося к делу. Не следует также во всем одинаково требовать указания причины, а в некоторых случаях достаточно указать на понятие (?? ???), как например, когда дело идет о принципах, ибо понятие и есть начало исследования; одни принципы определяются путем наведения, другие – ощущением, третьи – известного рода привычкой, иные же другими средствами. Метод исследования принципов должно стараться сообразовать с их природой и особенно стараться о верном их определении, ибо они имеют громадное значение по отношению к следствиям; кажется, что начатое дело – наполовину сделанное дело, и многие исследования становятся ясными благодаря началам.
§ 8. Мы должны исследовать высшее благо не только путем умозаключения и посылок, но и обращать внимание на то, что сказано о нем [философами], ибо все действительно существующее согласуется с истиной, и не истинное тотчас выделяется от истинного. Блага делятся на три группы: на так называемые внешние, на психические и телесные; психические блага наиболее важные – и их по преимуществу мы называем благами. Действия же и психическую энергию мы относим к области души. Итак, можно утверждать, что наше определение верно, так как оно согласно с древним, принятым философами, определением, но столь же справедливо и утверждение, что цель [человеческой жизни] заключается в известных действиях и энергии, ибо таким образом цель помещена в число душевных благ, а не внешних; это наше определение подтверждается еще и тем, что про блаженного говорится, что он счастливо живет и успевает в жизни; при этом под счастливой жизнью разумеют успешную деятельность.
§ 9. Кажется, различные мнения, высказанные относительно блаженства, сходятся со сказанным нами: одни видят блаженство в добродетели, другие – в здравомыслии, третьи – в мудрости, четвертые – во всем этом вместе в связи с наслаждением или, по крайней мере, не без наслаждения; некоторые вносят в число условий блаженства и внешнее благосостояние. Одну часть этих мнений защищают многие древние философы, другую – хотя и не многие, но знаменитые. Невероятно, чтобы и те и другие в своих мнениях во всем ошибались; вероятнее, что то или другое или даже большая часть вопросов решалась ими верно. Что касается тех, которые считают блаженство добродетелью [вообще] или одной специальной добродетелью, то наше определение с ними согласуется, ибо деятельность, сообразная с добродетелью, причастна добродетели; но немаловажно различие в понимании высшего блага – как обладания или как пользования, как приобретенного качества души или же как энергии [деятельности]: ведь хорошее качество может быть в человеке, но бездействовать, как например, в спящем или по какой-либо иной причине бездеятельном. С энергией этого не может быть, ибо она по необходимости действует и стремится к благу. И подобно тому как на Олимпийских играх награждаются венцом не самые красивые и самые сильные, а принимавшие участие в состязаниях (ибо в их числе находятся победители), точно так же и в жизни только те достигают ????????????, которые действуют. Зато жизнь таких людей сама по себе приятна, ибо наслаждение – душевное состояние, и каждому приятно только то, что он любит; так, человеку, любящему лошадей, нравятся лошади, любящему зрелища – нравится театр; точно так же все справедливое нравится человеку, любящему справедливость, и вообще всякая добродетель нравится человеку, любящему добродетель. Наслаждения большинства людей, правда, противоречат друг другу вследствие того, что их наслаждения не суть таковые по природе, напротив того, люди, любящие прекрасное, наслаждаются тем, что по своей природе способно доставить наслаждение, а к таким предметам должно причислить действия, сообразные с добродетелью: они-то и нравятся подобным людям и прекрасны сами по себе. Жизнь таких людей вовсе не нуждается в наслаждении, как в каком-то украшении, ибо содержит в себе наслаждение. Сверх всего сказанного, тот человек нехорош, который не восхищается прекрасными поступками, точно так же, как никто не назовет справедливым того, кто не восхищается справедливыми поступками, или же щедрым того, кто не восхищается щедростью. Это справедливо и в других случаях. Если это так, то и действия, сообразные с добродетелью, должны быть сами по себе приятными, а сверх того, и хорошими и прекрасными, и притом каждое из указанных качеств им свойственно в высшей мере, если только верно наше утверждение, что о таких действиях судить хорошо в состоянии лишь хороший человек. Итак, блаженство лучше всего, прекраснее и приятнее всего, и эти три качества в нем нераздельны, как в эпиграмме в Делосе, которая гласит:
Справедливость прекраснее всего, лучше всего здоровье,
А приятнее всего – достичь того, что любишь.
Все это соединено в действиях, сообразных с добродетелью, а они-то или одни из них – наиболее высокие, и суть блаженство, как мы утверждаем. Однако кажется, что блаженство все же нуждается, как мы сказали, и во внешних благах, ибо невозможно или трудно человеку неимущему делать прекрасные дела, и многое может быть осуществлено лишь при помощи, так сказать, инструментов, то есть друзей, богатства и политического влияния: при отсутствии известных условий, как например, благородного происхождения, хороших детей, красоты, блаженство неполно; тот, конечно, не очень пригоден к блаженству, у кого вид непристойный, или кто неблагородного происхождения, или холост, или бездетен, а еще менее пригоден тот, дети коего и друзья или совсем дурны, или же если они, бывши хорошими, умерли. Итак, кажется, что блаженство нуждается, как мы сказали, и в подобной тщете; отсюда и возникает то, что одни приравнивают блаженство к внешним условиям счастья, а другие – к добродетели.
§ 10. Отсюда является затруднение объяснить, как возникает блаженство: можно ли ему научиться, или приобрести привычкой, или другим каким путем, или же оно дается какой-то божественной судьбой, или даже просто случаем. Конечно, если боги наделили чем-либо человека, то следует и блаженство считать даром богов, и тем более, что оно есть лучшее, чем владеют люди. Этот вопрос лучше рассмотреть в другом месте, но если бы даже блаженство не было даром богов, а приобретено было добродетелью, или обучением, или упражнением, то все же оно останется чем-то божественным. Ибо кажется, что цель и награда добродетели должны быть чем-то прекрасным, божественным и блаженным. В таком случае блаженство есть цель, общая всем, ибо все, не совсем лишенные добродетелей, в состоянии достичь его известным обучением и трудом. И если это справедливо, то лучше стать блаженными этим путем, чем случаем, а весьма вероятно, что оно справедливо, если только справедливо, что все в природе наилучшим образом приспособлено. То же самое можно сказать про создания искусства и всякой вообще причины, а тем более высшей причины; было бы ошибочно предоставить все лучшее и величайшее случаю; это явствует и из определения исследуемого нами объекта: ведь сказано, что блаженство состоит в известного рода деятельности, сообразной с добродетелью. Что касается остальных благ, то они частью необходимы, частью же играют роль пособий, полезностей и средств. Все это согласно с тем, что сказано в начале: там мы высказали мысль, что цель политики – наиболее высокая; ее главная забота состоит в том, чтобы придать гражданам известного рода хорошие качества и сделать их людьми, поступающими прекрасно; поэтому-то мы и не называем ни быка, ни лошадь, ни другое какое-либо животное блаженным, ибо ни одно из них не в состоянии принять участие в подобной деятельности. По этой же самой причине и ребенок не блажен, потому что он, в силу своего возраста, не может действовать подобным образом, а если же мы и назовем его блаженным, то лишь в надежде на будущее; поэтому необходима, как мы сказали, совершенная добродетель и совершенная жизнь, а так как жизнь подвержена многим изменениям и разнообразным случайностям, то может произойти, что на того, кому очень хорошо жилось, под старость обрушатся несчастья, как например, рассказывают в героических песнях про Приама; человека, испытавшего подобные бедствия и умершего в несчастии, никто не назовет счастливым.
§ 11. А может быть, вообще ни одного человека не следует считать счастливым, пока он живет, и должно, по выражению Солона, смотреть на конец. Но если даже и так, то спрашивается: может ли быть счастливым тот, кто умер? Не совершенно ли это нелепо, особенно для нас, полагающих блаженство в деятельности? Но даже если бы мы и не называли умершего счастливым и если Солон не это хотел сказать, а лишь то, что только тогда можно безошибочно назвать человека блаженным, когда он находится вне всяких несчастий и бедствий, даже и в этом случае остается некоторое затруднение. Ведь, кажется, и для умершего есть своего рода зло и благо, как например, почести или бесчестие, счастье или несчастье детей или вообще потомства, точно так же, как для человека живого, но не чувствующего [например, спящего]. Но вот и еще затруднение: человек, до старости счастливо живший и в счастье умерший, может подвергнуться разным превратностям судьбы по отношению к потомкам: одни из них могут быть людьми хорошими и получить в удел жизнь по заслугам, другие – наоборот; ясно, что их судьба во многом может отличаться от судьбы родителей; нелепо в таком случае и умершего подвергать превратностям судьбы и делать его то счастливым, то вновь несчастным; с другой стороны, утверждать, что нет никакой связи и ни в какое время между судьбой родителей и их потомков – также нелепо. Но вернемся к первому затруднению; может быть, оно уяснит нам и настоящее [затруднение]. Если же должно взирать на конец и считать каждого блаженным не постольку, поскольку он теперь блажен, а поскольку он ранее был таким, то как же избежать нелепости, что человеку счастливому в настоящее время нельзя приписать качества принадлежащего ему, не впадая в ошибку, и это только вследствие нехотения назвать счастливыми живущих, памятуя о превратностях судьбы и считая блаженство чем-то твердым и неизменным, в то время как одни и те же люди подвержены круговороту судьбы. Ясно, что если мы будем следовать за судьбами, то нам часто придется одного и того же называть то счастливым, то опять несчастным, и мы сделаем из блаженства своего рода хамелеона и нечто, не имеющее прочного основания.
Или, может быть, совершенно неверно сообразовать наше суждение с изменениями судьбы: ведь не в них состоит счастье или несчастье; они лишь нужны, как мы сказали, для человеческой жизни, в то время как блаженством управляет деятельность, сообразная с добродетелью, злополучием же – противоположное. Только что высказанное затруднение свидетельствует об истинности нашего определения, ибо ни в каком другом деле не проявляется настолько человеческая твердость и постоянство, как в действиях, сообразных с добродетелью; она нам кажется даже постояннее, чем науки; из подобных действий те ценятся выше всего, которые наиболее постоянны, ибо в них по преимуществу проходит жизнь блаженных людей. В этом, кажется, лежит причина, почему они [то есть подобные действия] не забываются. Итак, блаженный будет обладать искомым качеством, и он будет таковым в течение всей жизни, ибо он всегда или, по крайней мере, по большей части будет действовать и мыслить сообразно с добродетелью, а превратности судьбы отлично будет переносить, как вообще человек во всех отношениях хороший, про которого можно сказать, что он «совершенный и безупречный». Человеческая жизнь полна различных, частью больших, частью малых случайностей. Ясно, что незначительные счастливые случайности и также, наоборот, незначительные беды не имеют важности в жизни; зато большие и частые счастливые случайности делают жизнь более блаженной (так как они сами по себе украшают жизнь, а кроме того, ими можно воспользоваться для хороших и добрых дел), напротив того, великие бедствия уменьшают и омрачают блаженство, ибо они создают печаль и препятствуют многим действиям. Но и в таких обстоятельствах может проявиться прекрасная душа, как скоро человек станет бодро переносить великие и частые бедствия, и не вследствие равнодушного характера, а в силу благородства и великодушия. Если жизнь зависит от деятельности, как мы сказали, то ни один блаженный не может стать несчастным, ибо никогда не станет делать ненавистное и дурное.
Мы думаем, что тот истинно хороший и благомыслящий человек, кто с некоторым достоинством переносит превратности судьбы и всегда при известных данных обстоятельствах поступает наилучшим образом, подобно хорошему полководцу, который с предоставленным ему войском достигает наибольших военных успехов, или подобно хорошему сапожнику, который из данной ему кожи сошьет наилучшие сапоги; это справедливо и относительно остальных художников и ремесленников. Если это так, то счастливый никогда не может стать несчастным; он не станет и блаженным, если на него обрушатся несчастия Приама, однако все же не будет переменчивым, и нелегко будет лишить его блаженства случайными несчастьями, а разве только великими и часто повторяющимися; но, раз впав в несчастье, он не станет в короткое время вновь счастливым, разве только если ему удастся совершить великие и прекрасные дела в течение долгого и непрерывного времени. Итак, что мешает нам назвать счастливым человека, действующего сообразно с совершенной добродетелью, в достаточной мере наделенного внешними благами и притом действующего не в течение какого-либо срока, а в течение всей жизни? Или же следует прибавить: человека, жившего так и умершего так, ввиду того, что грядущее нам не ясно, а блаженство мы считаем целью во всех отношениях законченной? Если так, то блаженными, и притом блаженными людьми, мы назовем тех, которые имеют или будут иметь указанные качества. Пусть будет достаточно сказанного об этих вопросах. Все же, однако, кажется противоречащим общепринятым мнениям – вовсе не принимать в расчет судьбу потомков и всех друзей. Так как превратности судьбы различаются как количественно, так и качественно, и так как одни из них имеют большее значение, другие – меньшее, то распределение их на группы покажется обширной и даже бесполезной задачей; достаточно будет дать несколько общих точек зрения в крупных чертах. Одни несчастья имеют известное значение и влияние на нашу жизнь, а другие менее важны; то же должно сказать и о всех несчастьях, касающихся наших друзей; но разница в том, обрушится ли несчастье на живущего или на умершего, разница гораздо большая, чем в том случае, когда мы видим ужасы и беззакония в трагедии, или совершающимися в действительности. Должно, значит, принять в расчет и это различие, и еще большее затруднение – причастны ли вообще умершие к счастью или к несчастью. Из того, что сказано, следует, что даже если бы счастье и несчастье касалось хоть сколько-нибудь умерших, то все же лишь немного или незначительно, и притом это участие их или безусловно незначительно, или же таково лишь для них. А если же даже и не так, то все же это участие не настолько велико, чтобы сделать их из счастливых несчастными или же у блаженных отнять блаженство.
Итак, кажется, что благоденствие и бедствия друзей хоть несколько касаются умерших, но, однако, не настолько, чтобы сделать их из счастливых несчастными, или вообще не настолько, чтоб изменить их состояния.
§ 12. Разъяснив это, рассмотрим вопрос, следует ли блаженство относить к предметам, заслуживающим похвалы, или же скорее к предметам, заслуживающим уважения. Ясно, что оно не относится к возможностям. Все, что хвалимо, представляется известным качеством и хвалится по отношению к чему-либо. Справедливого, храброго и вообще хорошего человека и добродетель мы хвалим за их действия и дела, точно так же и сильного или быстрого и так далее мы хвалим за их качества и за то, что они имеют известное отношение к благу и к нравственному совершенству. Ясно это и из похвал, обращаемых к богам: они покажутся смешными в приложении к ним, и это потому, что всякая похвала возникает, как мы сказали, из известного отношения. Если такова природа похвалы, то она не приложима к самым высоким предметам, а им, как кажется, свойственно нечто большее и лучшее, ибо богов мы не хвалим, а почитаем блаженными и счастливейшими, точно так же мы почитаем блаженными и наиболее божественных людей. То же самое можно сказать и о благах. Никто не хвалит блаженства или справедливости, а считают их чем-то божественным и превосходным, чем-то стоящим выше всяких похвал. По этой-то причине и Евдокс справедливо причислил наслаждение к прекраснейшим предметам; он полагал, что оно лучше, чем предметы, заслуживающие похвалы, так как его не хвалят, хотя оно и принадлежит к числу благ; Божество и высшее благо он относил туда же, так как все остальное зависит от них. Похвала же принадлежит добродетели, ибо она делает нас способными ко всему прекрасному; хвалебные же гимны относятся в одинаковой мере как к душевной, так и к физической деятельности. Но рассмотрение этого вопроса скорее относится к науке, исследующей хвалебные гимны [риторике]. Для нас же ясно, что блаженство относится к предметам, заслуживающим уважения, и притом безусловно. Это следует, как кажется, и из того, что блаженство – начало [принцип], ибо к нему мы направляем всю нашу деятельность. Принцип же и причину благ мы называем чем-то божественным и заслуживающим уважения.
§ 13. Если блаженство состоит в душевной деятельности, сообразной с добродетелью, то мы должны исследовать добродетель; может быть, что мы тогда лучше поймем и природу блаженства. Кажется также, что истинный государственный человек более всего заботится о добродетели, ибо он хочет сделать граждан хорошими людьми, повинующимися законам: примером нам могут служить законодатели Крита и Лакедемона и другие, равные им по значению. Если этот вопрос относится к политике, то ясно, что наше рассуждение следует пути, которого мы намеревались держаться. Если мы говорим, что нужно исследовать понятие добродетели, то конечно, мы разумеем человеческую добродетель, ибо ведь мы исследуем благо человеческое и блаженство человеческое; но говоря о человеческой добродетели, мы разумеем не телесную, а душевную: ведь и блаженство мы определили как душевную деятельность. Если это так, то ясно, что политик должен в то же время знать несколько психологию, подобно тому, как тот, кто хочет лечить глаз, должен знать строение всего тела, и притом эти сведения для первого настолько необходимее, насколько политика выше врачебного искусства, поэтому образованные врачи усердно занимаются познанием тела. Итак, и политик должен заняться психологией, и притом заняться ради своего предмета, но настолько, насколько достаточно для исследуемого им объекта, ибо более подробное и внимательное занятие психологией отвлекло бы его только от его непосредственной задачи. Некоторые отделы психологии в достаточной мере изложены в экзотерических лекциях, и ими можно воспользоваться; например, можно заимствовать положение, что одна часть души неразумна, другая же разумна. Для настоящего исследования не имеет значения вопрос, отделимы ли эти части подобно членам тела и подобно всему протяженному, или же они не отделимы, и только мышление разложило их на два понятия, подобно тому, как в круге неотделимы выпуклая от вогнутой стороны линии. Одна часть неразумной души – растительная – обща всем существам: я разумею причину питания и роста; эту душевную способность необходимо принять во всем, что питается, и даже в эмбрионах, но ее же с большим основанием, чем какую-либо иную, должно принять и в существах вполне развитых. Итак, добродетель этой части души обща всем существам, а не специально человеческая. Кажется, что эта часть и способность человеческой души более всего деятельна во время сна; и хороший, и дурной человек менее всего проявляются во сне, почему и говорят, что половина жизни счастливых людей ничем не отличается от жизни несчастных, и это весьма естественно, ибо сон есть бездействие именно той способности души, в силу которой она называется хорошей или дурной; разница только в том случае, когда кое-какие слабые движения достигают все же души, и поэтому сновидения порядочных людей становятся худшими, чем других каких-либо. Но достаточно об этом. Оставим в стороне питательную часть души, так как она не имеет отношения к человеческой добродетели. Кажется, что и еще одна сторона души неразумна, хотя и стоит в известном отношении к разуму. Ведь хвалим же мы в человеке воздержанном и невоздержанном разум и разумную часть души, ибо он побуждает к истине и прекрасному. Но есть в этих людях, как кажется, нечто другое, помимо разума, что борется и противодействует ему. Как члены тела, разбитые параличом, повертываются в левую сторону, когда человек намерен передвинуть их вправо, точно то же происходит и в душе невоздержанных людей, страсти которых влекут их в сторону противоположную [разуму]. Разница только в том, что в теле мы видим это обратное движение, в душе же не видим; тем менее, однако, нужно будет и в душе признать нечто помимо разума, что противодействует ему и идет наперекор. Дальнейшие различия нас здесь не касаются.
Однако, как мы сказали, это нечто причастно разуму, ибо у людей воздержанных оно повинуется разуму, а у людей умеренных и мужественных оно повинуется тем охотнее, что в них все согласуется с разумом. Итак, и неразумная часть души двоякая: растительная, нисколько не причастная разуму, и страстная или, вообще говоря, стремящаяся, причастная, поскольку она повинуется разуму и слушает его: так [мы повинуемся] инстинктивно разуму отца или друзей. Наставления и вообще всякая похвала и хула указывают на то, что неразумная часть души несколько повинуется разуму. Итак, если следует допустить, что и эта часть души причастна разуму, то необходимо признать и разум двояким: с одной стороны, разумом властвующим и владеющим, с другой – повинующимся как бы отеческой власти. Следуя этому различию, нужно разделить и добродетель: одни добродетели мы назовем дианоэтическими [интеллектуальными], другие – этическими [волевыми] добродетелями характера. Мудрость, разумность и благоразумие мы отнесем к дианоэтическим, щедрость и умеренность – к этическим добродетелям. Говоря о характере кого-либо, мы не назовем его мудрым или разумным, а кротким или умеренным, а хвалим мы также и мудрого за приобретенное им качество. Добродетелями вообще мы называем похвальные приобретенные свойства души.
Книга II
[Разделение и определение добродетелей. Оправдание определения на примерах этических добродетелей]
§ 1. Итак, добродетель бывает двоякой: частью дианоэтической, частью этической. Дианоэтическая добродетель возникает и развивается по преимуществу путем обучения, почему и нуждается в опыте и во времени; этическая же слагается путем привычек; от них-то она и получила свое название, так как оно образовано мелким изменением слова «нрав» (????). Отсюда ясно, что ни одна этическая добродетель не дается нам от природы, ибо ни одно качество, данное природой, не может измениться под влиянием привычки, подобно тому как камень, имеющий от природы движение вниз, вряд ли может привыкнуть двигаться вверх, даже если кто-либо и захочет приучить его к тому, бросая его десять тысяч раз вверх; точно так же и огонь не привыкнет гореть вниз, и вообще говоря, ни один предмет не меняет своих естественных качеств под влиянием привычки. Следовательно, добродетели не даются нам от природы и не возникают помимо природы, но мы от природы имеем возможность приобрести их, путем привычек же приобретаем их в совершенстве. Вообще, все, что мы имеем от природы, то мы первоначально получаем лишь в виде возможностей и впоследствии преобразуем их в действительности. Это ясно на ощущениях; ведь не потому, что мы часто пользовались зрением или слухом, возникают в нас соответственные органы ощущений, но, наоборот, мы пользуемся ими, потому что имеем их, а не потому получаем их, что пользовались ими. Также и добродетели приобретаем мы путем предшествующей им деятельности, как вообще все искусства; ибо то, что мы должны делать научившись, этому мы научаемся деятельностью, например, архитектор [научается своему искусству] – строя дома, артист на кифаре – играя на кифаре. Точно так же мы становимся и справедливыми – творя справедливые дела, умеренными – действуя с умеренностью, мужественными поступая мужественно. Подтверждается это явлениями государственной жизни: ведь законодатели делают граждан хорошими путем привычек, и стремление всякого законодателя направлено именно к этому. Те законодатели ошибаются, которые не обращают должного внимания на привычки, и именно этим хорошее государственное устройство отличается от дурного. Далее, тем же самым путем и средствами, которыми возникает всякая добродетель и искусство, оно и гибнет. Игра на кифаре образует как хороших, так и дурных музыкантов; то же и относительно архитекторов и всех остальных, ибо хорошими архитекторами станут те, которые будут хорошо строить дома, дурными – те, которые станут это делать дурно. Если б это было не так, то не нужны были бы учителя и все сразу становились бы хорошими или дурными. То же самое и относительно добродетелей, ибо люди, поступая так, как это принято во взаимных отношениях, становятся частью справедливыми, частью – несправедливыми. Действуя в опасных положениях и привыкнув или испытывать страх, или же быть мужественным, одни становятся мужественными, другие – трусами. Так же дело обстоит и относительно страстей и наклонностей: одни становятся умеренными и кроткими, другие – невоздержанными и гневливыми, благодаря тому, что одни при данных обстоятельствах поступали так, а другие иначе. Одним словом, из одинаковых определенных деятельностей возникают им соответственные [приобретенные] свойства. Поэтому-то следует влиять на характер деятельности, ибо приобретенные свойства души зависят от различия деятельностей. Поэтому немаловажно, приучен ли кто-либо с первой молодости к тому или другому, напротив, это очень важно; от этого зависит все.
§ 2. Так как наша наука не имеет целью теорию [знание], как другие науки (ведь не для того мы рассуждаем, чтобы знать, что такое добродетель, а для того, чтобы стать хорошими людьми: в противном случае наука наша была бы бесполезною), то необходимо рассмотреть все, что связано с деятельностью человека, чтоб определить, как следует поступать, ибо, как мы сказали, от нашей деятельности зависят качества характера, приобретаемые нами. Что касается правила, что в деятельности должно следовать истинному разуму, то оно пригодно как общее положение, и о нем будет говорено позднее, а также и о том, что такое истинный разум и как он относится к другим добродетелям. Однако в том мы заранее должны согласиться, что всякое рассуждение, касающееся деятельности человека, обязано давать лишь общие, а не точные определения, как мы и говорили с самого начала, что должно требовать определения, сообразного с исследуемым предметом. Исследования же, касающиеся деятельности и понятия пользы, не представляют ничего твердого, как и исследования, относящиеся к здоровью. Если это справедливо даже относительно общего, то тем менее точности может заключать в себе исследование частных явлений, ибо они не могут быть определены никаким искусством или правилом, и каждый отдельный человек в своей деятельности должен иметь в виду обстоятельства точно так же, как и во врачебном искусстве и искусстве управления кораблем. Несмотря на это, должно оказать помощь настоящему исследованию. Должно, во?первых, обратить внимание на то, что подобные [вышеупомянутые] явления уничтожают сами себя недостатком или избытком. Мы должны при этом пользоваться указаниями ясного и конкретного для объяснения отвлеченного (??????): это мы видим, например, по отношению к телесной силе или здоровью: слишком усиленное или недостаточное занятие гимнастикой губит телесную силу, точно так же и недостаточная или излишняя пища и питье губят здоровье, в то время как пользование ими в меру рождает, сохраняет и увеличивает здоровье. Так же дело обстоит и относительно умеренности (?????????), мужественности и других добродетелей, ибо тот, кто избегает и боится всего и ничего не испытал, тот становится трусом, а тот, кто ничего не боится и идет на все, становится безумно-отважным; точно так же тот становится невоздержанным, кто предается всякому наслаждению и ни от одного не удерживается; напротив, человек, избегающий всякого наслаждения, становится бесстрастным (???????????), как аскет (о? ????????). Умеренность и мужество в одинаковой мере гибнут от избытка и недостатка, в то время как середина спасает их. Но не только зарождение, рост и гибель стоят под этими условиями и зависят от них, но и проявление этих добродетелей заключается в том же самом. Ведь это видно на других, более наглядных примерах, как например, на телесной силе: возникает она вследствие достаточного питания и больших физических трудов, и, с другой стороны, сильный станет к этому наиболее способным. То же самое и относительно добродетелей: мы становимся умеренными, воздерживаясь от удовольствий, но, став такими, мы будем наиболее способными воздерживаться от удовольствий. То же и относительно мужества: привыкая презирать опасности, мы становимся мужественными, а став таковыми, более всего будем способны противостоять опасностям. Наслаждение и страдание, сопутствующие деятельности, свидетельствуют о том, что указанные приобретенные свойства души возникают из деятельности, ибо тот умеренный человек, кто находит наслаждение в воздержании от чувственных удовольствий; тот, напротив, невоздержанный, кто при этом испытывает неудовольствие, и тот мужествен, кому доставляет наслаждение или, по крайней мере, не доставляет страдания противостоять опасностям; напротив, тот трус, кто при этом испытывает неудовольствие. Этическая добродетель имеет дело с наслаждением и страданием, ибо ради наслаждения мы поступаем дурно и вследствие страдания не выполняем прекрасного; поэтому-то и необходимо, как говорит Платон, тотчас с молодости вести человека так, чтоб он радовался, чему следует, и испытывал страдание, когда следует; в этом-то и заключается истинное воспитание. Далее, и из того уже ясно, что добродетель имеет дело с наслаждением и страданием, что добродетели касаются деятельности и аффектов, а всякому действию сопутствует наслаждение или страдание. Это же доказывают и наказания, действующие страданием: ведь наказание известного рода лечение, а лечение производится противоположным. Далее, мы уже ранее сказали, что всякое приобретенное качество души проявляется и имеет дело с тем, в силу чего качество становится худшим или лучшим; наслаждение же и страдание делают людей дурными в силу того, что они стремятся и избегают их, притом стремятся к тому, к чему не следовало бы стремиться, и избегают того, чего не следовало бы избегать, или делают это не вовремя, или не так, как следовало и так далее по всем категориям, которые разум применяет к подобным явлениям. Поэтому-то некоторые и определяют добродетель, как известного рода апатию и душевное спокойствие. Ошибка их заключается лишь в том, что говорят они это безусловно, не добавляя к этому определению положительных и отрицательных признаков, не указывая обстоятельств и вообще не давая более близких определений. Следовательно, добродетель есть то, что делает человека способным к совершенной деятельности по отношению к наслаждению и страданию, порочность же – противоположное. Сверх того, еще и следующее обстоятельство уяснит нам, что добродетель имеет дело с наслаждением и страданием: три понятия определяют наш выбор и наше уклонение от него: прекрасное, полезное и приятное, и три противоположных понятия: некрасивое, вредное и неприятное. Во всем этом хороший человек находит истину, дурной же ошибается, и в особенности по отношению к наслаждению, ибо это последнее обще всем животным и сопряжено, как следствие, со всем тем, относительно чего существует выбор; прекрасное и полезное в то же время и приятно. К тому же наслаждение смолоду возрастает вместе с нами, и чрезвычайно трудно уничтожить в себе это состояние, которым проникнута вся жизнь. Наслаждением и страданием управляются все наши действия, одни более, другие менее. Итак, вся этика необходимо должна рассматривать наслаждение и страдание, ибо немаловажно для деятельности, хорошо радоваться и страдать или дурно. Сверх того, с наслаждением бороться, говорит Гераклит, труднее, чем с гневом, а искусство и добродетели всегда имеют дело с тем, что трудно, и совершенство в этой сфере выше. Итак, и из этого обстоятельства можно заключить, что вся наука о добродетели и политика имеют дело с наслаждением и страданием; тот хороший человек, кто хорошо ими пользуется, а кто дурно, тот дурной. Итак, запомним, что добродетель имеет дело с наслаждением и страданием, что те же самые условия, в силу которых добродетель возникает, увеличивают ее или, если они действуют не надлежащим образом, губят ее, и что добродетель проявляется именно в том, из чего возникла.
§ 3. Но может быть, кого-либо затруднит то, что мы говорим, что человек становится справедливым, творя дела справедливости, и умеренным, поступая с умеренностью; если же он творит дела справедливости и умеренности, то он уже и суть справедливый и умеренный, подобно тому как люди, знающие грамматику и музыку, и суть грамматики и музыканты. Но разве дело, хотя бы в искусствах, обстоит так? Ведь может же кто-либо писать верно по правилам грамматики по случаю или по указанию кого-либо иного; он будет лишь тогда грамматиком, когда он пользуется верно грамматикой, сознавая грамматические правила, то есть когда он воспользуется правилами грамматики, находящимися в его сознании. Далее, есть разница между искусствами и добродетелями; в произведениях искусства совершенство лежит в них самих, и достаточно, чтоб эти произведения возникли сообразно правилам, лежащим в самом искусстве; недостаточно, однако, добродетельным действиям иметь известные качества, чтобы вместе с тем назвать их справедливыми и умеренными: необходимо, чтобы действующее лицо во время деятельности имело известное душевное состояние (??? ????): во?первых, чтоб оно действовало сознательно, во?вторых, с намерением, и притом с таким намерением, которое считало бы эти действия целью самой по себе [а не средством], и в?третьих, чтоб это лицо твердо и неизменно держалось известных принципов в своей деятельности. Все эти условия не перечисляются в других искусствах, за исключением одного условия – знания. Знание же имеет малое значение или вовсе его не имеет по отношению к добродетели, другие же условия немаловажны, но, напротив, составляют все. Эти-то условия и возникают в нас от частого повторения справедливых и умеренных действий. Итак, действия называются тогда справедливыми и умеренными, когда они таковые, какие мог бы совершить справедливый и умеренный человек; справедливый же и умеренный человек не тот, кто поступает так [ибо он мог бы поступать так и случайно], но тот, кто поступает так, как справедливые и умеренные. Итак, верно, что справедливым человек становится, творя дела справедливости, а умеренным – поступая с умеренностью, а без подобной деятельности пусть никому и в голову не приходит стать хорошим человеком. Большинство же людей не поступают так, а прибегая к теории, думают, что, философствуя, они могут стать людьми нравственными; точно так же поступают больные, которые внимательно выслушивают врачей, но ни в чем не следуют их предписаниям: как тело людей, лечащихся таким образом, не будет в хорошем состоянии, так и души тех, которые подобным образом философствуют [а не действуют].
§ 4. После этого следует рассмотреть, что такое добродетель. Душевные движения бывают троякого рода: аффекты (????), способности (????????) и приобретенные свойства (?????). Добродетель должна относиться к одной из этих групп. Аффектами я называю страсть, гнев, страх, отвагу, зависть, радость, дружбу, ненависть, желание, ревность, сожаление – одним словом, все то, чему сопутствует удовольствие или страдание. Под способностями я разумею то, что содержит в себе причину, в силу которой мы имеем эти аффекты, например, в силу чего мы способны испытывать гнев, или печаль, или сожаление. Приобретенными же свойствами души я называю то, в силу чего мы верно или дурно относимся к аффектам, например, к гневу: если мы слишком отдаемся ему или слишком мало отдаемся ему, то мы поступаем дурно; если же придерживаемся середины, то – хорошо, и подобным образом относительно других аффектов. Аффекты не суть ни добродетели, ни пороки, ибо ведь мы не в силу наших аффектов называемся хорошими и дурными, а называемся таковыми в силу добродетелей или пороков, и ведь нас не хвалят и не хулят за наши аффекты (ведь не хвалят же человека, испытывающего страх, и не безусловно хулят гневающегося, а лишь известным образом гневающегося), а за добродетели и пороки нас хвалят или хулят. Далее, гневаемся мы и страшимся не преднамеренно, добродетели же суть известного рода намерения или, по крайней мере, не без намерения. Сверх всего этого, мы говорим, что аффекты нас побуждают к деятельности, про добродетели же и пороки не говорится, что они побуждают нас к деятельности, а что мы находимся в известном состоянии. В силу того же самого добродетели и не суть способности, ибо нас не называют хорошими или дурными единственно в силу того, что мы способны к аффектам, и нас за это не хвалят и не хулят. Далее, способности мы получаем от природы, хорошими же или дурными мы не становимся от природы, как мы об этом ранее говорили. Итак, если добродетели не суть ни аффекты, ни способности, то остается лишь признать их приобретенными качествами души. Этим определено, что такое добродетель по своему родовому понятию.
Аристотель
Эксклюзивная классика (АСТ)
Что есть благо? Что есть счастье? Что есть добродетель?
Что есть свобода воли и кто отвечает за судьбу и благополучие человека?
Об этом рассуждает сторонник разумного поведения и умеренности во всем, великий философ Аристотель.
До нас дошли три произведения, посвященные этике: «Евдемова этика», «Никомахова этика» и «Большая этика».
Вопрос о принадлежности этих сочинений Аристотелю все еще является предметом дискуссий.
Автором «Евдемовой этики» скорее всего был Евдем Родосский, ученик Аристотеля, возможно, переработавший произведение своего учителя.
«Большая этика», которая на самом деле лишь небольшой трактат, кратко излагающий этические взгляды Аристотеля, написана перипатетиком – неизвестным учеником философа.
И только о «Никомаховой этике» можно с уверенностью говорить, что ее автором был сам великий мыслитель.
Последние два произведения и включены в предлагаемый сборник, причем «Никомахова этика» публикуется в переводе Э. Радлова, не издававшемся ни в СССР, ни в современной России.
В формате a4-pdf сохранен издательский макет книги.
Аристотель
Этика
© Перевод, Т. Миллер, 2020
© Примечания. В. Бибихин, наследники, 2020
© ООО «Издательство АСТ», 2020
Этика. К Никомаху
Книга I
[О благе и блаженстве. Начало учения о добродетелях]
§ 1. Всякое искусство и всякая наука, а также и деятельность и намерение, стремятся к известному благу; поэтому благо хорошо определили так: оно есть то, к чему все стремится. Оказывается, однако, различие целей: они – частью деятельности, частью – независимые от них предметы. В тех случаях, где есть помимо деятельности цель, там предмет ценнее самой деятельности. Цели должны быть разнообразны, так как существуют различные действия, и искусства, и науки: цель врачебного искусства – здоровье, судостроительного – судно, стратегии – победа, экономии – богатство. Те из целей, которые подчинены одной какой-либо способности, как например, умение сделать уздечку и другие необходимые принадлежности упряжи, подчинено уходу за лошадьми точно так же, как все, относящееся к войне, подчинено стратегии (подобное же подчинение существует и в других областях), – во всех этих случаях наиболее архитектонические [то есть общие и важные] цели должны быть предпочтены целям, им подчиненным, потому что ради первых люди прибегают ко вторым. Нет разницы, будет ли цель действий в деятельности или же, помимо последней, в чем-либо ином, как например, в перечисленных науках. Если же есть цель в области, осуществимой деятельностью, к которой мы стремимся ради нее самой, а к другим целям лишь ради нее, и если мы не стремимся ко всему ради чего-либо иного (ибо в таком случае возник бы бесконечный ряд и наше стремление стало бы пустым и тщетным), то ясно, что это именно и есть благо и добро. Познание его имеет важное значение для жизни, ибо не лучше ли тогда мы, как стрелки, ясно видящие цель, достигнем желаемого? Если это так, то следует постараться определить в общих чертах высшее благо и к каким наукам или способностям оно относится. Кажется, что оно относится к наиболее могущественной и архитектонической науке, а такова политика, ибо она определяет науки, в которых нуждаются государства, и каким наукам следует обучаться отдельным лицам и в каких пределах. Кроме того, мы видим, что наиболее уважаемые способности служат ей, как например, стратегия, экономия, риторика. Так как она пользуется остальными науками, имеющими дело с практикой, и так как она сверх того предписывает, что следует делать и от чего воздерживаться, то ее цель, вероятно, охватывает цели всех остальных наук и заключает в себе высшее благо человека, и хотя оно и тождественно для отдельного лица и государства, но кажется, будет делом более великим и совершенным постичь и спасти благо государства; хорошо это уже и для отдельного человека, но прекраснее и совершеннее для целого народа или государства. Итак, вот к чему стремится наша наука, относящаяся к политике: о ней в таком случае достаточно сказано, если объяснение дано настолько, насколько то дозволяет самый предмет, потому что не во всех размышлениях следует искать точности, как например, не следует искать точности в произведениях ремесла. Прекрасное же и справедливое, объекты политической науки, заключают в себе такое различие и неопределенность, что кажутся скорее чем-то условным, нежели абсолютным (по природе). Та же неопределенность господствует и относительно благ, в силу чего они многим приносят вред: некоторых погубило богатство, других – мужество. Имея дело с подобными понятиями и выводами из них, следует довольствоваться указанием истины в общих и крупных чертах, и имея дело с тем, что случается по большей части, также и с выводами из таких посылок, должно стремиться к подобным же заключениям [вероятным]. Эту точку зрения следует прилагать ко всякому отдельному исследованию. Образованный [ «знающий»] человек станет стремиться в каждой отдельной науке только к той степени точности, которую допускает природа исследуемого предмета. Одинаково нелепо, кажется, требовать от математика убеждений красноречивых, а от оратора – точных доказательств.
Всякий судит хорошо о том, что знает, и в этой области он хороший судья; в каждой отдельной области таким является человек науки, а всесторонне образованный человек будет безотносительно хорошим судьей; поэтому-то молодой человек не пригоден к занятию политической наукой, так как он неопытен в делах житейских, а политика именно занята ими и заключениями из них. Сверх того, молодой человек, живущий под влиянием аффектов, станет напрасно и бесполезно слушать лекции по политике, так как цель их – не познание, а практика, деятельность. При этом нет разницы, будет ли слушатель молод годами или иметь юношеский нрав, ибо недостаток – не в годах, а в жизни, управляемой аффектами, и в отсутствии интереса к отвлеченному. Подобного рода людям познание приносит столь же мало пользы, как и невоздержанным. Напротив, познание подобных предметов чрезвычайно полезно людям, подчиняющим свои стремления и свою деятельность разуму.
§ 2. Достаточно сказано относительно слушателя, относительно нашей точки зрения и нашей цели. Вернемся вновь к началу. Так как всякая наука и намерение стремятся к известному благу, то спрашивается: в чем заключается цель политики и каково высшее благо, осуществимое деятельностью? На словах почти все люди согласны между собой: блаженство считается высшим благом как людьми необразованными, так и образованными, а под словом «блаженство» разумеют приятную жизнь и жизнь в довольстве. Но относительно понятия блаженства мнения расходятся, и необразованные люди иначе определяют его, чем мудрецы: одни относят блаженство к ясным и бросающимся в глаза предметам, как например, к наслаждению, или богатству, или почету; другие считают его чем-то иным; часто один и тот же человек определяет блаженство то так, то иначе: больной видит его в здоровье, неимущий – в богатстве; люди, сознающие свое невежество, особенно удивляются тем, кто говорит о чем-то великом и им недоступном. А некоторые думают, что, помимо всех этих благ, существует «благо само по себе», в котором и заключается причина того, что мы считаем перечисленные блага таковыми. Исследовать все мнения, пожалуй, будет бесполезно: достаточно остановиться на самых обычных и имеющих какое-либо основание. Но мы не должны упускать из виду различие методов – идущего от принципов и идущего к принципам. Справедливо поэтому Платон останавливался на этом затруднении и исследовал вопрос, какого метода следует держаться – ведущего ли от принципов, или ведущего к принципам, подобно тому, как можно себя спросить: должен ли бег в стадиях совершаться по направлению к экспертам, назначающим награды, или же, напротив, от них. Начинать следует от известного, а оно двоякого рода: частью известное нам, частью безусловно известное. Пожалуй, что нам следует начинать с того, что нам известно. Здесь-то и лежит причина, почему тот, кто хочет с пользой слушать исследование о прекрасном и справедливом и вообще о политике, должен быть нравственным человеком, ибо началом исследования должно быть понятие нравственности; если оно существует в человеке в достаточной мере, то он не будет нуждаться в исследовании причины, ибо подобный человек сам обладает принципами или легко найдет их; тот же, кто не имеет ни того, ни другого [то есть ни понятия, ни причины], пусть послушает Гесиода:
Тот превосходный человек, кто все сам познал,
Хорош также и тот, кто слушает умные речи.
А тот, кто и сам ни о чем не мыслит и не принимает
к сердцу
Речь другого, тот совершенно бесполезный.[1 - ???????, ???? ??? ‘??????, стихи 293–296.]
§ 3. Вернемся вновь к началу. Не без основания люди образуют понятия блага и блаженства сообразно с жизнью, которую они ведут. Необразованная и грубая толпа видит благо и блаженство в наслаждении и поэтому любит проводить жизнь в удовольствиях. Существуют три наиболее выдающихся образа жизни: только что упомянутый, далее – политический и третий – созерцательный. Итак, большинство людей, отдавая предпочтение животной жизни, тем доказывают свой рабский образ мышления; но они имеют оправдание в том, что многие из людей, живущих в довольстве, сочувствуют Сарданапалу. Люди образованные и деятельные высшим благом считают почести, ибо в них почти исключительно лежит цель политической жизни. Но это определение кажется слишком поверхностным для искомого нами понятия, ибо честь более принадлежит тому, кто ею наделяет, чем тому, кого ею наделяют; мы уже предчувствуем, что благо есть нечто неотъемлемое и свойственное человеку, стремящемуся к нему. Сверх того, ведь люди, кажется, для того стремятся к почестям, чтобы убедить самих себя в своих хороших качествах, поэтому-то они желают уважения людей благомыслящих и знающих их, и уважения ради собственной добродетели. Ясно, что такие люди ставят выше чести добродетель; поэтому-то скорее в этой последней следует видеть цель политической жизни. Но и добродетель, кажется, не есть истинная цель политической жизни, ибо может случиться, что добродетельный человек проспит или будет бездействовать в течение всей жизни, а сверх того, еще будет терпеть всякие невзгоды и несчастия. Такого человека никто не назовет блаженным, разве только защищая свой тезис. Но об этом достаточно уже говорено в энциклических лекциях. Третий образ жизни – созерцательный; к его исследованию мы обратимся позднее. Что же касается образа жизни, посвященного наживе, то он какой-то неестественный и насильственный, и ясно, что богатство не заключает в себе искомого блага, ибо богатство только полезно и служит средством для других целей; поэтому люди скорее признают вышеупомянутые образы жизни целями, ибо к ним мы стремимся ради их самих. Но кажется, и они не суть высшее благо, хотя в пользу их приведены многие доводы. Но этот предмет мы оставим.
§ 4. Может быть, полезнее рассмотреть и исследовать воззрение, полагающее высшее благо в общем [в идее], хотя подобное исследование затруднено тем обстоятельством, что учение об идеях было выставлено людьми, мне близкими. Но лучше для спасения истины оставить без внимания личности, в особенности же следует держаться этого правила философам, и хотя Платон и истина мне дороги, однако священный долг велит отдать предпочтение истине. Философы, впервые установившие учение об идеях, не предполагали существования особых идей в тех случаях, в которых дано временное различие позднейшего от более раннего; поэтому-то они не принимали особых идей для чисел. Благо же относится как к категории бытия, так и к категории качества и отношения, а существующее само по себе по своей природе ранее отношения. Последнее – лишь случайный признак бытия и подобно его отпрыску, так что и эти категории не могут подходить под одну общую идею. Далее, так как благо и бытие подходят под одни и те же категории (в категории бытия, например, оно называется Богом и разумом, в категории качества – добродетелями, в категории количества – мерой; в категории отношения – полезным, в категории времени – удобным случаем, в категории пространства – приятным местопребыванием и т. п.), то ясно, что оно не может быть одной общей идеей, ибо в таком случае благо не походило бы под все категории, а лишь под одну. Далее, относительно всех благ должна бы быть одна наука, так как понятиями, стоящими в одной категории, занята всегда одна наука. В данном случае многие науки заняты понятиями, относящимися к одной категории: так например, благоприятное время в войне исследует стратегия, в болезни – врачебное искусство, меру в пище – врачебное искусство, а в телесном упражнении – гимнастика. К тому же возникает затруднение, что они хотят сказать своей «абсолютной идеей», если понятие «человека самого по себе» и понятие человека [в отдельности] тождественны, ибо, поскольку он человек, он нисколько не отличается от понятия человека «самого по себе». Если это так, то и благо «само по себе» нисколько не отличается от относительного блага. Благо нисколько не станет большим благом в силу того, что оно вечно, точно так же как то, что в течение долгого времени сохраняет белый цвет, нисколько не белее того, что сохранит этот цвет лишь в течение одного дня. В этом случае Пифагорейцы учили, как кажется, более правдоподобно, полагая и единое в число благ. Кажется, что и Спевсипп следовал их мнению. Но об этом будет говорено в другой раз. Что касается сказанного, то возникает некоторое затруднение: речь шла не о всем благе; ведь Платон относил к одному виду то благо, к которому стремятся и которого желают ради его самого, а к другому виду то, которое служит лишь средством создать или сохранить благо или защититься от противоположного зла, этот второй вид существует лишь благодаря первому и называется благом в ином смысле. Итак, ясно, что он понятие блага употреблял в двояком значении, разумея под этим то благо само по себе, то благо относительное. Различив благо само по себе от полезностей, посмотрим, могут ли они быть подведены под одну идею. Но что считать благом самим по себе? Может быть то, что само по себе в отдельности составляет предмет стремлений, как например, мышление или зрение, или известные наслаждения, или почести. Хотя ко всему этому мы стремимся ради иной цели, но все же их в известном смысле можно назвать благом «самим по себе»? Или же ничто не считать таковым, за исключением идеи.
Но в таком случае упомянутое различие становится совершенно напрасным. Если же допустить, что только что названное относится к благу самому по себе, то понятие блага во всех должно быть одним и тем же, как например, понятие белизны в снеге и белилах; однако понятия почести, мышления и наслаждения различны, и различны именно поскольку они суть блага. Итак, благо не есть нечто общее, подходящее под одну идею. Но в каком же смысле употребляется это понятие? Ведь не случайно же столь различное названо одним именем [благом]: может быть потому, что все это вытекает из одного принципа, или же потому, что все направлено к одному принципу, или же по аналогии? Как, например, зрение в теле, так разум в душе и другие тому подобные аналогии. Но может быть, следует оставить теперь эту тему; более точное исследование ее относится к другой части философии. Оставим также и идеи, потому что если бы даже и было благо, существующее само по себе и употребляемое как общее сказуемое, то ясно, что оно не осуществимо и для человека не достижимо. Мы же желаем теперь найти достижимое благо. Но может быть, кому-либо покажется полезным познание идеи блага для различения достижимых практических благ: имея как бы пример, мы тем легче узнаем относительные блага человека, и если будем знать благо само по себе, то тем легче достигнем относительных благ. Этот довод имеет известного рода убедительность, но не подтверждается науками, ибо они, стремясь к определенному благу, стараются найти именно это и пренебрегают познанием блага самого по себе; с другой стороны, и нелепо предположить, чтобы все практики (????????) пренебрегали подобной помощью и не старались о ее приобретении. К тому же неясно, какого рода помощь может подать познание блага самого по себе ткачу или плотнику в их ремесле, и почему бы тот, кто познал идею саму по себе, стал лучшим врачом или полкoводцем. Ведь врач не с этой [идеальной] точки зрения рассматривает здоровье вообще, а здоровье человека, и притом именно известного человека, ибо лечит он каждого в отдельности.
§ 5. Но об этом достаточно сказано. Вернемся вновь к исследуемому нами понятию блага и посмотрим, что оно такое? Оно различно в различных деятельностях и искусствах. Оно одно во врачебном искусстве, другое в стратегии, и подобным же образом иное в остальных. Что же считать благом для каждой отдельной деятельности? Не то ли, ради чего все остальное предпринимается? А это во врачебном искусстве – здоровье, в стратегии – победа, в строительном искусстве – дом, а в других – нечто другое, во всех же действиях и намерениях – цель, ибо все ради цели предпринимают остальное. Так что если все действия имеют одну цель, то она-то и будет осуществимое благо, если же несколько, то они будут таковыми. Наше рассуждение иным путем опять пришло к тому же самому результату, и его-то должно постараться сделать еще более ясным. Так как существуют различные цели, из которых мы одни выбираем лишь как средства, например богатство, флейту и вообще все инструменты, то ясно, что не все цели одинаково совершенны, высшее же благо кажется чем-то совершенным, так что если есть одна совершенная цель, то она и должна быть искомою нами; если же их несколько, то совершеннейшая из них будет искомою нами. То, к чему стремятся ради него самого, мы называем более совершенным в сравнении с тем, к чему стремятся лишь как к средству, а то, что никогда не бывает средством для чего-либо иного, мы называем более совершенным в сравнении с тем, к чему стремятся то как к цели самой по себе, то как к средству; безусловно же совершенным мы называем то, к чему всегда стремятся как к цели самой по себе и никогда как к средству; блаженство более всего кажется чем-то подобным, ибо его мы всегда избираем как цель и никогда как средство; к почести же, наслаждению, разуму и всей добродетели мы стремимся то как к целям (ибо мы выбрали бы каждое отдельное из перечисленных явлений, даже если бы не имели от них никакой пользы), то ради блаженства, считая их средствами к блаженству; блаженства же никто не выбирает ради этого или как средство к чему-либо иному. То же самое следует из понятия самоудовлетворенности (?????????): совершенное благо должно удовлетворять само себя. Когда мы говорим о самоудовлетворенности, то мы не разумеем здесь нечто такое, что удовлетворяло бы человека, живущего исключительно для себя, жизнью одинокого, а такое, что удовлетворило бы и родителей, детей, жену и вообще друзей и соотечественников, так как человек по своей природе существо политическое. Однако необходимо положить известный предел этим отношениям, ибо если распространить их и на родителей, и на все наше потомство, и на друзей наших друзей, то получится бесконечный ряд. Это мы рассмотрим после, а под понятием самоудовлетворенности будем разуметь то, что само по себе делает жизнь желанной и ни в чем не нуждающейся; нечто подобное и есть, как мы полагаем, блаженство. Сверх того, блаженство, будучи более желанным, чем все остальное, не есть нечто сложное [из отдельных благ], ибо ясно, что в таком случае достаточно бы прибавить самое незначительное благо, чтобы сделать блаженство еще более желанным, ибо эта прибавка создала бы перевес благ, а всегда большее благо в то же время и более желательно. Таким образом, блаженство, будучи целью человеческой деятельности, представляется чем-то совершенным и самоудовлетворяющимся.
§ 6. Однако соглашаясь с тем, что блаженство прекрасно, можно желать более ясного определения понятия; этого же мы, может быть, достигнем, если определим назначение человека. Подобно тому, как музыкант или скульптор и всякий художник, или даже вообще всякий человек, занятый каким-либо делом, в этом своем деле видит благо и [находит] удовлетворение, точно то же можно бы думать и относительно человека вообще, если только у него есть какое-либо назначение. Но неужели же плотник и сапожник имеют известного рода назначение и дело, а человек по природе не имеет назначения? Не вероятнее ли, что как глаз, или рука, или нога, или вообще всякий член имеет свое назначение, точно так же и человек, помимо всего этого, имеет свое специальное назначение? В чем же оно состоит? Жизнь свойственна и растениям, а мы ищем специально принадлежащее [человеку]: итак, мы должны выделить жизнь питательную и растительную. Следующий вид жизни – чувствующий; но и он свойствен как лошади, так и быку, и вообще всем животным. Остается деятельная жизнь разумного существа, притом такого, которое частью повинуется разуму, частью же владеет разумом и мышлением. А так как разумная жизнь понимается в двояком смысле, то мы должны разуметь здесь деятельную, ибо последней более соответствует название разумной. Итак, назначение человека – в разумной деятельности или, по крайней мере, не в неразумной деятельности души; при этом мы употребляем понятие назначения в родовом значении тождественно с индивидуальным значением, например, для хорошего человека; подобно тому, как мы сказали бы, что назначение играющего на кифаре и хорошо играющего на кифаре тождественны, и это безусловно верно во всех случаях: мы только к самой деятельности прибавляем превосходство мастерского выполнения; так, про играющего на кифаре мы говорим, что его назначение играть на кифаре, про хорошо играющего – играть мастерски на кифаре. Точно так же мы назначение человека видим в известного рода жизни, а именно – состоящей в разумной душевной энергии и деятельности, а назначение хорошего человека – в хорошем и прекрасном выполнении этой деятельности, каждое же действие тогда хорошо, когда оно сообразуется со специально относящейся к нему добродетелью. Итак, ежели все это справедливо, то благо человека заключается в деятельности души, сообразной с добродетелью, а если добродетелей несколько, то в деятельности, сообразной с лучшей и совершеннейшей добродетелью, и притом в течение всей жизни, ибо «одна ласточка еще не делает весны», как не делает ее и один день; точно так же один день или короткое время еще не делает человека счастливым или блаженным.
§ 7. Удовлетворимся таким определением блага, потому что сначала достаточно определить его в общих чертах, а потом уже описать его подробнее; всякий, кажется, в состоянии расчленить и довести до конца описание того, что хорошо определено в общих чертах; в таком деле время является добрым указателем и помощником; этим объясняются успехи искусств и ремесел, ибо всякий в состоянии добавить недостающее. Должно при этом вспомнить сказанное раньше и не стремиться к одинаковой точности во всех исследованиях, а в каждом отдельном удовлетворяться точностью, допускаемой исследуемым предметом и специальным методом исследования. Ведь различным же образом исследуют прямую линию плотник и геометр: первый настолько, настолько это полезно для его дела, второй же исследует понятие прямой и ее свойства: так как он интересуется истиной [не пользой]. Таким же образом следует поступать и в остальном, для того чтобы, по пословице, второстепенного не было больше, чем относящегося к делу. Не следует также во всем одинаково требовать указания причины, а в некоторых случаях достаточно указать на понятие (?? ???), как например, когда дело идет о принципах, ибо понятие и есть начало исследования; одни принципы определяются путем наведения, другие – ощущением, третьи – известного рода привычкой, иные же другими средствами. Метод исследования принципов должно стараться сообразовать с их природой и особенно стараться о верном их определении, ибо они имеют громадное значение по отношению к следствиям; кажется, что начатое дело – наполовину сделанное дело, и многие исследования становятся ясными благодаря началам.
§ 8. Мы должны исследовать высшее благо не только путем умозаключения и посылок, но и обращать внимание на то, что сказано о нем [философами], ибо все действительно существующее согласуется с истиной, и не истинное тотчас выделяется от истинного. Блага делятся на три группы: на так называемые внешние, на психические и телесные; психические блага наиболее важные – и их по преимуществу мы называем благами. Действия же и психическую энергию мы относим к области души. Итак, можно утверждать, что наше определение верно, так как оно согласно с древним, принятым философами, определением, но столь же справедливо и утверждение, что цель [человеческой жизни] заключается в известных действиях и энергии, ибо таким образом цель помещена в число душевных благ, а не внешних; это наше определение подтверждается еще и тем, что про блаженного говорится, что он счастливо живет и успевает в жизни; при этом под счастливой жизнью разумеют успешную деятельность.
§ 9. Кажется, различные мнения, высказанные относительно блаженства, сходятся со сказанным нами: одни видят блаженство в добродетели, другие – в здравомыслии, третьи – в мудрости, четвертые – во всем этом вместе в связи с наслаждением или, по крайней мере, не без наслаждения; некоторые вносят в число условий блаженства и внешнее благосостояние. Одну часть этих мнений защищают многие древние философы, другую – хотя и не многие, но знаменитые. Невероятно, чтобы и те и другие в своих мнениях во всем ошибались; вероятнее, что то или другое или даже большая часть вопросов решалась ими верно. Что касается тех, которые считают блаженство добродетелью [вообще] или одной специальной добродетелью, то наше определение с ними согласуется, ибо деятельность, сообразная с добродетелью, причастна добродетели; но немаловажно различие в понимании высшего блага – как обладания или как пользования, как приобретенного качества души или же как энергии [деятельности]: ведь хорошее качество может быть в человеке, но бездействовать, как например, в спящем или по какой-либо иной причине бездеятельном. С энергией этого не может быть, ибо она по необходимости действует и стремится к благу. И подобно тому как на Олимпийских играх награждаются венцом не самые красивые и самые сильные, а принимавшие участие в состязаниях (ибо в их числе находятся победители), точно так же и в жизни только те достигают ????????????, которые действуют. Зато жизнь таких людей сама по себе приятна, ибо наслаждение – душевное состояние, и каждому приятно только то, что он любит; так, человеку, любящему лошадей, нравятся лошади, любящему зрелища – нравится театр; точно так же все справедливое нравится человеку, любящему справедливость, и вообще всякая добродетель нравится человеку, любящему добродетель. Наслаждения большинства людей, правда, противоречат друг другу вследствие того, что их наслаждения не суть таковые по природе, напротив того, люди, любящие прекрасное, наслаждаются тем, что по своей природе способно доставить наслаждение, а к таким предметам должно причислить действия, сообразные с добродетелью: они-то и нравятся подобным людям и прекрасны сами по себе. Жизнь таких людей вовсе не нуждается в наслаждении, как в каком-то украшении, ибо содержит в себе наслаждение. Сверх всего сказанного, тот человек нехорош, который не восхищается прекрасными поступками, точно так же, как никто не назовет справедливым того, кто не восхищается справедливыми поступками, или же щедрым того, кто не восхищается щедростью. Это справедливо и в других случаях. Если это так, то и действия, сообразные с добродетелью, должны быть сами по себе приятными, а сверх того, и хорошими и прекрасными, и притом каждое из указанных качеств им свойственно в высшей мере, если только верно наше утверждение, что о таких действиях судить хорошо в состоянии лишь хороший человек. Итак, блаженство лучше всего, прекраснее и приятнее всего, и эти три качества в нем нераздельны, как в эпиграмме в Делосе, которая гласит:
Справедливость прекраснее всего, лучше всего здоровье,
А приятнее всего – достичь того, что любишь.
Все это соединено в действиях, сообразных с добродетелью, а они-то или одни из них – наиболее высокие, и суть блаженство, как мы утверждаем. Однако кажется, что блаженство все же нуждается, как мы сказали, и во внешних благах, ибо невозможно или трудно человеку неимущему делать прекрасные дела, и многое может быть осуществлено лишь при помощи, так сказать, инструментов, то есть друзей, богатства и политического влияния: при отсутствии известных условий, как например, благородного происхождения, хороших детей, красоты, блаженство неполно; тот, конечно, не очень пригоден к блаженству, у кого вид непристойный, или кто неблагородного происхождения, или холост, или бездетен, а еще менее пригоден тот, дети коего и друзья или совсем дурны, или же если они, бывши хорошими, умерли. Итак, кажется, что блаженство нуждается, как мы сказали, и в подобной тщете; отсюда и возникает то, что одни приравнивают блаженство к внешним условиям счастья, а другие – к добродетели.
§ 10. Отсюда является затруднение объяснить, как возникает блаженство: можно ли ему научиться, или приобрести привычкой, или другим каким путем, или же оно дается какой-то божественной судьбой, или даже просто случаем. Конечно, если боги наделили чем-либо человека, то следует и блаженство считать даром богов, и тем более, что оно есть лучшее, чем владеют люди. Этот вопрос лучше рассмотреть в другом месте, но если бы даже блаженство не было даром богов, а приобретено было добродетелью, или обучением, или упражнением, то все же оно останется чем-то божественным. Ибо кажется, что цель и награда добродетели должны быть чем-то прекрасным, божественным и блаженным. В таком случае блаженство есть цель, общая всем, ибо все, не совсем лишенные добродетелей, в состоянии достичь его известным обучением и трудом. И если это справедливо, то лучше стать блаженными этим путем, чем случаем, а весьма вероятно, что оно справедливо, если только справедливо, что все в природе наилучшим образом приспособлено. То же самое можно сказать про создания искусства и всякой вообще причины, а тем более высшей причины; было бы ошибочно предоставить все лучшее и величайшее случаю; это явствует и из определения исследуемого нами объекта: ведь сказано, что блаженство состоит в известного рода деятельности, сообразной с добродетелью. Что касается остальных благ, то они частью необходимы, частью же играют роль пособий, полезностей и средств. Все это согласно с тем, что сказано в начале: там мы высказали мысль, что цель политики – наиболее высокая; ее главная забота состоит в том, чтобы придать гражданам известного рода хорошие качества и сделать их людьми, поступающими прекрасно; поэтому-то мы и не называем ни быка, ни лошадь, ни другое какое-либо животное блаженным, ибо ни одно из них не в состоянии принять участие в подобной деятельности. По этой же самой причине и ребенок не блажен, потому что он, в силу своего возраста, не может действовать подобным образом, а если же мы и назовем его блаженным, то лишь в надежде на будущее; поэтому необходима, как мы сказали, совершенная добродетель и совершенная жизнь, а так как жизнь подвержена многим изменениям и разнообразным случайностям, то может произойти, что на того, кому очень хорошо жилось, под старость обрушатся несчастья, как например, рассказывают в героических песнях про Приама; человека, испытавшего подобные бедствия и умершего в несчастии, никто не назовет счастливым.
§ 11. А может быть, вообще ни одного человека не следует считать счастливым, пока он живет, и должно, по выражению Солона, смотреть на конец. Но если даже и так, то спрашивается: может ли быть счастливым тот, кто умер? Не совершенно ли это нелепо, особенно для нас, полагающих блаженство в деятельности? Но даже если бы мы и не называли умершего счастливым и если Солон не это хотел сказать, а лишь то, что только тогда можно безошибочно назвать человека блаженным, когда он находится вне всяких несчастий и бедствий, даже и в этом случае остается некоторое затруднение. Ведь, кажется, и для умершего есть своего рода зло и благо, как например, почести или бесчестие, счастье или несчастье детей или вообще потомства, точно так же, как для человека живого, но не чувствующего [например, спящего]. Но вот и еще затруднение: человек, до старости счастливо живший и в счастье умерший, может подвергнуться разным превратностям судьбы по отношению к потомкам: одни из них могут быть людьми хорошими и получить в удел жизнь по заслугам, другие – наоборот; ясно, что их судьба во многом может отличаться от судьбы родителей; нелепо в таком случае и умершего подвергать превратностям судьбы и делать его то счастливым, то вновь несчастным; с другой стороны, утверждать, что нет никакой связи и ни в какое время между судьбой родителей и их потомков – также нелепо. Но вернемся к первому затруднению; может быть, оно уяснит нам и настоящее [затруднение]. Если же должно взирать на конец и считать каждого блаженным не постольку, поскольку он теперь блажен, а поскольку он ранее был таким, то как же избежать нелепости, что человеку счастливому в настоящее время нельзя приписать качества принадлежащего ему, не впадая в ошибку, и это только вследствие нехотения назвать счастливыми живущих, памятуя о превратностях судьбы и считая блаженство чем-то твердым и неизменным, в то время как одни и те же люди подвержены круговороту судьбы. Ясно, что если мы будем следовать за судьбами, то нам часто придется одного и того же называть то счастливым, то опять несчастным, и мы сделаем из блаженства своего рода хамелеона и нечто, не имеющее прочного основания.
Или, может быть, совершенно неверно сообразовать наше суждение с изменениями судьбы: ведь не в них состоит счастье или несчастье; они лишь нужны, как мы сказали, для человеческой жизни, в то время как блаженством управляет деятельность, сообразная с добродетелью, злополучием же – противоположное. Только что высказанное затруднение свидетельствует об истинности нашего определения, ибо ни в каком другом деле не проявляется настолько человеческая твердость и постоянство, как в действиях, сообразных с добродетелью; она нам кажется даже постояннее, чем науки; из подобных действий те ценятся выше всего, которые наиболее постоянны, ибо в них по преимуществу проходит жизнь блаженных людей. В этом, кажется, лежит причина, почему они [то есть подобные действия] не забываются. Итак, блаженный будет обладать искомым качеством, и он будет таковым в течение всей жизни, ибо он всегда или, по крайней мере, по большей части будет действовать и мыслить сообразно с добродетелью, а превратности судьбы отлично будет переносить, как вообще человек во всех отношениях хороший, про которого можно сказать, что он «совершенный и безупречный». Человеческая жизнь полна различных, частью больших, частью малых случайностей. Ясно, что незначительные счастливые случайности и также, наоборот, незначительные беды не имеют важности в жизни; зато большие и частые счастливые случайности делают жизнь более блаженной (так как они сами по себе украшают жизнь, а кроме того, ими можно воспользоваться для хороших и добрых дел), напротив того, великие бедствия уменьшают и омрачают блаженство, ибо они создают печаль и препятствуют многим действиям. Но и в таких обстоятельствах может проявиться прекрасная душа, как скоро человек станет бодро переносить великие и частые бедствия, и не вследствие равнодушного характера, а в силу благородства и великодушия. Если жизнь зависит от деятельности, как мы сказали, то ни один блаженный не может стать несчастным, ибо никогда не станет делать ненавистное и дурное.
Мы думаем, что тот истинно хороший и благомыслящий человек, кто с некоторым достоинством переносит превратности судьбы и всегда при известных данных обстоятельствах поступает наилучшим образом, подобно хорошему полководцу, который с предоставленным ему войском достигает наибольших военных успехов, или подобно хорошему сапожнику, который из данной ему кожи сошьет наилучшие сапоги; это справедливо и относительно остальных художников и ремесленников. Если это так, то счастливый никогда не может стать несчастным; он не станет и блаженным, если на него обрушатся несчастия Приама, однако все же не будет переменчивым, и нелегко будет лишить его блаженства случайными несчастьями, а разве только великими и часто повторяющимися; но, раз впав в несчастье, он не станет в короткое время вновь счастливым, разве только если ему удастся совершить великие и прекрасные дела в течение долгого и непрерывного времени. Итак, что мешает нам назвать счастливым человека, действующего сообразно с совершенной добродетелью, в достаточной мере наделенного внешними благами и притом действующего не в течение какого-либо срока, а в течение всей жизни? Или же следует прибавить: человека, жившего так и умершего так, ввиду того, что грядущее нам не ясно, а блаженство мы считаем целью во всех отношениях законченной? Если так, то блаженными, и притом блаженными людьми, мы назовем тех, которые имеют или будут иметь указанные качества. Пусть будет достаточно сказанного об этих вопросах. Все же, однако, кажется противоречащим общепринятым мнениям – вовсе не принимать в расчет судьбу потомков и всех друзей. Так как превратности судьбы различаются как количественно, так и качественно, и так как одни из них имеют большее значение, другие – меньшее, то распределение их на группы покажется обширной и даже бесполезной задачей; достаточно будет дать несколько общих точек зрения в крупных чертах. Одни несчастья имеют известное значение и влияние на нашу жизнь, а другие менее важны; то же должно сказать и о всех несчастьях, касающихся наших друзей; но разница в том, обрушится ли несчастье на живущего или на умершего, разница гораздо большая, чем в том случае, когда мы видим ужасы и беззакония в трагедии, или совершающимися в действительности. Должно, значит, принять в расчет и это различие, и еще большее затруднение – причастны ли вообще умершие к счастью или к несчастью. Из того, что сказано, следует, что даже если бы счастье и несчастье касалось хоть сколько-нибудь умерших, то все же лишь немного или незначительно, и притом это участие их или безусловно незначительно, или же таково лишь для них. А если же даже и не так, то все же это участие не настолько велико, чтобы сделать их из счастливых несчастными или же у блаженных отнять блаженство.
Итак, кажется, что благоденствие и бедствия друзей хоть несколько касаются умерших, но, однако, не настолько, чтобы сделать их из счастливых несчастными, или вообще не настолько, чтоб изменить их состояния.
§ 12. Разъяснив это, рассмотрим вопрос, следует ли блаженство относить к предметам, заслуживающим похвалы, или же скорее к предметам, заслуживающим уважения. Ясно, что оно не относится к возможностям. Все, что хвалимо, представляется известным качеством и хвалится по отношению к чему-либо. Справедливого, храброго и вообще хорошего человека и добродетель мы хвалим за их действия и дела, точно так же и сильного или быстрого и так далее мы хвалим за их качества и за то, что они имеют известное отношение к благу и к нравственному совершенству. Ясно это и из похвал, обращаемых к богам: они покажутся смешными в приложении к ним, и это потому, что всякая похвала возникает, как мы сказали, из известного отношения. Если такова природа похвалы, то она не приложима к самым высоким предметам, а им, как кажется, свойственно нечто большее и лучшее, ибо богов мы не хвалим, а почитаем блаженными и счастливейшими, точно так же мы почитаем блаженными и наиболее божественных людей. То же самое можно сказать и о благах. Никто не хвалит блаженства или справедливости, а считают их чем-то божественным и превосходным, чем-то стоящим выше всяких похвал. По этой-то причине и Евдокс справедливо причислил наслаждение к прекраснейшим предметам; он полагал, что оно лучше, чем предметы, заслуживающие похвалы, так как его не хвалят, хотя оно и принадлежит к числу благ; Божество и высшее благо он относил туда же, так как все остальное зависит от них. Похвала же принадлежит добродетели, ибо она делает нас способными ко всему прекрасному; хвалебные же гимны относятся в одинаковой мере как к душевной, так и к физической деятельности. Но рассмотрение этого вопроса скорее относится к науке, исследующей хвалебные гимны [риторике]. Для нас же ясно, что блаженство относится к предметам, заслуживающим уважения, и притом безусловно. Это следует, как кажется, и из того, что блаженство – начало [принцип], ибо к нему мы направляем всю нашу деятельность. Принцип же и причину благ мы называем чем-то божественным и заслуживающим уважения.
§ 13. Если блаженство состоит в душевной деятельности, сообразной с добродетелью, то мы должны исследовать добродетель; может быть, что мы тогда лучше поймем и природу блаженства. Кажется также, что истинный государственный человек более всего заботится о добродетели, ибо он хочет сделать граждан хорошими людьми, повинующимися законам: примером нам могут служить законодатели Крита и Лакедемона и другие, равные им по значению. Если этот вопрос относится к политике, то ясно, что наше рассуждение следует пути, которого мы намеревались держаться. Если мы говорим, что нужно исследовать понятие добродетели, то конечно, мы разумеем человеческую добродетель, ибо ведь мы исследуем благо человеческое и блаженство человеческое; но говоря о человеческой добродетели, мы разумеем не телесную, а душевную: ведь и блаженство мы определили как душевную деятельность. Если это так, то ясно, что политик должен в то же время знать несколько психологию, подобно тому, как тот, кто хочет лечить глаз, должен знать строение всего тела, и притом эти сведения для первого настолько необходимее, насколько политика выше врачебного искусства, поэтому образованные врачи усердно занимаются познанием тела. Итак, и политик должен заняться психологией, и притом заняться ради своего предмета, но настолько, насколько достаточно для исследуемого им объекта, ибо более подробное и внимательное занятие психологией отвлекло бы его только от его непосредственной задачи. Некоторые отделы психологии в достаточной мере изложены в экзотерических лекциях, и ими можно воспользоваться; например, можно заимствовать положение, что одна часть души неразумна, другая же разумна. Для настоящего исследования не имеет значения вопрос, отделимы ли эти части подобно членам тела и подобно всему протяженному, или же они не отделимы, и только мышление разложило их на два понятия, подобно тому, как в круге неотделимы выпуклая от вогнутой стороны линии. Одна часть неразумной души – растительная – обща всем существам: я разумею причину питания и роста; эту душевную способность необходимо принять во всем, что питается, и даже в эмбрионах, но ее же с большим основанием, чем какую-либо иную, должно принять и в существах вполне развитых. Итак, добродетель этой части души обща всем существам, а не специально человеческая. Кажется, что эта часть и способность человеческой души более всего деятельна во время сна; и хороший, и дурной человек менее всего проявляются во сне, почему и говорят, что половина жизни счастливых людей ничем не отличается от жизни несчастных, и это весьма естественно, ибо сон есть бездействие именно той способности души, в силу которой она называется хорошей или дурной; разница только в том случае, когда кое-какие слабые движения достигают все же души, и поэтому сновидения порядочных людей становятся худшими, чем других каких-либо. Но достаточно об этом. Оставим в стороне питательную часть души, так как она не имеет отношения к человеческой добродетели. Кажется, что и еще одна сторона души неразумна, хотя и стоит в известном отношении к разуму. Ведь хвалим же мы в человеке воздержанном и невоздержанном разум и разумную часть души, ибо он побуждает к истине и прекрасному. Но есть в этих людях, как кажется, нечто другое, помимо разума, что борется и противодействует ему. Как члены тела, разбитые параличом, повертываются в левую сторону, когда человек намерен передвинуть их вправо, точно то же происходит и в душе невоздержанных людей, страсти которых влекут их в сторону противоположную [разуму]. Разница только в том, что в теле мы видим это обратное движение, в душе же не видим; тем менее, однако, нужно будет и в душе признать нечто помимо разума, что противодействует ему и идет наперекор. Дальнейшие различия нас здесь не касаются.
Однако, как мы сказали, это нечто причастно разуму, ибо у людей воздержанных оно повинуется разуму, а у людей умеренных и мужественных оно повинуется тем охотнее, что в них все согласуется с разумом. Итак, и неразумная часть души двоякая: растительная, нисколько не причастная разуму, и страстная или, вообще говоря, стремящаяся, причастная, поскольку она повинуется разуму и слушает его: так [мы повинуемся] инстинктивно разуму отца или друзей. Наставления и вообще всякая похвала и хула указывают на то, что неразумная часть души несколько повинуется разуму. Итак, если следует допустить, что и эта часть души причастна разуму, то необходимо признать и разум двояким: с одной стороны, разумом властвующим и владеющим, с другой – повинующимся как бы отеческой власти. Следуя этому различию, нужно разделить и добродетель: одни добродетели мы назовем дианоэтическими [интеллектуальными], другие – этическими [волевыми] добродетелями характера. Мудрость, разумность и благоразумие мы отнесем к дианоэтическим, щедрость и умеренность – к этическим добродетелям. Говоря о характере кого-либо, мы не назовем его мудрым или разумным, а кротким или умеренным, а хвалим мы также и мудрого за приобретенное им качество. Добродетелями вообще мы называем похвальные приобретенные свойства души.
Книга II
[Разделение и определение добродетелей. Оправдание определения на примерах этических добродетелей]
§ 1. Итак, добродетель бывает двоякой: частью дианоэтической, частью этической. Дианоэтическая добродетель возникает и развивается по преимуществу путем обучения, почему и нуждается в опыте и во времени; этическая же слагается путем привычек; от них-то она и получила свое название, так как оно образовано мелким изменением слова «нрав» (????). Отсюда ясно, что ни одна этическая добродетель не дается нам от природы, ибо ни одно качество, данное природой, не может измениться под влиянием привычки, подобно тому как камень, имеющий от природы движение вниз, вряд ли может привыкнуть двигаться вверх, даже если кто-либо и захочет приучить его к тому, бросая его десять тысяч раз вверх; точно так же и огонь не привыкнет гореть вниз, и вообще говоря, ни один предмет не меняет своих естественных качеств под влиянием привычки. Следовательно, добродетели не даются нам от природы и не возникают помимо природы, но мы от природы имеем возможность приобрести их, путем привычек же приобретаем их в совершенстве. Вообще, все, что мы имеем от природы, то мы первоначально получаем лишь в виде возможностей и впоследствии преобразуем их в действительности. Это ясно на ощущениях; ведь не потому, что мы часто пользовались зрением или слухом, возникают в нас соответственные органы ощущений, но, наоборот, мы пользуемся ими, потому что имеем их, а не потому получаем их, что пользовались ими. Также и добродетели приобретаем мы путем предшествующей им деятельности, как вообще все искусства; ибо то, что мы должны делать научившись, этому мы научаемся деятельностью, например, архитектор [научается своему искусству] – строя дома, артист на кифаре – играя на кифаре. Точно так же мы становимся и справедливыми – творя справедливые дела, умеренными – действуя с умеренностью, мужественными поступая мужественно. Подтверждается это явлениями государственной жизни: ведь законодатели делают граждан хорошими путем привычек, и стремление всякого законодателя направлено именно к этому. Те законодатели ошибаются, которые не обращают должного внимания на привычки, и именно этим хорошее государственное устройство отличается от дурного. Далее, тем же самым путем и средствами, которыми возникает всякая добродетель и искусство, оно и гибнет. Игра на кифаре образует как хороших, так и дурных музыкантов; то же и относительно архитекторов и всех остальных, ибо хорошими архитекторами станут те, которые будут хорошо строить дома, дурными – те, которые станут это делать дурно. Если б это было не так, то не нужны были бы учителя и все сразу становились бы хорошими или дурными. То же самое и относительно добродетелей, ибо люди, поступая так, как это принято во взаимных отношениях, становятся частью справедливыми, частью – несправедливыми. Действуя в опасных положениях и привыкнув или испытывать страх, или же быть мужественным, одни становятся мужественными, другие – трусами. Так же дело обстоит и относительно страстей и наклонностей: одни становятся умеренными и кроткими, другие – невоздержанными и гневливыми, благодаря тому, что одни при данных обстоятельствах поступали так, а другие иначе. Одним словом, из одинаковых определенных деятельностей возникают им соответственные [приобретенные] свойства. Поэтому-то следует влиять на характер деятельности, ибо приобретенные свойства души зависят от различия деятельностей. Поэтому немаловажно, приучен ли кто-либо с первой молодости к тому или другому, напротив, это очень важно; от этого зависит все.
§ 2. Так как наша наука не имеет целью теорию [знание], как другие науки (ведь не для того мы рассуждаем, чтобы знать, что такое добродетель, а для того, чтобы стать хорошими людьми: в противном случае наука наша была бы бесполезною), то необходимо рассмотреть все, что связано с деятельностью человека, чтоб определить, как следует поступать, ибо, как мы сказали, от нашей деятельности зависят качества характера, приобретаемые нами. Что касается правила, что в деятельности должно следовать истинному разуму, то оно пригодно как общее положение, и о нем будет говорено позднее, а также и о том, что такое истинный разум и как он относится к другим добродетелям. Однако в том мы заранее должны согласиться, что всякое рассуждение, касающееся деятельности человека, обязано давать лишь общие, а не точные определения, как мы и говорили с самого начала, что должно требовать определения, сообразного с исследуемым предметом. Исследования же, касающиеся деятельности и понятия пользы, не представляют ничего твердого, как и исследования, относящиеся к здоровью. Если это справедливо даже относительно общего, то тем менее точности может заключать в себе исследование частных явлений, ибо они не могут быть определены никаким искусством или правилом, и каждый отдельный человек в своей деятельности должен иметь в виду обстоятельства точно так же, как и во врачебном искусстве и искусстве управления кораблем. Несмотря на это, должно оказать помощь настоящему исследованию. Должно, во?первых, обратить внимание на то, что подобные [вышеупомянутые] явления уничтожают сами себя недостатком или избытком. Мы должны при этом пользоваться указаниями ясного и конкретного для объяснения отвлеченного (??????): это мы видим, например, по отношению к телесной силе или здоровью: слишком усиленное или недостаточное занятие гимнастикой губит телесную силу, точно так же и недостаточная или излишняя пища и питье губят здоровье, в то время как пользование ими в меру рождает, сохраняет и увеличивает здоровье. Так же дело обстоит и относительно умеренности (?????????), мужественности и других добродетелей, ибо тот, кто избегает и боится всего и ничего не испытал, тот становится трусом, а тот, кто ничего не боится и идет на все, становится безумно-отважным; точно так же тот становится невоздержанным, кто предается всякому наслаждению и ни от одного не удерживается; напротив, человек, избегающий всякого наслаждения, становится бесстрастным (???????????), как аскет (о? ????????). Умеренность и мужество в одинаковой мере гибнут от избытка и недостатка, в то время как середина спасает их. Но не только зарождение, рост и гибель стоят под этими условиями и зависят от них, но и проявление этих добродетелей заключается в том же самом. Ведь это видно на других, более наглядных примерах, как например, на телесной силе: возникает она вследствие достаточного питания и больших физических трудов, и, с другой стороны, сильный станет к этому наиболее способным. То же самое и относительно добродетелей: мы становимся умеренными, воздерживаясь от удовольствий, но, став такими, мы будем наиболее способными воздерживаться от удовольствий. То же и относительно мужества: привыкая презирать опасности, мы становимся мужественными, а став таковыми, более всего будем способны противостоять опасностям. Наслаждение и страдание, сопутствующие деятельности, свидетельствуют о том, что указанные приобретенные свойства души возникают из деятельности, ибо тот умеренный человек, кто находит наслаждение в воздержании от чувственных удовольствий; тот, напротив, невоздержанный, кто при этом испытывает неудовольствие, и тот мужествен, кому доставляет наслаждение или, по крайней мере, не доставляет страдания противостоять опасностям; напротив, тот трус, кто при этом испытывает неудовольствие. Этическая добродетель имеет дело с наслаждением и страданием, ибо ради наслаждения мы поступаем дурно и вследствие страдания не выполняем прекрасного; поэтому-то и необходимо, как говорит Платон, тотчас с молодости вести человека так, чтоб он радовался, чему следует, и испытывал страдание, когда следует; в этом-то и заключается истинное воспитание. Далее, и из того уже ясно, что добродетель имеет дело с наслаждением и страданием, что добродетели касаются деятельности и аффектов, а всякому действию сопутствует наслаждение или страдание. Это же доказывают и наказания, действующие страданием: ведь наказание известного рода лечение, а лечение производится противоположным. Далее, мы уже ранее сказали, что всякое приобретенное качество души проявляется и имеет дело с тем, в силу чего качество становится худшим или лучшим; наслаждение же и страдание делают людей дурными в силу того, что они стремятся и избегают их, притом стремятся к тому, к чему не следовало бы стремиться, и избегают того, чего не следовало бы избегать, или делают это не вовремя, или не так, как следовало и так далее по всем категориям, которые разум применяет к подобным явлениям. Поэтому-то некоторые и определяют добродетель, как известного рода апатию и душевное спокойствие. Ошибка их заключается лишь в том, что говорят они это безусловно, не добавляя к этому определению положительных и отрицательных признаков, не указывая обстоятельств и вообще не давая более близких определений. Следовательно, добродетель есть то, что делает человека способным к совершенной деятельности по отношению к наслаждению и страданию, порочность же – противоположное. Сверх того, еще и следующее обстоятельство уяснит нам, что добродетель имеет дело с наслаждением и страданием: три понятия определяют наш выбор и наше уклонение от него: прекрасное, полезное и приятное, и три противоположных понятия: некрасивое, вредное и неприятное. Во всем этом хороший человек находит истину, дурной же ошибается, и в особенности по отношению к наслаждению, ибо это последнее обще всем животным и сопряжено, как следствие, со всем тем, относительно чего существует выбор; прекрасное и полезное в то же время и приятно. К тому же наслаждение смолоду возрастает вместе с нами, и чрезвычайно трудно уничтожить в себе это состояние, которым проникнута вся жизнь. Наслаждением и страданием управляются все наши действия, одни более, другие менее. Итак, вся этика необходимо должна рассматривать наслаждение и страдание, ибо немаловажно для деятельности, хорошо радоваться и страдать или дурно. Сверх того, с наслаждением бороться, говорит Гераклит, труднее, чем с гневом, а искусство и добродетели всегда имеют дело с тем, что трудно, и совершенство в этой сфере выше. Итак, и из этого обстоятельства можно заключить, что вся наука о добродетели и политика имеют дело с наслаждением и страданием; тот хороший человек, кто хорошо ими пользуется, а кто дурно, тот дурной. Итак, запомним, что добродетель имеет дело с наслаждением и страданием, что те же самые условия, в силу которых добродетель возникает, увеличивают ее или, если они действуют не надлежащим образом, губят ее, и что добродетель проявляется именно в том, из чего возникла.
§ 3. Но может быть, кого-либо затруднит то, что мы говорим, что человек становится справедливым, творя дела справедливости, и умеренным, поступая с умеренностью; если же он творит дела справедливости и умеренности, то он уже и суть справедливый и умеренный, подобно тому как люди, знающие грамматику и музыку, и суть грамматики и музыканты. Но разве дело, хотя бы в искусствах, обстоит так? Ведь может же кто-либо писать верно по правилам грамматики по случаю или по указанию кого-либо иного; он будет лишь тогда грамматиком, когда он пользуется верно грамматикой, сознавая грамматические правила, то есть когда он воспользуется правилами грамматики, находящимися в его сознании. Далее, есть разница между искусствами и добродетелями; в произведениях искусства совершенство лежит в них самих, и достаточно, чтоб эти произведения возникли сообразно правилам, лежащим в самом искусстве; недостаточно, однако, добродетельным действиям иметь известные качества, чтобы вместе с тем назвать их справедливыми и умеренными: необходимо, чтобы действующее лицо во время деятельности имело известное душевное состояние (??? ????): во?первых, чтоб оно действовало сознательно, во?вторых, с намерением, и притом с таким намерением, которое считало бы эти действия целью самой по себе [а не средством], и в?третьих, чтоб это лицо твердо и неизменно держалось известных принципов в своей деятельности. Все эти условия не перечисляются в других искусствах, за исключением одного условия – знания. Знание же имеет малое значение или вовсе его не имеет по отношению к добродетели, другие же условия немаловажны, но, напротив, составляют все. Эти-то условия и возникают в нас от частого повторения справедливых и умеренных действий. Итак, действия называются тогда справедливыми и умеренными, когда они таковые, какие мог бы совершить справедливый и умеренный человек; справедливый же и умеренный человек не тот, кто поступает так [ибо он мог бы поступать так и случайно], но тот, кто поступает так, как справедливые и умеренные. Итак, верно, что справедливым человек становится, творя дела справедливости, а умеренным – поступая с умеренностью, а без подобной деятельности пусть никому и в голову не приходит стать хорошим человеком. Большинство же людей не поступают так, а прибегая к теории, думают, что, философствуя, они могут стать людьми нравственными; точно так же поступают больные, которые внимательно выслушивают врачей, но ни в чем не следуют их предписаниям: как тело людей, лечащихся таким образом, не будет в хорошем состоянии, так и души тех, которые подобным образом философствуют [а не действуют].
§ 4. После этого следует рассмотреть, что такое добродетель. Душевные движения бывают троякого рода: аффекты (????), способности (????????) и приобретенные свойства (?????). Добродетель должна относиться к одной из этих групп. Аффектами я называю страсть, гнев, страх, отвагу, зависть, радость, дружбу, ненависть, желание, ревность, сожаление – одним словом, все то, чему сопутствует удовольствие или страдание. Под способностями я разумею то, что содержит в себе причину, в силу которой мы имеем эти аффекты, например, в силу чего мы способны испытывать гнев, или печаль, или сожаление. Приобретенными же свойствами души я называю то, в силу чего мы верно или дурно относимся к аффектам, например, к гневу: если мы слишком отдаемся ему или слишком мало отдаемся ему, то мы поступаем дурно; если же придерживаемся середины, то – хорошо, и подобным образом относительно других аффектов. Аффекты не суть ни добродетели, ни пороки, ибо ведь мы не в силу наших аффектов называемся хорошими и дурными, а называемся таковыми в силу добродетелей или пороков, и ведь нас не хвалят и не хулят за наши аффекты (ведь не хвалят же человека, испытывающего страх, и не безусловно хулят гневающегося, а лишь известным образом гневающегося), а за добродетели и пороки нас хвалят или хулят. Далее, гневаемся мы и страшимся не преднамеренно, добродетели же суть известного рода намерения или, по крайней мере, не без намерения. Сверх всего этого, мы говорим, что аффекты нас побуждают к деятельности, про добродетели же и пороки не говорится, что они побуждают нас к деятельности, а что мы находимся в известном состоянии. В силу того же самого добродетели и не суть способности, ибо нас не называют хорошими или дурными единственно в силу того, что мы способны к аффектам, и нас за это не хвалят и не хулят. Далее, способности мы получаем от природы, хорошими же или дурными мы не становимся от природы, как мы об этом ранее говорили. Итак, если добродетели не суть ни аффекты, ни способности, то остается лишь признать их приобретенными качествами души. Этим определено, что такое добродетель по своему родовому понятию.